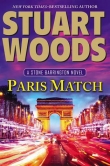Текст книги "Психиатрическая власть"
Автор книги: Мишель Фуко
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 31 страниц)
71 За два года до публикации трактата Ч. Р. Дарвина «О происхождении видов...» {Darwin С. R.On the Origin of Species by means of Natural Sйlection, or the Prйservation of Favoured Races in the Struggle for Life. London: J. Murray, 1859) Б. О. Морель выпустил кн.: Morel В. A.Traitй des dйgйnйrescences physiques, intellectuels et morales de l'espиce hum-aine, et des causes qui produisent ces variйtйs maladives. Paris: Bailliиre, 1857. В ней он определяет дегенеративность так: «Наиболее отчетливо мы можем представить себе дегенеративность человеческого вида как болезненное отклонение от первоначального типа. И это отклонение, сколь бы ни казалось оно элементарным с точки зрения своего происхождения, заключает в себе элементы передачи по наследству, такого рода элементы, что несущий в себе зерно дегенеративности постепенно теряет способность выполнять свою функцию в человеческом обществе, а умственное развитие, прекратившееся у него, оказывается под угрозой и у его потомства» (р. 5). Психиатрия последователей Мореля сомкнётся с эволюционизмом, однако лишь ценой отказа от представления о «совершенстве» как максимально точном соответствии некоему «первоначальному» типу в пользу, наоборот, его понимания как максимально возможного отдаления от «первоначала».
11 Dowbiggin I. R.Inheriting Madness: Professionalization and Psychiatrie Knowledge in Nineteenth-Century France. Berkley: University of California Press, 1991 (trad. fr.: Dowbiggin I. R.La Folie hйrйditaire, ou Comment la psychiatrie franзaise s'est constitute en un corps de savoir et de pouvoir dans la seconde moitiй du XIX siиcle / Prйface de G. Lanteri-Laura. Paris: Йd. Epel, 1993).
271
73 Достигнув апогея своего влияния в 1890-е гг., теория дегенеративности начала клониться к закату. Уже в 1894 г. ее подверг критике Фрейд в статье: Freud S.Die Abwehr-Neuropsychosen // Neurologisches Zentralblatt. 1894. Vol. 13. N 10. P. 362—364; N 11. P. 402—409 (trad. fr.: FreudS.Les psychonйvroses de dйfense/ Trad. J. Laplanche// Freud S. Nйvrose, Psychose et Perversion. Paris: Presses universitaires de France, 1973. P. 1—14). См. также: FreudS.Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie. Vienne: Deuticke, 1905 (trad. fr.: Freud S.Trois Essais sur la thйorie de la sexualitй / Trad. B. Reverchon-Jouve. Paris: Gallimard, 1923). В 1903 г. Жильбер Балле (1853—1916) писал в опубликованном под его редакцией «Трактате о ментальной патологии» (Ballet С,йd. Traitй de patho-logie mentale. Paris: Doin, 1903), что не видит никакой надобности в том, чтобы включать термин «дегенеративность» в психиатрический словарь XX века (р. 273—275). Ср.: Ginil-Perrin G.Histoire des origines et de 1'йvolution de I'idйe de dйgйnйrescence en mйdecine mentale. Paris: A. Leclerc, 1913.
Лекция от 23 января 1974 г.
Психиатрическая власть и вопрос об истин:: опрос и признание; магнетизм и гипноз; применение наркотиков. – Элементы истории истины: I. Истина-событие и ее формы: судебная, алхимическая и медицинская практик.. —II. Переход к технологии доказательственной истины. Ее элементы: а) процедуры расследования; б) учреждение познающего субъекта; в) отхдд медицины от понятяя кризиса; психиатрия и ее усто:: дисциплинарное пространство лечебницы, обращение к патологической анатомии; связь межуу безумием и преступлением. – Психиатрическая власть и иитерическое сопротивление.
Итак, мы проанализировали тот уровень психиатрической власти, где она предстает как власть, в которой и посредством которой вопрос об истине не поднимается. На определенном уровне, на уровне, скажем так, дисциплинарной работы психиатрического знания, функцией последнего является отнюдь не претворение некоторой терапевтической практики в истину, а скорее маркировка, придание психиатру признака дополнительной власти; иначе говоря, знание психиатра выступает одним из элементов, с помощью которых дисциплинарный диспозитив сосредоточивает вокруг безумия сверхвласть реальности.
Однако этот вывод оставляет за скобками ряд элементов, которые между тем имели место в исторический период, названный мною протопсихиатрией и продолжавшийся, в общем, с 1820-х до 1860—1870-х годов, до кризиса, вызванного истерией. Речь идет о сравнительно мелких, рассеянных элементах, в определенном смысле незаметных, не игравших значительной
18 Мишель Фуко
273
роли в организации психиатрической власти, и тем не менее я считаю, что именно они оказались опорными точками процесса внутренней и внешней трансформации этой власти. И в этих рассеянных, малочисленных, отдельных очагах перед безумием ставился-таки, вразрез с общим характером работы дисциплинарного диспозитива, вопрос об истине. Мне видятся три таких очага, хотя не думаю, что этим их число исчерпывается; но так или иначе до радикальных перемен в психиатрии к безумию обращались с вопросом об истине в трех случаях.
Во-первых, это практика или ритуал опроса и получения признания – наиболее важный и постоянный из этих трех методов, который вместе с тем никогда не заявлял о себе в психиатрической практике очень уж громко. Второму методу выпала скачкообразная судьба, и хотя в определенный момент он вышел из употребления, его историческое значение, связанное с его катастрофическими последствиями для дисциплинарного мира лечебницы, очень велико; это метод магнетизма и гипноза. И наконец, третьим, широко известным методом, по поводу которого, однако, история психиатрии хранила весьма показательное молчание, было не то чтобы постоянное, но все же общераспространенное с 1840—1845 годов применение наркотиков, в основном
эфира,1 хлороформа,2 опиума3 и опиатов,4 гашиша,5—целого
арсенала средств которые в течение десятилетия использовались в лечебницах едва ли не ежедневно и о которых историки психиатрии всегда старались помалкивать хотя наряду с гипнозом и техникой опроса они были еще одним элементом, спо-собствовавшим сITвигу иЛИ RO всяКОМ сJTV436 трансформации в
ПСихиЯТПИЧ6СКИХ
практике
Разумеется, эти техники двойственны, работают на двух уровнях. С одной стороны, они эффективно работают на дисциплинарном уровне; в этом смысле опрос призван привести индивида к норме его собственной идентичности. Кто ты? Как тебя зовут? Кто твои родители? В чем выражалось твое безумие? Таким образом индивида подключают и к его социальной идентичности, и к признанию им собственного безумия как вызванного его окружением. Опрос – это дисциплинарный метод, и его эффекты на этом уровне очевидны.
Гипноз, введенный в лечебницах XIX века очень рано, уже в 1820—1825 годах, когда он находился на совершенно эмпириче-
274
ской стадии развития и в целом отвергался медициной, использовался, несомненно, как вспомогательное средство физической, телесной власти врача.6 В этом расширенном до пределов лечебницы пространстве тела врача, в рамках процесса, посредством которого службы лечебницы работали подобно нервной системе самого психиатра, так что его тело составляло с больничным пространством единое целое, во всей этой игре гипноз с его физическими эффектами функционировал как часть дисциплинарного механизма. И возвращаясь к наркотикам – опиуму, хлороформу, эфиру, можно сказать, что и они, как это имеет место доныне, служили дисциплинарным орудием, помогали установить порядок, покой и тишину.
Но с другой стороны, три эти элемента, легко прочитываемые в лечебнице и введенные там, разумеется, в дисциплинарных целях, оказывали, просто потому что они использовались, иное действие – приносили с собой и аккумулировали, отчасти вопреки возлагавшимся на них функциям, некоторый вопрос об истине. И в связи с этим они представляются мне проводниками слома дисциплинарной системы, поскольку медицинское знание, будучи еще не более чем признаком власти, оказалось принуждено говорить уже не просто в терминах власти, но также и в терминах истины.
Теперь я предлагаю открыть скобки и предпринять, в очень сжатом виде, историю истины вообще. Мне кажется, можно сказать следующее: знание, подобное тому, какое мы называем научным, – это знание, которое, по сути, предполагает, что всюду, в любом месте и в любом времени, есть истина. То есть, точнее говоря, есть такие моменты, когда истина дается научному знанию легче обычного, точки зрения, позволяющие уловить истину легче или с большей уверенностью; есть наконец, орудия позволяющие выявить истину если она скрыта спрятана или погружена в глубину. Так или иначе для научной практики в целом истина всегда имеет место; истина непременно присутствует во всcm или за всем в отношении всего—в отношении
чего
vro л но о чрм тол kjco можно поднять вопрос о ней. Истина
275
*
может быть спрятана, труднодостижима, но это связано исключительно с нашими собственными пределами, с обстоятельствами, в которых мы ее ищем. Истина сама по себе пронизывает весь мир, нигде не прерываясь. В истине нет черных дыр. Поэтому для знания научного типа не бывает столь скудной, столь незначительной, эфемерной или случайной вещи, чтобы она не поднимала вопроса об истине, предмета столь далекого или в равной степени столь близкого, чтобы его нельзя было спросить: что есть твоя истина? Истина живет везде и всюду, даже в пресловутом обрезке ногтя, о котором говорил Платон.7 И это означает не только что истина вездесуща и вопрос об истине можно поднять всегда, но и что никому не принадлежит исключительная привилегия изречения истины, так же как никто заведомо не лишен права на ее изречение, при условии что он обладает орудиями, необходимыми для ее выявления, категориями для ее осмысления и адекватным языком для ее словесного выражения. Говоря еще более схематично, имеет место философско-научное полагание истины, связанное с определенной технологией построения или общепринятого нахождения истины, с технологией доказательства. Имеет место технология доказательственной истины, неразрывно связанная с научной практикой.
Но, как мне кажется, в нашей цивилизации существовало и полагание истины совершенно иного типа, которое, будучи несомненно более архаичным, нежели описанное выше, подверглось со стороны доказательственной технологии истины постепенному вытеснению или поглощению. И это полагание истины, обладающее, на мой взгляд, огромной важностью в истории нашей цивилизации, уже потому что оно оказалось поглощено и колонизировано другим, не мыслит истину дожидающейся нас везде и всегда – нас способных выследить и постичь ее где бы она ни находилась Оно полагает разъятую разрозненную пун-
КТирнУЮ исТИНУ кОТОРАЯ зЭХОВсШИВЭ.СТ иЛИ свеПШЗ.СТСЯ лишь
время от времени где ей вздумается то тут то там которая не имеет места везде, всегда и для всех, которая не ожидает нас, ибо предполагает собственные благоприятные моменты соб ственные места обитания собственных проводников и привиле-гированных носителей Это истина имеющая свoki геогпягЬию: дельфийский оракул 8 ичпекаишшй истину изрекГт ее тоЗо в Дельфах и не повторяет слова оракула из другой местности; бог,
276
что врачует в Эпидавре9 и говорит пришедшим к нему за советом, какова их болезнь и чем следует от нее лечиться, исцеляет и произносит истину только в Эпидавре и нигде более. Итак, это истина со своей географией, но также и со своим календарем, или во всяком случае хронологией.
Возьмем другой пример. В старой медицине кризисов – к ней я еще вернусь,– в древнегреческой, римской, средневековой медицине, всегда есть момент проявления истины болезни; это как раз момент кризиса, и ни в какой другой момент обнаружить эту истину нельзя. В алхимической практике истина тоже не дана, не ждет, пока мы придем и обнаружим ее; она, подобно молнии, быстротечна и по меньшей мере связана со случаем, кайрос,в момент которого и нужно ее постичь.10
Помимо собственных географии и календаря, эта истина имеет также своих исключительных и привилегированных проводников, операторов. Операторами пунктирной истины являются те, кто владеет тайнами мест и времен, те, кто прошел определенные профессиональные испытания, те, кто произносит внушенные слова или совершает ритуальные жесты, те избранные, на которых истина нисходит: пророки и прорицатели, невинные и слепцы безумцы, мудрецы и т. д. И эта истина с собственными географией календарем, проводниками и операторами не универсальна То есть не то чтобы редка но рассеянна: это ис-тина, свершаюшдяся как событие.
Таким образом, мы имеем истину-констатацию (доказательственную истину) и истину-событие. Эту пунктирную истину можно назвать также истиной-молнией, в отличие от истины-неба, универсально наличествующей в виде облаков. Есть две серии в западноевропейской истории истины. Серия открытой, постоянной, стройной, доказанной истины и – серия истины, относящейся не к порядку сущего, а к порядку случающегося, данной не в виде открытия, а в виде события, не констатируемой, а вызываемой, выслеживаемой, – скорее продукта, нежели апофантики; истины, которую не обнаруживают посред-ством орудий но призывают с помощью ритуалов заманивают уловками, постигают благодаря случаю. Такая истина требует не метода а стратегии; между истиной-событием и тем кто ею постигнут сам постиг ее или оказался ею поражен нет субъект-но-объектной
ЛДр1г ду ниМИ иМСбТ место не отношение
277
познания, а скорее отношение шока —молнии, вспышки; или отношение охоты, во всяком случае – рискованное, обратимое, воинственное; отношение владычества и победы, то есть, таким образом, не познания, а власти.
Историю истины нередко трактуют в терминах забвения Бытия: 11сторонники этого подхода, полагая забвение как фундаментальную категорию истории истины, облекают себя априорными привилегиями познания, так, словно забвение может состояться лишь при условии принятого, раз и навсегда установленного отношения познания. Поэтому, как мне кажется, они предпринимают историю только одной из двух серий, которые я попытался описать, а именно серии апофантической, обнаруживаемой истины, истины-констатации, истины-доказательства; они, собственно, и помещают себя внутри этой серии.
Я же пытался в предшествующие годы и хотел бы попытаться сейчас обратиться к истории истины со стороны другой серии, 12 вернуть права этой и в самом деле подавлявшейся, поглощавшейся, оттеснявшейся технологии истины-события, истины-ритуала, истины – отношения власти, наряду и в противовес истине-открытию, истине-методу, истине – отношению познания, которая, будучи таковой, предполагает субъект-объектную связь и располагается в ее рамках. Я хотел бы противопоставить истине-небу истину-молнию, то есть показать, что, с одной стороны, истина-доказательство, чью широту и силу, власть, которой она пользуется сегодня, бессмысленно отрицать, – что истина-доказательство, в целом тождественная в своем технологическом аспекте научной практике, в действительности проистекает из истины-ритуала, истины-события, истины-стратегии; и с другой – что истина-познание есть в сущности не что иное как одна из областей или сторон подавляющая с тех пор как онз. разрослась до гигантских масштабов, но все же лишь однэ. сторонз, или модальность истины кэ.к события и технологии этой истины-события.
Показать, что научное доказательство также является ритуалом, что считаемый универсальным субъект познания – это на самом деле индивид, исторически характеризуемый согласно ряду модальностей, что открытие истины – это одна из модальностей производства истины; восстановить под тем, что преподносится как констатируемая или доказательственная ис-
тина, фундамент ритуалов, квалификаций познающего индивида, системы истина—событие, – это я, собственно, и называю археологией знания. 13
Еще одна задача, которую я хотел бы осуществить, состоит в том, чтобы показать, как в ходе нашей истории, становления нашей цивилизации, и все стремительнее со времен Ренессанса, истина-познание разрасталась, чтобы в итоге приобрести свои нынешние масштабы; как она колонизировала истину-событие, паразитировала на ней и в результате сковала ее – возможно, навсегда и уж точно на время – подавляющим, тираническим властным отношением; как эта технология доказательственной истины захватила и вершит по сей день власть над истиной, технология которой тяготеет к событию, к стратегии, к охоте. Это можно было бы назвать генеалогией познания, являющейся необходимым историческим сопровождением археологии знания, и суть, а точнее, общие контуры которой я попробую представить вам в самом схематичном виде на материале нескольких исторических разборов. Разбор судебной практики позволит показать, как в этой практике постепенно складывались политико-юридические правила построения истины, в которых с установлением определенного типа политической власти начинает растворяться исчезать технология истины-выпытывания тогда как на смену ей приходит технология истины-констатации, ис-тины удостоверяемой свидетельствами и т п
Сейчас же, в связи с психиатрией, я хотел бы показать, как на протяжении XIX века истина-событие постепенно перекрывается другой технологией истины или по меньшей мере как технологию истины-события стремились перекрыть в обращении с безумием технологией доказательственной, констатируемой истины. Аналогичный анализ может быть предпринят – и я займусь этим в ближайшие годы – также по отношению к педагогике и детству.14
Так или иначе, с исторической точки зрения вы можете возразить мне: все это очень красиво, однако серия истины-выпытывания или события не имеет в нашем обществе сколько-нибудь существенных коррелятов, и если технологию истины-события и можно обнаружить в старинных практиках, скажем, у оракулов, пророков и т. п., то теперь это дела давно минувших дней, и к ним нет необходимости возвращаться. Но я с этим не со-
278
279
гласен и считаю, что в действительности эта истина-событие, эта технология истины-молнии долгое время упорствовала в нашей цивилизации и оказала на нее огромное историческое воздействие.
Во-первых, вернемся к юридическим формам, о которых шла речь только что и в предшествующих курсах: важно, что они претерпели очень глубокую, фундаментальную трансформацию. Вспомните, что я говорил по поводу раннесредневеко-вой юстиции, до XII века: средневековая процедура выяснения виновности или, точнее, назначения вины индивиду, разновидности которой объединяются термином «божий суд», вовсе не была методом действительного восстановления происшедшего. Дело состояло отнюдь не в том, чтобы воспроизвести в рамках «божьего суда» некий аналогом,картину реально случившегося как преступное деяние. «Божий суд» и подобные ему практики были процедурами, определявшими форму установления победителя в состязании двух участников тяжбы;15 даже признание не являлось в средневековых судебных техниках этого периода признаком или методом нахождения признака виновности 16 Пытки инквизиции не были формой рассуждения, практикуемой нынешними палачами: если пытаемый признает что он виновен, это и будет наилучшим доказательством более верным чем даже свидетельство очевидца; средневековые палачи добивались отнюдь не такого доказательства a fortior..Инквизитор-ская пытка устраивала между судьей обвиняемым или подоз-реваемым подлинный физический поединок правипя котпппт были разумеется не то чтобы надувательскими ноаб™3„о несоизмеримыми, без тени взаимного пявенст«я – п»™Гр целью выяснить выдержит пплотоеняемн*i vr,™,и™ н« ИГ ™ да тот сдавался,этоГстанти^ГнГ™^ „™«™ доказательством его винотГости T^.ZnZ^Tальным проигпкпнем ЛТй игре ™!flT -е-
позволял его п^гокппитГчят™™>с состязании' который и
ЭТИ ягт^™'п~.1 a'^n ^ во ВТ° РУЮ
это встраивалось в некоторую знаковую систему-
ьпг Ргп ™„ нтп Од кот°РУ юзнаковую систему: .ей LnV J,Sfn1 описанный проигрыш
ппогтп пос™й о а ПР Ям ЫМпризнаком виновности; он был ™ст™»п И С" СТаДИе И' послеДним эпизодом, заключением
п™п,Г! ™„ ° С"о ЛН0И Этатизацией уголовного суда
произошел переход от этой техники установления истины через
280
выпытывание к ее установлению через констатацию, через свидетельство, через доказательство. 18
Во-вторых, то же самое следует сказать и об алхимии. Почему собственно алхимия так и не была в полном смысле слова опровергнута химией, почему она не заняла место заблуждения, тупика в истории науки? Потому что она не соответствует и никогда не соответствовала технологии доказательственной истины, но всецело принадлежала технологии истины-события или истины-выпытывания.
Каковы в самом общем виде основные принципы алхимического исследования? Прежде всего это посвящение индивида, его духовная или аскетическая квалификация; он должен подготовиться к восприятию истины, причем не столько усвоением ряда знаний, сколько успешным прохождением предусмотренного ритуала.19 Далее, сама алхимическая операция, алхимический opus —это не достижение некоего конечного результата; это ритуальная инсценировка ряда элементов, в числе которых благодаря стечению обстоятельств, вмешательству случая, удаче или благословению, возможно, окажется истина, которая воссияет или промелькнет, словно решающий миг, в некий ритуально определенный момент, который тем не менее всегда неизвестен алхимику, – тот как раз и должен узнать этот момент и постичь истину.20 Поэтому, кстати, алхимическое знание всегда теряется и не следует тем правилам накопления, что свойственны знанию научного типа; оно всегда возвращается к исходной точке, всегда начинает с нуля, и каждый должен заново проходить полный цикл посвящений, ибо не может просто встать на плечи своих предшественников.
С единственной оговоркой: иногда алхимик словно бы выдает секрет, впрочем, всегда загадочный секрет, шифрованную формулу, которую можно счесть бессмысленной, но которая-то и заключает в себе самое главное. И этот секрет – настолько секретный, что даже узнать о том, что это секрет, можно лишь пройдя ритуальные посвящения, особую подготовку или при должном стечении обстоятельств, – как раз и выводит на путь к чему-то, что свершится или не свершится; причем, как бы то ни было, затем он вновь окажется утрачен или, как минимум, скрыт в некоем тексте или в таинственной формуле, которую случай впоследствии снова вручит как шанс, как древнегре-
281
ческии кайрос,кому-то, кто опять-таки узнает или не узнает ее. 21
Итак, все это свойственно технологии истины, не имеющей ничего общего с технологией научной истины, и поэтому алхимия никак не вписывается в историю науки, даже на правах предзнаменования или возможности. Однако в рамках знания, которое, быть может, еще нельзя назвать научным, но которое приближается к таковому, обступает границы науки и складывается одновременно с ее рождением, в XVIII веке, – я имею в виду медицину, – эта технология истины-выпытывания или истины-события остается в ходу довольно долго.
Она составляет самую сердцевину медицинской практики многие века, я бы сказал, от Гиппократа" до Сайденхема23 или даже до медицины XVIII века в целом, то есть на протяжении двадцати двух столетий.24 В медицине, – но не в медицинской теории, не в той среде, где вызревали такие дисциплины, как анатомия или физиология, а в медицинской практике, в отношении, которое врач устанавливал с болезнью, – долгое время сохранялось нечто, коренившееся эти двадцать два века в технологии истины-выпытывания и отнюдь не в доказательственной истине; собственно говоря, это было понятие «кризиса» или, точнее, совокупность сосредоточенных вокруг него медицинских практик.
Но что такое кризис в медицинской мысли после Гиппократа? Кризис – это, как известно, момент, когда определяется дальнейший ход болезни, когда решается вопрос о жизни, смерти или переходе недуга в хроническое течение.25 Является ли он эволюционным моментом? Не совсем. Кризис – это, чтобы быть точным, момент борьбы, битвы или даже решающий момент самой этой битвы. Борьба Естества с Недугом, сражение тела с болезнетворной субстанцией26 или, в терминологии медиков XVIII века, битва твердых тел с жидкими и т. п.27 И борьба эта происходит в определенные дни, ее дата предсказана календар-но, однако предсказание это двусмысленно поскольку дни кризиса в течении болезни обозначают некий естественный ритм, характерный именно для данной болезни и ТОЛЬКО ДЛЯ нС£ Ины-
ми словами каждая болезнь имеет
собственный
ных кризисов и у каждого больного кризиса следует ожидать
в свои дни. Так, уже Гиппократ различал среди больных лихо-
282
радкой одних, у кого кризис наступает в четные дни, и других, у кого он случается в нечетные дни; у первых, соответственно, день кризиса мог быть 4, 6, 8, 10, 14, 28, 34, 38, 50, или 80-м.28 Этот ритм предоставлял Гиппократу и всей следовавшей его законам медицине своего рода описание болезни, которое, конечно, нельзя назвать симптоматологическим и которое характеризует болезнь исходя из известной даты возможного кризиса. И та, таким образом, оказывается внутренним свойством этой болезни.
И кроме того, эта дата являлась случаем, который надо угадать, тем самым, что в греческой мантике называли благоприятным днем.29 Точно так же, как были дни, когда нельзя было вступать в бой, были и дни, когда кризис считался нежелательным; точно так же, как были плохие полководцы, начинавшие наступление в неблагоприятные дни, были и больные – или болезни – у которых в эти неудачные дни случался кризис; были плохие кризисы, с необходимостью приводившие к дурному исходу, – хотя, если кризис наступал в благоприятный день, это тоже не гарантировало выздоровления, – и становившиеся своего рода дополнительным осложнением. Такова игра кризиса – одновременно и внутреннего свойства болезни, и принудительного случая, ритуального ритма развития событий.
С наступлением кризиса болезнь обнажается в своей истинности; таким образом, это не только момент скачка, но также и момент, когда болезнь, я бы сказал, не «раскрывает» истину, которую до этого таила в себе, но свершается в том, что и составляет ее собственную, внутренне ей присущую истину. До кризиса болезнь может быть той или иной, она, в сущности, никакая. Кризис – это реальность болезни, становящейся в известном смысле истиной. И врач должен вступить в дело именно в этот момент.
Ведь какова в рамках техники кризиса роль врача? Он должен рассматривать кризис как подступ, практически единственный подступ к болезни. Кризис с его переменной продолжительностью, силой, разрешением и т. д. определяет характер вмешательства врача.30 Врач призван предвидеть кризис и, зная, когда он наступит,31 ждать этого дня, чтобы именно тогда дать бой и победить,32 позволив тем самым природе одержать верх над болезнью; иначе говоря, функция врача состоит в усиле-
283
нии энергии природы. Причем если чрезмерно усилить энергию природы, борющейся с болезнью, то может случиться непредвиденное. У болезни, в некотором роде истощенной, окажется недостаточно сил, чтобы вступить в бой, кризис не наступит, и чреватое гибелью состояние сохранится; поэтому следует тщательно соблюдать равновесие. Если дать природе слишком много сил, если ее мощь перейдет некоторый предел, то станут особенно яростными и движения, которыми она будет изгонять болезнь, так что больной окажется под угрозой гибели от самой этой ярости природы в борьбе с его болезнью. Не следует, таким образом, ни слишком ослаблять болезнь, которая тем самым может как бы избежать кризиса, ни слишком усиливать природу, ибо тогда кризис может оказаться слишком жестоким. И врач, как вы понимаете, выступает в рамках технологии кризиса не столько как проводник терапевтического вмешательства, сколько как ведущий и арбитр кризиса* Он должен предвидеть кризис, знать соотношение сил, предполагать вероятный исход и всячески способствовать тому, чтобы кризис начался в благоприятный день; ему должны быть ясны предзнаменования кризиса, и, зная, какой будет его сила, он призван сбалансировать борющиеся силы чтобы ход кризиса был именно таков, каким он должен быть.
Техника кризиса в древнегреческой медицине, таким образом, аналогична в своей общей форме технике судьи, арбитра в разрешении юридической тяжбы. В этой технике выпытывания присутствует своего рода юридическо-политическая модель, матрица, в равной степени приложимая и к поединку участников тяжбы в суде, и к медицинской практике. И в последней, так же как и в практике судебной, есть дополнительное осложнение: ведь врач как вы понимаете не лечит нельзя даже сказать, что он непосредственно борется с болезнью поскольку соперником болезни выступает природа; врач предвидит дату кризиса оценивает противоборствующие силы старается слегка изменить ход поединка или как минимум соотношение сил и в случае победы природы побеждает Выполняя роль арбитра врач и сам, в свою очередь, оказывается под судом – если вспомнить,
*В подготовительной рукописи к лекции М.Фуко добавляет: «и скорее следит за соблюдением правил, чем за происходящим».
что первым значением слова «кризис» как раз и является суд,33 и болезнь как бы выносит себе в день кризиса приговор, – под судом избранной им тактики боя, в котором может выйти победителем или побежденным болезнью.
В своем собственном бою с боем природы и болезни, в бою второго уровня, врач побеждает или терпит поражение с точки зрения описанных внутренних законов болезни и вместе с тем по отношению к другим врачам. И здесь опять-таки возможно сравнение с юридической моделью. Как вы знаете, судьи, если они судили плохо, могли подвергнуться дисквалификации и сами становились подсудимыми, которых оправдывали или приговаривали; практиковалось даже своего рода публичное состязание между противниками, правилами боя и судьей. Это двойное состязание всегда характеризовалось публичностью. И медицинское обследование, как можно судить о нем от Гиппократа до знаменитых мольеровских врачей – о значении и статусе которых, впрочем, можно спорить, – тоже неизменно проводилось с участием нескольких медиков.34 Другими словами, одновременно шли поединки природы с болезнью, врача с самой этой борьбой природы и болезни и врача с другими врачами.
Они сидели рядом, и каждый высказывал свое мнение по поводу того, когда наступит кризис, как он будет протекать и чем закончится. Известный рассказ Галена о том, как он добился успеха в Риме, при всем своем автоапологетическом характере кажется мне очень показательной иллюстрацией к этой своеобразной интронизации врача. Молодой и никому не известный врач из Малой Азии приезжает в Рим и принимает участие в медицинском состязании по поводу некоего больного. И после разноречивых предсказаний других врачей он, Гален, говорит, осмотрев молодого пациента: в ближайшие ДНИ у него начнется