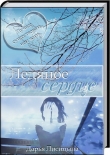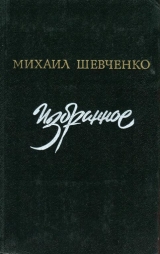
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Михаил Шевченко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 29 страниц)
И все же – он писал! И стихи его становились глубже, драматичнее. Суровость его пути, его бездомной жизни, скитания его по воронежским городишкам научили его работать в любых обстоятельствах – это было его спасение от гибели.
Любые обстоятельства – это с 1961-го по 1964-й – рудники и стройки…
Когда брат мне рассказал о случае с кирпичом, я вспомнил отличное его стихотворение, присланное мне в одном из писем.
В низкой арке забрезжило. Смена к концу.
Наши лица красны от жары и от пыли.
А огонь неуемно идет по кольцу,
Будто Змея-Горыныча в печь заточили.
Жадно пьем газировку и курим «Памир».
В полусонных глазах не причуда рассвета:
После камеры душной нам кажется мир
Знойно-желтого цвета.
Летний душ словно прутьями бьет по спине,
Выгоняя ночную истому из тела.
Ведь кирпич, обжигаемый в адском огне, —
Это очень нелегкое древнее дело.
И не этим ли пламенем прокалены
На Руси – ради прочности зодческой славы —
И зубчатая вечность кремлевской стены,
И Василья Блаженного храм многоглавый.
Неудачи, усталость и взрывчатый спор
С бригадиром, неверно закрывшим наряды, —
Сгинет все, как леса, как строительный сор,
И останутся зданий крутые громады.
Встанут с будущим вровень. Из окон – лучи.
И хоть мы на примете у славы не будем,
Знайте: по кирпичу из горячей печи
На руках эти зданья мы вынесли людям.
Какая «примета у славы»? О его бедах многие судачили со злорадством. А он, как мы видим, из своих бед добывал литые стихи. Он блестяще доказывал мысль о том, что поэзия – везде, даже в траве под ногами, и надо лишь разглядеть, нагнуться и поднять ее… Алексей Прасолов и видел, и нагибался, и поднимал!..
В 1961 году в Тамбове я получил письмо с обратным адресом: Воронежская область, Березовский район, Кривоборье, п/я ОЖ 118/2.
«Здравствуй, Миша!
Посылаю тебе поэму «Соловей». Как она удалась мне, со стороны видней. У нее своеобразная история. Я написал поэму с таким названием еще до педучилища и послал ее в «Пионерскую правду». Это было или в шестом или в седьмом классе. И с тех пор забыл ее почти всю, кроме сюжета да нескольких строф.
И вот однажды в поезде я услышал рассказ о почти таком же парнишке-партизане, и что меня особенно тронуло, так это то, что его звали Соловьем. Я дописывал поэму «Комиссар», начало которой читал тебе у себя дома, когда ты приезжал в Россошь. Конец ее не давался. И вдруг пошло складываться другое, да так, что еле успевал записывать. Это после переделок и стало началом «Соловья», написанного заново.
Поэму «Комиссар» в сокращенном и местами глупо искромсанном виде напечатали в сборнике «Наше время», который вышел год назад в Белгороде. Ее положили на прокрустово ложе, ну, да дьявол с ними. Эту я правил весь год с большими перерывами, что позволило мне глядеть на нее похолодевшими глазами критика. Не напечатал нигде. Я тебя очень прошу: насколько это возможно в твоих условиях, помоги ей взглянуть на белый свет. Если ты близок с И. С. Кучиным, покажи ее ему.
И еще просьба: не поскупись подробней написать о своей творческой жизни, о литературной обстановке в Тамбове. Я в моей нынешней дыре буду тебе очень благодарен.
Жду ответа о судьбе «Соловья» как приговора. Из всего, что у меня есть, эта почему-то мне впервые дорога.
Пожалуйста, напиши и – если можно – скорее. Жму творческую руку.
Алексей.
10.VII.61.
P. S. Черкни попутно о себе, не женат ли, как работаешь, здоров ли? Буду рад любой строчке. Давно мы не виделись, а жизни много всякой утекло – и сносной, и дурной. Будь здоров. А. П.».
Опубликовать поэму полностью не удалось. Корежить – не хотелось. Я написал Алексею об этом. Он согласился. В ней – при некоторой наивности – есть что-то светлое-светлое, что не может не быть дорогим.
Два года спустя я получил от Алексея маленькое письмо уже из Семилук с обратным адресом: п/я ОЖ 118/1…
Прошло еще три года. Прослышал я, что Алексей на свободе, что выход на свободу связан с Твардовским.
Укрупнили издательства. Тамбовское влилось в новое – Центрально-Черноземное, в Воронеже. В Тамбове успела выйти в 1964 году моя вторая книжка стихов. За два года написал новую – листа полтора. Оставаясь старшим редактором в тамбовском отделении, привез сборник в Воронеж. Это было в июне 1966 года.
Зайдя в издательство, неожиданно встретил Алексея. У него произошли в жизни очень важные события – освобождение от принудработ, встреча с Твардовским и выход книги стихов «День и ночь».
Мы долго не виделись. И, как он писал, жизни много всякой утекло – и сносной, и дурной. Потому сразу, как только выяснилось, что я не нужен в издательстве, мы пошли с ним в Петровский сквер, где тогда было кафе, заняли столик в уютном уголке под липой и отметили встречу.
Я всматривался в Алексея. Здорово он изменился. Прежде всего – лысый, совершенно лысый, и потому не расстается с беретом. Усталый взгляд; нервный, но ясная голова; чувствовалась его радость от того, что с ним произошло.
– Давай сначала о тебе, – предложил я.
– Что ж? Ты знал, что я был в местах не столь отдаленных. И не на равных правах со всеми. За что – не будем говорить. В общем, все за то же!..
Он говорил с опущенным взглядом. Говорил устало.
– Помнишь, я когда-то сказал тебе, что есть у меня друг?.. Это Инна Ростовцева. Она по-доброму относится ко мне. Добро это проявилось и на сей раз.
Алексей говорил отрывисто, волнуясь.
– Она приехала ко мне в колонию. Уезжая, взяла большую стопку стихов. Я ведь везде и всегда писал, ты это знаешь… Так вот. Вернулась она в Москву и – к Трифонычу. Поведала ему о моей судьбине… Тот при ней отобрал десяток стихотворений и направил их в набор. Свежаком… Ну, а дальше? Дальше, вынул меня о т т у д а, спасибо ему. И вот уже можно бы и поподробнее…
Он задумался, восстанавливая, видимо, подробности своей встречи с Твардовским.
– Ты можешь представить мое… 3 сентября 1964-го, два часа дня… Едва я вошел к нему, и сказал: «Прежде всего, спасибо за то, что я здесь стою…»
– А вы, – мгновенно ответил он, – садитесь.
У Алексея нависли слезы на ресницах. Он отпил глоток вина.
– Этого мгновенного ответа с его простым человеческим смыслом было достаточно, чтоб весь разговор наш прошел по-человечески!.. Самое главное, Миша, это – подборка в «Новом мире» и совет – учиться. Вот и все… Если хочешь, не сочти за похвальбу, в разговоре с ним я убедился – я всегда шел в поэзии единственно верным путем. Он меня убедил в этом. Вот и все.
Я смотрел на Алексея и видел перед собой счастливого человека. Подарил ему свою книжку «Спасибо тебе за цветы». Он достал из кармана свежую свою и тоже сделал надпись:
«Разными путями, но к одному. Да не разминемся. Самого лучшего, Миша! С любовью Алексей. 29.VI.66».
Я поблагодарил.
– Если уж раньше не разминулись, – сказал я, – теперь не разминемся.
– Я тоже так думаю, – ответил он.
По пути в гостиницу «Россия» он расспрашивал меня о моем житье-бытье.
Прощаясь с ним, я сказал, что сдал новую книжку в издательство. Но, чувствую, что-то тут не так…
Едва я возвратился в Тамбов, от Алексея пришло письмо, очень меня обрадовавшее.
«Здравствуй, Миша!
На другой день после твоего отъезда я пошел в издательство и сказал, что хочу рецензировать твой сборник. Там сразу согласились и даже поторопили, чтобы я написал рецензию в этот же день и сдал ее. Это я и сделал. Когда принес рецензию и рукопись, коротко сформулировал Семенову суть книги и суть рецензии.
Я не стал лавировать – это излишне. Просто я начал со смысла названия книги: к кому обращается автор? К родной земле? К Времени, веку? К той ли, что ввела в мир еще не испытанных автором чувств? Или, наконец, – к читателю?
Семенов, оказывается, имел в виду только последнее. Я раскрыл, расширил название книги в пределах поставленных впереди вопросов. Он согласился со мной, ибо понял.
В центре рецензии – тревога автора. Тревога о судьбах людей, убитых средой, своим временем, его жестокостью. Лермонтов – Хемингуэй – Бальзак.
Тревога во всем: в жизни, в любви. Подчеркнул искренность и живость поэтической интонации, взволнованность, которая передается читателю непосредственно, без всяких окольных приемов.
В конце сказал, что взволнованность автора порой приводит к излишним словам. Но подчеркнул, что мастерство с годами приходит, а чувство с годами уходит. Пожелал автору совмещать то и другое. И заключил тем, что книга должна идти к читателю.
Со мной согласились.
Дай бог книге доброго пути!
У меня перемен никаких. Ищу выход. Будем жить.
Всего доброго. Жму руку. Будь здоров во всем.
Алексей.
3.VII.66.
P. S. Ответить захочешь, пиши на Союз пис.: пр. Революции, 37. Вор. отд. СП».
Невольно остановился на тревожных словах: «У меня перемен никаких. Ищу выход. Будем жить».
Написал ему большое письмо. Благодарил за отзыв о книге. Всячески ободрял его, говорил о его книге, которую жадно прочитал в пути домой.
К концу года я очутился в Москве. Стал работать в правлении Союза писателей РСФСР. У Алексея подоспела вторая книжка в издательстве «Молодая гвардия», и он был принят в Союз писателей.
В день принятия я дал ему телеграмму. Убеждал думать о своем будущем. Желал доброго в будущем.
Это было в мае 1967 года.
В том же году мне довелось пережить большое горе. У брата Леонида, того самого, с которым учился Алексей, умерла жена, отравившись грибами. Умерла в 34 года, оставив маленькую дочку.
Брат живет в Сомово, под Воронежем. Будучи на похоронах, я написал письмо Алексею.
В Москву пришел тревожный ответ. Не складывались у него отношения с собратьями по перу. В чем-то, конечно, был виноват он сам. Но и среда наша – тоже хороша!..
«Здравствуй, Михаил!
Получил твое письмо, написанное проездом. Такая досада: хотел Леньке написать хоть пару строк – ведь у человека, который совсем недавно был у меня, такая беда… – и на тебе: у меня нет его адреса. Знаю только: п. Сомово, ул. Липецкая – и все.
Сейчас случайно обнаружил в редакции старый номер газеты с твоими стихами и портретом. Не знаю, есть ли у тебя, поэтому высылаю.
Ты говоришь, что надо думать о будущем. Мне очень нужны курсы. Но черт возьми, как все это делается – кем конкретно и когда я должен быть включен в список и оформлен? У меня был разговор с Г. Ладонщиковым, но тогда я еще не был в Союзе, книги еще не вышли и т. д. О курсах говорил мне и А. Т. Т. – нужное дело.
Воронежское отделение – это какая-то глухота и немота в этом отношении. До сих пор даже билет не вручили, хотя все давно оформлено.
Извини, что беспокою. Меньше превратных выводов о моей «болезни». Дело далеко не так, как кажется со стороны. Вот все. Работаю над новым. Получил телеграмму от А. Твардовского, чтобы слал стихи в окт. номер. Отослал. Что нового там, в Москве, и у тебя?
Всего доброго.
Алексей.
5.3.67 г.
г. Россошь».
Будучи консультантом правления Союза писателей РСФСР, я мог помочь ему поступить на Высшие литературные курсы. Об этом я сказал ему, когда Алексей вслед за письмом позвонил из Россоши.
– Я сделаю все, чтоб ты поступил. Но главное зависит от тебя!..
Главное – это его беда. В то время начиналась очередная кампания по борьбе с пьянством. Коснулось это и студентов Литературного института, и слушателей Высших литературных курсов.
– Я скоро должен быть в Москве. Поговорим, – сказал он по телефону.
Вскоре объявился сам. Пришел в правление к вечеру. После работы мы поехали ко мне, в Переделкино. Там я с женой жил в доме барачного типа. Мы ждали ребенка.
Добрались ко мне, когда уже смеркалось. Он настоял по дороге взять бутылку водки. Я вспомнил его «меньше превратных выводов о моей «болезни» и согласился.
Дома познакомил Алексея с женой и тещей. Они его, конечно, знали по моим рассказам. Оставил его в горнице, пошел на кухню помочь жене приготовить ужин. Возвращаюсь с тарелками к нему, а он сидит перед распечатанной и наполовину выпитой бутылкой. Я опешил.
– Алеша, ну что же это? Тебе что, не досталось бы?!
– А я ничего, – отвечал он невозмутимо.
– И ты мне говоришь о превратных выводах? – разозлился я, но тут же вспомнил своего дядю Леню, брата отца, и замолчал. Они походили друг на друга. И оба же были талантливыми людьми. Тот – инженер, этот – поэт. Дядя Леня помногу пил, никогда не лечился и не хотел лечиться. Говорить с ним об этом было нельзя. Он взвивался с яростью зверя. Пока ему пьянка сходила с рук. А Алексей столько уже перестрадал через нее, проклятущую…
Не стал я затевать трудный разговор при жене и теще. Это обидело бы Алексея.
Он переночевал у нас и наутро уехал. Но, будучи зачисленным на Высшие литературные курсы, он в первый же день приезда на занятия вместе с несколькими слушателями напился… И был отчислен с курсов. Чувствуя свою вину, а надо сказать, что чувство вины у него, трезвого и даже не слишком много выпившего, было почти болезненным, Алексей уже со мною никогда не заговаривал о курсах.
Он понимал свою страшную беду. Не раз пытался лечиться и снова – срывался. Не раз брал себя за горло и пробовал начать жизнь по-новому. Потому-то после очередного падения и ехал в новое место, где у него не было дурной репутации. Менялись районы работы – Россошанский, Аннинский, Репьевский… Вольно или невольно он уходил от журналистики, менялись профессии… Жил мыслью – подняться! Подняться в полный рост во что бы то ни стало!.. Об этом с предельной искренностью пишет он одному своему знакомому:
«Я уехал из Россоши… ведь мне неохота было изолироваться на время от вольной жизни, которую я порядочно испортил на глазах родных и знакомых. Это я решил делать после того, как подуправился с некоторыми личными делами, и на стороне, где меня могли знать, как приезжего. Я проработал ровно столько, сколько задумал, чтобы успеть получить гонорар за поэму. Получил, купил костюм и сам себе сказал: теперь пора… Мне нужно было горькое, но необходимое лекарство – изоляция на год, на два, чтобы окончательно очиститься от заразы, которая меня все больше захватывала…
И вот я 9 месяцев работаю зав. клубом. Никогда за последние годы не чувствовал себя так облегченно и спокойно. И, знаешь, у меня сейчас такое отвращение к прежней полутрезвой жизни, что не верю порой: неужели это со мной было?.. Сейчас много читаю и думаю. А думая, продолжаю писать. Есть уже 5 рассказов, блокнот стихов и несколько глав повести в прозе. Я готовлюсь к новой жизни – и с трезвой головой…»
Если бы рядом с ним был любимый и любящий человек!.. Но его нет. И снова – падение…
И снова – терзания: давно развалилась семья, страдает мать. А она, мама, все та же, любящая, ожидающая перемен в жизни сына…
Чертами теплыми, простыми,
Без всяких слов, наедине
О человеческой святыне
Она пришла напомнить мне…
Волею судьбы в 1968 году я стал ответственным секретарем редакции журнала «Наш современник». Сразу же написал письмо Алексею, просил присылать стихи. Он не замедлил откликнуться. Стихи были приняты, о чем я поспешил сообщить ему. Вот ответ:
«Здравствуй, Миша!
Извини, что я не смог сразу ответить тебе на письмо, в котором ты говоришь, что 4 стихотворения моих пойдут в первом номере «Нашего современника»…
Я после месячного лежания был в Воронеже на консультации. Диагноз тот же: очаги на верхушках обоих легких, в ограниченной форме, которая, по словам врачей, вполне поддается лечению. Положили снова в стационар. Болезнь – видимо, последствие гриппа, которым я переболел, простудившись в газетной командировке в марте. По крайней мере, с того времени я стал чувствовать жесткость дыхания и слабость. Я хотел уехать из Россоши еще в июле, но пришлось месяц пролежать в облбольнице – повысилось давление спинномозговой жидкости до 210. Откачали.
Впрочем, довольно о хвори. Здесь много трудных больных (особенно трудных характером и привычками). Насколько возможно, пишу. Не знаю, сколько придется лежать, но дело долгое.
Надо закончить рукопись новой книжки. Был в изд-ве, сказали, в новом году можно включить в план 1970 года.
В последнее время я не работал в местной газете, надумав уехать ближе к Воронежу. В обкоме обещали дать место в Рамони или в Семилуках. Но обещанное не вышло, а тут обнаружилась эта болезнь. Что впереди – житейское – не ясно. Пока оторван от всего…
Есть новые стихи, войдут в книжку. И странно, – когда представишь написанное, то видишь: большинство стихов писано в больницах, в условиях, далеких от литературы, но близких к жизни и смерти. Здесь мы за месяц похоронили троих. Я едва ли не один здесь из самых легких. Форма закрытая, свежая, начальная. Опять о болезни…
Надо преодолевать помехи, использовать больничный и свой внутренний режим и делать свое.
Что нового у тебя? Ты теперь отец, имеющий чадо – сына… Здоров ли он? Все там же ты ютишься с семьей – в скворечнике? Если так – неважно. Моя квартира закрыта и, наверно, на всю зиму…
Черкни, если будет о чем и когда. Я думаю, что буду здесь и в январе. Если что – сообщу. Привет твоей семье.
С уважением —
Ал. Прасолов.
24.XI.68 г. г. Россошь, Пролетарская, 57».
Обратный адрес – это адрес туберкулезного диспансера. После попытки учиться на Высших литературных курсах Алексей снова оказался в трудном, очень трудном положении: уходило здоровье.
В начале 1969 года появилась подборка его стихотворений в «Нашем современнике». Алексей тут же откликнулся. Из Морозовки. Заезжал к маме…
«Здравствуй, Миша!
Прежде всего, спасибо за приют, оказанный моим стихам, и за построчные. Весьма кстати. Я на днях съезжу в один из районов нашей области по поводу работы в газете. В Россоши это невозможно да и не нужно. Скорей бы обрести работу да нормализовать свою основную работу – творческую.
За время лечения и безработицы написал около сорока стихотворений. «Новый мир» еще не вышел, не знаю, идут ли там мои два стих., о которых мне говорила С. Караганова. Из литдрамвещания Н. Н. Котенко присылал письмо, предлагал дать новые стихи для передачи. Но – увы! – это было в те дни, когда я лежал в больнице, и письмо попало мне в руки поздно. Все же шесть стих. я послал им. Ответа пока нету.
Кругом глухо, не знаю, что даже деется на воронежском Парнасе. Литсреда – штука тяжелая, и если что родится в тебе, то только вне ее. Ладно, к черту. Потчую тебя стихами.
(Были присланы – «Пушкин», «О первая библиотека…», «Все без нее: и этот стих…», «Ты пришла, чтоб горестное – прочь…» – М. Ш.)
Всего тебе лучшего. Жму руку.
Будет минута – черкни по морозовскому адресу.
А. Прасолов.
25.II.69».
Прекрасна эта строка в письме: «Ладно, к черту. Потчую тебя стихами».
Стихотворения – одно лучше другого. Боже мой, по взлету его можно было предчувствовать конец. У подлинных поэтов это так часто: взлет таланта перед уходом…
Мать наклонилась, но век не коснулась,
Этому, видно, еще не пора.
Сердце, ты в час мой воскресный проснулось
Нет нам сегодня, нет нам вчера.
Есть только свет – упоительно-щедрый,
Есть глубиной источаемый свет…
Несколько стихотворений я снова направил в набор, и они потом, позже, вышли в журнале.
После россошанского тубдиспансера Алексею пришлось еще той зимой и весной полежать в другом диспансере, потом – в больнице в Воронеже.
И снова потянуло в Морозовку. Оттуда он и подал весть.
«Здравствуй, Михаил!
31 июля я приехал в Морозовку, где смогу пробыть до 20 августа. А потом съезжу в Воронеж. Весною, в мае, я почувствовал себя скверно, ушел из Терновки, где есть дрянненький диспансер, и в Воронеже лег в больницу, из которой вышел только 28 июля. Теперь снова надо куда-нибудь «втыкаться» в газету. Хотелось бы попасть в район поближе к Воронежу, например, в Рамонь. Но дадут ли что-нибудь в этом отношении в обкоме – не знаю. Неустроенность моя – бич мой.
Вчера день провел в ж.-д. клубе в обществе двух своих давних знакомых – Анны Ивановны и Лилии Ивановны. С последней ты, оказывается, вместе учился в Россоши. Хороший она человек. После праздничной суеты (вчера ведь был День железнодорожника), после концерта и кино мы сидели у нее дома, пили кофе и слушали Штрауса и Паганини. Я отстал от вечернего поезда и не жалел об этом. Лилия Ивановна говорила, что ты был у них в мае проездом, читал стихи. Я ничего вчера не читал, а слушал и смотрел: у них в клубе есть свежие голоса – в основном мужские, а женская половина имеет отличную танцовщицу Любу. Ты, надеюсь, видел ее тоже.
Таковы вчерашние впечатления.
Ты, конечно, получил мое письмо со стихами, посланное мною тебе перед тем, как я уехал зимой из Морозовки. В письме было несколько стихотворений. Как они тебе показались? Из «Нового мира» – мне тогда ответили, что два моих стиха пойдут в двенадцатом или в первом номере журнала, но не было ни в том, ни в другом. В Воронеже в будущем году должна выйти моя книжка «Во имя твое» – вся новая, сорок стихотворений. Москва в плане утвердила, договор оформлен, но деликатнейший Андрей Гаврилович с обворожительной улыбкой мурыжит мою душу вот уже который раз, не выдавая 25 процентов аванса. Вот и существуй в мире – прекрасном и яростном.
Черкни несколько слов: возможно ли опубликовать что-нибудь из ранее присланного или из того, что я могу прислать еще? До 20 августа я бы смог еще получить здесь твое письмо.
Жму руку. Всего доброго.
А. Прасолов.
4 августа.
с. Морозовка.
1969».
Мир воистину тесен. Алексей, оказывается, дружит с Лилей Мордовцевой (Глазко), – я действительно учился с ней в одной школе. Лиля – дочь одного из знаменитых не только в Россоши, а по всей Юго-Восточной железной дороге братьев Мордовцевых, паровозных машинистов, кавалеров ордена Ленина, – долгие годы руководит детским сектором в железнодорожном клубе. К ней привязываются ребятишки чуть не всей станции. Она создала клубы по интересам: «Магистраль» – это профессиональная ориентация, «Подросток» – овладение правовыми знаниями, «Кузнечик» – подготовка веселых вечеров и концертов.
Но самые увлекательные дела – выпуск рукописного журнала «Огонек» и проведение литературных часов на природе, – в степи, в лесу, у реки, посвященные временам года.
Приглашенный однажды для участия в них, Алексей и подружился с Лилей, с Лилией Ивановной.
В дружбе с ней раскрывались богатства души Алексея. Он совершенно естествен с ней, серьезен, шутлив, остроумен, внимателен… Это видно из его писем к Лиле.
Судите сами.
«Спасибо за письмо, за то, что Вы испытали хоть капельку радости от моих скромных (боялся: а вдруг – не совсем скромные!) строк на обороте фото и от очень скромных – тут я был более чем уверен! – подарков? Как Ваше здоровье, как переносите уколы? С песенкой? Ох, лукавите! Наверное, боитесь иглы? Нет, Вы, я верю, смелый человек. Ведь даже на планере в свое время парили над Россошью, а я в те годы, наверное, не раз видел это, задрав голову на крыше дедушкиного сарая или летном поле за автоколонной, и, конечно, не думал, что в 1970 году, 14 марта, вечером буду писать вот это письмо одной из бывших планеристок, которая теперь пришпилена к земле укольной иглой. Ага, уколол Вас! Это за то, что я горел желанием в детстве хоть раз оторваться от земли на планере, на самолете, на воздушном шаре, переделал десятки моделей геликоптеров, планеров, самолетов разных типов – от Пе-3 до ястребка Ла-5, от Ме-109 до Ю-88 и 89 (этих мастерил для мишеней – «сбивал» из арбалета, из самопала, из трофейной немецкой винтовки боевым зарядом, в котором наполовину убавлял пороха). Все было, даже два случая, когда я еле уцелел от брошенной мною гранаты и от немецкой мины, расстрелянной мною же из винтовки на реке Черная Калитва. О времена! Нас солдаты называли «второй фронт» и грозились отодрать за уши за эти проделки. А для нас это была настоящая, полная риска жизнь! У меня до сорок пятого года была трофейная винтовка, шесть лимонок и всякое другое добро. Вот ударился я в воспоминания! Это, наверно, потому, что Вы каждый день с детьми – с такими же, как мы когда-то, мальчуганами, заглядывающими в читаемое Вами письмо. Как летит время!.. Мы уже во сне не летаем… А я летал долго – лет до тридцати шести – во сне. И так легко было просыпаться после парения над землей! Сегодня моя знакомая сказала: «А вообще ты, когда идешь, когда сидишь, все кажется, хочешь из чего-то вырваться и улететь. Не замечал за собой?..» Видно, внутреннее выдается мной на глаза других, когда эти глаза внимательны и понимающи.
Мы опять с тобою отлетели,
И не дивно даже,
Что внизу остались только тени,
Да и те не наши.
Сквозь кристаллы воздуха увидим
Все, что нас томило,
Но не будем счет вести обидам,
Пролетая мимо.
Эх, жизнь!..»
Не правда ли, прекрасные воспоминания. А вот что он написал на обороте фотокарточки своей, – он говорит о надписи в начале письма:
Для Лилии Ивановны —
Такое бы случись! —
Переписал бы заново
Стихи свои и жизнь!..
А вот из другого письма – раздумье о книге друга, с которым он работал в молодежной газете в Воронеже:
«О книге Пескова «Путешествие с молодым месяцем» отдельно говорить – не нахожу для себя серьезного смысла. Весь Песков мне понятен с первой книги – «Шаги по росе». Свежо, зримо схвачено, во всем уловлен миг, момент, подан ярко. Но мне лично все это доступно в окружающей меня натуре и в натуре воспринимается мной, что полезней, что ближе, чем в той, даже талантливой подаче, что в книге. Меня больше тянет глубина человеческая и часто – исходящая как бы из натуры, собственной, идущая сквозь натуру, окружающую ее. Песков дальше, глубже не пойдет умышленно – там, в человеческом, – не его сфера. Потому он старается действовать на человека не изнутри его глубины, а извне, действовать именно этим, увиденным им в природе, ибо видеть ему приходится больше, потому что это стало его профессией. Видишь расширение его диапазона в пространстве земли – север, тропики, диковинки, как сувениры из тех мест, – все это проходит через песковскую опытную и чуткую душу и показывается…»
Алексей пишет Лиле обо всем, что можно и хочется сказать другу.
«…Прослушал несколько пластинок – «Хор охотников», первую и четырнадцатую (Лунную) сонаты Бетховена, и захотелось написать письмо Вам. Не знаю, как кого, а меня праздники угнетают, если я в них включаюсь, торжествовать хочется не ради праздника, а ради сделанного, а я в последнее время только и делаю, что пишу в газету…
Я не один. За другим столом сидит человек по имени Рая Андреева и читает Шиллера – скоро летняя сессия, а она – заочница ВГУ. Работает в нашей газете; в апреле мы скрепили свой союз…
Перебирал книги – сколько непрочитанного! Мне к тому же трудно быть исправным читателем: то есть тем, кто в темпе поглощает уйму книг, да и не всегда требуется много – хороших, приятных тебе авторов по пальцам перечтешь. Современных берешь, чтобы знать, как информацию.
Прав Солоухин в своих письмах из Русского музея, приводя слова Экзюпери о том, что возьми песню XV века и поймешь, насколько мы одичали…
Желаю Вам доброго лета, какое только может быть. В Россоши и в Хохле оно похоже – пыль да песок. Вылезть на Дон – рано. Перед окном отцветшие подснежники, которые мы с Раей посадили в холода, в самом начале весны. Зато сирень зазеленела дружно и скоро затенит палисадник…»
Как не благодарить Лилю, Лилию Ивановну за ее человеческую приветливость, с которой она всегда встречала Алексея!.. Приветливость давалась ей не даром. Были и раздоры с мужем и косые взгляды соседей по квартире. Но Лилия Ивановна оставалась человеком. Я был у нее в Россоши. С волнением вспоминала она Алексея, показывала кресло, в котором он любил сидеть, когда слушал музыку, любимые его пластинки с записями Кальмана и Штрауса. Вернувшись в Москву, я через несколько дней получил от нее письмо.
«Прошла бессонная ночь. В памяти ожили все встречи с Алексеем. И я не могу не написать тебе. Я старалась вспомнить, что я сделала доброго для Алексея. Оказывается, ничего.
Просто каждый человек должен иметь место или хотя бы маленький уголочек, куда можно прийти в любое время, посидеть, подумать или расслабиться, послушать музыку и почитать. У Алексея не было такого уголка, и он шел к нам. Садился глубоко в кресло, слушал музыку Кальмана или Бетховена и уходил со своими мыслями далеко-далеко от всех нас.
А когда жизненные невзгоды били его так, что он не мог молчать, Алексей приходил ко мне на работу. Взволнованный, быстро шагал по комнате, громко возмущался, потом садился на диван, говорил короткое «прости» и умолкал. Мне удавалось отвлечь его от мрачных мыслей. Он подходил ко мне, брал в свои ладони мои и говорил: «Спасибо, что ты есть».
Были и радостные встречи. Алексей читал стихи Цветаевой, Ахматовой, Жигулина, Щипачева и др., рассказывал об их жизни, рекомендовал, что прочитать, на что обратить внимание. Все светлое и радостное дарил мне Алексей, а не я ему…»
Читал я письмо Лили и думал: «Да, конечно, с Алешей было интересно. Но чтоб он стал интересен, нужен был тогда в Россоши Лилин оазис понимания…»
И все же – «Неустроенность моя – бич мой…»
«Ах, этот «деликатнейший Андрей Гаврилович с обворожительной улыбкой!» Прочитав Алешино письмо, вспомнил и я его недобрым словом, бывшего директора Центрально-Черноземного книжного издательства. Он допустил, что выбросили из плана изданий ту мою, благословенную Алексеем, уже подписанную редактором книжку, едва я успел вступить на землю Москвы. Дескать, вы живете теперь в столице, там и издавайтесь. Как будто московские издатели меня встретили на Казанском вокзале, подхватили под белы руки и повезли во все свои издательства… Почти десять лет я не мог выпустить эту книжку стихов.
Алексею было намного труднее. У меня была семья, работа, я был здоров. А он… он – совсем другое дело…
На вопрос матери Веры Ивановны – оставаться ли ей одной и жить с помощью сыновей или принять какого-либо старика, чтоб с ним легче было дойти до предельной черты, Алексей вынужден был сказать горькую правду: «Принимайте, мама. На нас не надейтесь…»
В последнюю встречу с ней, в октябре 1986 года, она тихо, почти шепотом говорила, вспоминая Алешу:
– Ох, сынок, сынок, лучше б я за тебя туда легла…
Вытирала слезы.
– Как же хорошо, что водку окоротили. Раньше бы… Раньше бы!..
А жизнь все-таки брала свое. В середине семидесятого года получил я письмо из дому. Моя мама писала:
«…да, в конце июля был у нас Прасолов. Работает где-то под Воронежем… теперь он женился, взял молодую. Учится в институте. Ждет новое наследство…»
Передо мной – последнее мне письмо от Алексея. Я был составителем сборника «Дня поэзии России» в 1970 году. Разговаривая с руководителем Воронежской писательской организации, я просил передать Алексею, чтоб он присылал стихи.
«Здравствуй, Михаил!
Посылаю в «День поэзии» стихи. Подсказал Гордейчев В., с которым говорил ты.
«Рассвет» прямо горячее. 31 декабря еду в санаторий для легочников – был на обследовании, советуют. Устал жутко.
А. Т. Т. над одним стихотв. – А. Твардовскому… Слышал – рак легких… Миша, ты понимаешь, что это для всей русской поэзии XX века!
Это стихотворение и другое – «И все как будто кончено – прощай…» Он сам отобрал в январе 1970 года для «Нового мира», но это было перед его уходом.
Будь здоров. Выбери сущее. Все мне дорого, что посылаю, – и «Рассвет», и «Огнище». Что только можно – сделай.
Храни тебя Поэзия, а ты – ее.
21 декабря 1970 г.
А. Прасолов.
Ворон. обл., Хохол,
редакция газеты «За коммун. труд».
«Храни тебя Поэзия, а ты – ее». В этой фразе мне слышалось последнее прощанье…