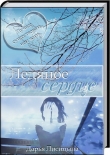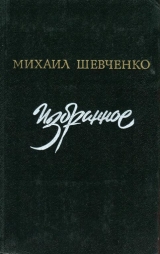
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Михаил Шевченко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 29 страниц)
«ОН НЕ СТОЛЬКО ЗНАМЕНИТ…»
(о Н. Глазкове)
Имя его впервые я услышал в самом конце сороковых годов, когда был первокурсником Литературного института им. А. М. Горького в Москве. Рассказывали о чудачествах его. Как-то в университетском студенческом общежитии на Стромынке был вечер одного стихотворения. Перед студентами университета выступали студенты нашего института. Все шло как должно идти. Подошла очередь выступать Николаю Глазкову. Он вышел на сцену и сказал:
– Я прочитаю вам самое короткое стихотворение.
И прочитал:
Мы —
Умы!
А вы —
Увы!..
Сначала в зале был шок. Мертвое молчание. Потом, когда поэт удалился со сцены, разразились шумные аплодисменты.
Из уст в уста передавалось четверостишие, написанное в веселой компании, когда стихотворцы решили якобы залезть под стол и написать по строфе – кто напишет лучше. Победителем этого весьма необычного конкурса оказался Глазков.
Я на мир взираю из-под столика —
Век двадцатый! Век необычайный!
Чем столетье интересней для историка —
Тем для современника печальней!..
В «Литературной газете» в те же годы в двух-трех статьях упоминалось имя Глазкова с сожалением, что талантливый, подававший надежды поэт разменивается на незначительные темы, губя свой талант. Однажды в чьих-то руках я увидел маленькую тетрадочку с орнаментом на обложке. Орнамент был сделан пишущей машинкой. Тетрадка напоминала детские украшения. Это были отпечатанные самим Николаем Глазковым его стихи, многие из которых позже выйдут в печати.
Стихи в той тетради, казалось, тоже были написаны ребенком. Вот кое-что из запомнившегося.
Сорок первого газету прочти
Или сорок второго.
Жить стало хуже всем почти
Жителям шара земного.
Порядок вещей неприемлем такой.
Земля не для этого вертится.
Пускай начинается за упокой,
За здравие кончится, верится.
Это тогда, в сорок девятом, воспринималось как сбывшееся уже детское пророчество с его чистой детской верой. В тетрадках были по-глазковски оригинальные вещи, а то – четверостишия, двустишия в духе глазковского кумира Велимира Хлебникова. И странно – они тут же запоминались и помнятся до сих пор.
Я могу писать как надо:
Здорово.
Я стихи могу слагать
Про любовь и про вино.
Если вздумаю солгать,
Не удастся все равно.
На поэтовом престоле я
Пребываю весь свой век.
Пусть подумает история,
Что я был за человек…
Многие стихи его – как бы ответ в споре, ответ тем, кто когда-либо упрекал его в чем-то, говорил о нем: «не от мира сего».
Был не от мира Велимир.
Но он открыл мне двери в мир.
Иногда он озорно играл словами и свободно.
Ночь Евья,
Ночь Адамья.
Кочевья
Не отдам я.
Табун
Пасем.
Табу
На всем!
Он ценил людей, которые его принимали таким, каков он был.
Да здравствуют мои читатели,
Они умны и справедливы:
На словоблудье не растратили
Души прекрасные порывы…
Его стихов в печати появлялось очень мало. Фамилия Глазкова чаще всего стояла под переводами со множества языков.
После института я оказался в Тамбове, работал в областной газете. Как-то по редакции пронесся слух: в отделе культуры – московский поэт Глазков.
Гости столицы всегда в почете в провинции. Интерес к ним велик. И на сей раз в отделе культуры собрались стихотворцы, работавшие в газете, и сотрудники.
Я увидел человека необычного. Чтоб он запомнился на всю жизнь, его надо было один раз увидеть и услышать. Сидел в кресле крупный, как бы раскрылившийся, человек. Взгляд пристальный, немного исподлобья. Протянул растопыренную пятерню, потом крепко пожал руку, по-ребячески улыбаясь: какова, мол, сила, а!..
Снова сел в кресло и снова перед нами – загадочный человек. Не то скоморох явился вдруг из русской истории. Не то юродивый из «Бориса Годунова». Не то Иванушка из русской сказки. В нем было все это одновременно. И говорил он медленно, глядя тебе прямо в глаза, ожидая, жаждая, чтоб ты сразу же откликнулся на то, что говорит, и выказывая радость, если видит, что ты понял его. Говорил с лукавинкой, порой грубовато, но умно, или с издевкой, с иронией. И всякий рассказец, устную новеллу сводил на детскую наивную похвалу себе. У него это получалось настолько искренне и по-детски, что ты принимал это не противясь, что часто бывает, когда иной собеседник хвастает перед тобой.
Он был в какой-то мере себе на уме. И часто доказывал это остроумной репликой, неожиданным стихом. Хотя позже, бывая с ним подольше, я ловил себя на мысли, что некоторые его остроты и афоризмы далеко не экспромты, а готовятся заранее. Но он преподносит их как экспромты и доволен, что этому верят, что впечатление неожиданности принимается. И опять же радуется по-детски.
Иногда он делал такие вещи. Брал, например, известные некрасовские стихи:
Назови мне такую обитель,
Я такого угла не видал,
Где бы сеятель твой и хранитель…
И вдруг – дальше глазковские строчки:
В длинной очереди не стоял…
Все кричат: за чем очередь?
А я говорю: зачем очередь?..
Сиял, видя, как это било в цель и, конечно же, запоминалось.
Однажды, уже немного познакомившись, я спросил у него, кого он считает наиболее значительным поэтом своего поколения. Он совершенно серьезно сказал:
– Не считая меня, Вася Федоров.
Тут же метнул в меня взгляд и с едва заметной улыбкой закончил:
– Между прочим, он мне на своей книжке написал: «Николай Глазков – пиит в нашем идеале. Он не столько знаменит, сколько гениален».
Прочитал стихи и откровенно засмеялся.
– А когда выйдет ваша книжка? – кто-то спросил.
– Не скоро.
– Почему?
– Нет бумаги, – сказал грустно. – И не скоро будет…
– Что так?
– Что? – он помедлил и неторопливо, как вслух раздумывая, продолжал: – Идет бумага не туда… Вот человек купил себе велосипед. Ему надо его зарегистрировать в милиции. В милиции ему говорят, чтоб он принес из домоуправления справку о том, что у него есть велосипед. А зачем такая справка, спрашивается? Какой дурак пойдет регистрировать велосипед, если у него нету велосипеда?.. Если бы отменить вот такие справки, то тогда бы можно было издать на той бумаге мою книжку…
В Тамбове у Николая Ивановича были друзья. Редактор молодежной газеты «Комсомольское знамя» был поклонником таланта Глазкова, изредка печатал его стихи. Николай Иванович, естественно, дорожил этим.
В дружеских отношениях был он с приветливой семьей талантливого художника-любителя Николая Ивановича Ладыгина. У него часто собирались и художники, и литераторы. Оба Николая Ивановича были хорошими шахматистами, и их баталиям не было конца. Глазков, выиграв, сыпал шутками, сочинял на ходу остроумные двустишия.
У Ладыгина была прекрасная библиотека, особенно по истории искусств, монографии художников чуть ли не всего мира. Собирали ее, главным образом, сыновья Ладыгина Борис и Леша, великолепные фотографы. Работы Бориса украшали не одну выставку. Много прекрасных снимков есть у них и с Николаем Глазковым.
Дружил Николай Иванович Глазков и с коллекционером Николаем Алексеевичем Никифоровым, с удовольствием давал ему автографы, дарил публикации.
Санчо Пансой Глазкова в Тамбове был Ульян Ульев. Николай Иванович ласково называл его Ульяночкой. Что бы когда бы ни понадобилось Глазкову или всей компании, он говорил:
– Ульяночка сейчас добудет.
И Ульян – в ночь, в полуночь – исчезал и возвращался, порой через час, два или три, то ли с нужной книжкой, то ли с бутылкой увеселительного напитка.
К этим людям Глазков относился с нежностью и вниманием. Я знаю, что у каждого из них не было праздника без шутливого стихотворного поздравления Глазкова. Если о ком-то из нас где-нибудь в печати говорилось доброе слово, Глазков часто аккуратно вырезал информацию или статью и присылал «виновнику». Он умел радоваться успеху товарища. Я никогда не замечал у него малейшей зависти.
Николай Иванович любил Тамбов. Не случайно, едва вышла у него первая книжка – «Моя эстрада», – он поспешил с ней к тамбовским друзьям.
Наезжая в Тамбов, он подарил мне книгу «Зеленый простор». Книга – не самая лучшая у него. Но было отрадно, что она вышла. Мне дорога его надпись на книге.
«Шевченко Миша – видно сразу —
Напоминает мне Тараса,
И для него совсем не плохо,
то он живет не ту эпоху.
26 июля 1961».
Еще у него была одна прекрасная черта. Он на всю жизнь помнил сделанное для него доброе дело.
В середине шестидесятых годов я стал работать в правлении Союза писателей РСФСР. Однажды зашел ко мне Николай Иванович и попросил послать его в Якутию. Он много и хорошо переводил якутских поэтов. Слетал туда. Вернувшись, сразу же зашел, рассказывал о поездке. Вскоре занес новую книгу стихов – «Творческие командировки».
Он охотно ездил по стране. Строчки «Кочевья не отдам я» – это суть его натуры. Кочевье питало его музу. У него немало стихов про Тамбов, есть стихи, посвященные и Ладыгину, и Никифорову. Он не забывал их добра.
В 1979 году мы одновременно с ним отмечали свои юбилеи. Мы родились в один день – 28 января, с разницей в десять лет. Он – в 1919, а я – в 1929 году.
Вместе с телеграммами друзей и товарищей пришло письмо от Николая Ивановича. Я знал, что он болен, и потому письмо особенно взволновало меня.
Естественно, я с благодарностью ответил ему поздравленьем.
В один день мы собирали гостей. Я позвонил Василию Федорову: пригласить его на свой праздник.
– Знаешь, – сказал он, – не обижайся. Но я иду сегодня на вечер к Коле Глазкову. Он очень плох…
Вскоре Николая Ивановича не стало.
Как-то на обсуждении очередного «Дня поэзии» Евгений Евтушенко, до́бро писавший о Николае Глазкове как о замечательном, самобытном поэте, сказал:
– Если бы мне поручили издать все лучшее, что есть у Глазкова, я представил бы его как очень, очень большого поэта!..
Такого издания, к сожалению, пока нет. Евгений Александрович сам много работает и, видно, руки не доходят до составления такого сборника, хотя он, повторяю, сделал хорошее дело, написав о поэте с любовью и уважением. Может быть, ему не удастся составить такую глазковскую книгу. Ничего. За него это сделает Время.
1985
ИЩУ ВЫХОД
(об А. Прасолове)
Есть у него такие строки:
Чем жесточе я сжимаю губы,
Тем вернее зреющая речь.
На всех немногочисленных фотоснимках он – сосредоточенный, как бы отстраненный, с плотно сжатыми губами. Жесточе сжимать губы заставляла его жизнь. Она же стала источником его зрелых стихов. Жаль, что не все, слышавшие их при его жизни, поняли их. Широко заговорили о них только после его ухода…
Снова невольно думаешь: «Ах, медлительные люди! Вы немножко опоздали…» Единственное утешение: как поэт он есть, как поэт он всегда будет.
Знакомство наше произошло сентябрьским днем 1947 года в Россошанском педагогическом училище.
Преподавательница педагогики Александра Ивановна Просфорнина зазвала меня в педкабинет и сразу за порогом взволнованно, округлив глаза, выпалила:
– Знаешь, Миша, на перьвый курс пришел мальчик…
Александра Ивановна была северянка. Она окала, укорачивала слоги в словах, слова «первый, во-первых» произносила с мягким «р», а учащихся называла мальчиками и девочками. Мы для нее были всей ее жизнью. Необычайно увлеченная педагогикой, она увлекала ею и нас. В году она была строга и педантична, гоняла, что называется, по всему материалу, но двоек никому в четвертях не ставила, зная, что это грозит учащемуся лишением стипендии. Мы ее любили. Многие из нас, уже окончив педучилище, переписывались с ней. И всем она что-то советовала, в чем-то помогала, кого-то ругала, кого-то женила, кого-то выдавала замуж, хотя сама прожила всю жизнь одна.
Ее квартира была рядом с училищем, и Александра Ивановна, как говорится, дневала и ночевала в нем. С гордостью носила она редкую тогда награду – знак отличника народного просвещения.
Увлеченностью ее было издание стенных газет и рукописного «Педагогического журнала».
В тот день она меня пригласила в педкабинет как раз по стенгазетным делам. И вот:
– …на перьвый курс пришел мальчик и, знашь, стихи пишет! Прямо как Маяковский, черт!.. А вот и он, гляди-ко!..
Она указала рукой на дверь. В двери стоял невысокий, щуплый, с большой лобастой головой парнишка. На нем были косоворотка, просторный в плечах серый поношенный, но чистый пиджак и черные брюки, заправленные в кирзовые сапоги. Это был Алексей Прасолов.
Нам предстояло – Александра Ивановна уже сагитировала и его – выпускать первый в том учебном году номер стенной училищной газеты. Из своей бездонной сумки Александра Ивановна высыпала на стол кучу ученических заметок. Договорились, что я буду их править, а Алеша будет оформлять газету. Он хорошо рисовал.
Сразу бросились в глаза его неразговорчивость, сдержанность; он редко улыбался. Позже я еще отмечу в нем всегдашнюю сосредоточенность; он старался быть в сторонке, не выскакивал наперед, не лез, как говорится, туда, куда его не просили. Но если ему что-либо поручали сделать, делал обстоятельно и добросовестно.
В тот же день выяснилось, что мы с ним почти ровесники: я всего лишь на год старше его; что треть дороги до дому мы можем с ним ехать или идти вместе. Я жил на станции Россошь, в трех километрах от училища, а Алеша – в Морозовке, еще километров шесть от станции. В хорошую погоду он ходил и в училище, и домой пешком, по лугу вдоль реки Черная Калитва, но чаще – ездил пригородным поездом до Райновской, а дальше до Морозовки – на своих двоих по проселку. Сейчас он покрыт асфальтом, а тогда… Надо было надевать сапоги да покрепче, особенно весной и осенью: грязь там черноземная…
В училище в ту пору училась молодежь разных возрастов и судеб. Гораздо позже при воспоминаниях о тех годах у меня сложились строки:
Прошагавшее всю Европу
Поколенье бывалых солдат
В классы шло – как будто в окопы,
В те, что помнят павших ребят…
Рядом мы, пацаны, исправно
Тянем лямку каждый урок.
И со старшими мерзнем на равных,
И на равных делим паек.
И преграды какие угодно
Мы берем на дороге своей.
Мы – фаланга самых народных,
Самых главных учителей!..
То, что завтра мы – главные учителя, напоминают нам и неугомонная «педагогичка» Александра Ивановна, и излишне шумливый, но искренний и добрый директор физик Павел Сергеевич Ширинский, волевая завуч математик Софья Ивановна Принцева (то время в училище мы называли временем «правления Софьи и Павла», – не случайно здесь на первом месте стояло имя «Софья…»), и всеобщий любимец училища преподаватель пения и музыки Павел Акимович Гребенник, который был к нам по-отцовски добр, выгораживал нас за юношеские проказы перед дирекцией.
Как-то директор настолько разошелся в объяснении с Павлом Акимычем, что затопал ногами. И тут Павел Акимыч, стоявший до того перед директором спокойно, переминаясь с ноги на ногу и разглядывая свою скрипку, тихо засмеялся – одними уголками губ.
– Чего вы смеетесь? – вскрикнул директор.
– Смешно… – поднял глаза Павел Акимович, – как вы кричите… На меня даже Луначарский так не кричал…
– При чем здесь Луначарский? – спросил было директор, но тут же устыдился своего крика и приутих. Директор вспомнил (ему рассказывали), что Павел Акимович в молодости работал в наркомате просвещения вместе с Анатолием Васильевичем.
Была у нас и еще одна любимая учительница – Нина Тимофеевна Шаповалова. Она преподавала русский язык и литературу. Влюбленная в свой предмет, она была прекрасна, как всякий влюбленный человек. Как-то из Воронежа приехала к нам инспекция областного отдела народного образования. После проверки уроков в училище некоторым преподавателям досталось на орехи. О Нине Тимофеевне на педагогическом совете было сказано высокими представителями, что она свои уроки проводит артистически. Это была, ко всеобщему нашему торжеству, правда. И на уроках, и особенно на занятиях литературного кружка (тут уж разговор не ограничивался сорока пятью минутами!) она была необыкновенна. Если она говорила о Катерине Островского, то мы сидели со слезами на глазах и видели перед собой Катерину. Если шла речь о чеховской «Чайке», то в облике Нины Тимофеевны перед нами была Нина Заречная!..
В портфеле Нины Тимофеевны всегда обнаруживались сборники стихов неизвестных нам поэтов, книги о ее любимых Чайковском, Чехове, Льве Толстом… Кстати, она уже тогда не корила Толстого за то, что он радовался материнскому счастью Наташи, ибо женщина – это прежде всего любимая и любящая мать!..
Этим преподавателям мы обязаны многим добрым, что сумели сделать после окончания педучилища. Мы – это недавние фронтовики. Мы – это мальчишки и девчонки военного и послевоенного лихолетья, среди которых были и Алексей, и я…
Да, всего два года назад закончилась война, которая не просто «где-то гремела», нет, она прокатилась через нас фронтами отступления Красной Армии и наступлением фашистских войск, семимесячной оккупацией, расстрелами и повешением мирных жителей (после изгнания немцев только в балке под совхозом «Начало» был обнаружен ров с четырьмя тысячами расстрелянных наших людей), фронтами освобождения нас и отступления захватчиков… Мы знали и голод и холод…
Военную форму еще не сняли вчерашние фронтовики – и преподаватели историк Алексей Александрович Заика, и биолог Александр Васильевич Мухин, и военрук Иван Трофимович Твердохлебов, и многие учащиеся, бывшие солдаты. В солдатских гимнастерках и галифе, в кирзачах щеголяли и мы, невоевавшие ребята, – больше надевать было нечего…
Летом сорок седьмого года мы жили в туристском лагере в Архиповке, помогали колхозу убирать урожай. У меня сохранились любительские фотоснимки. На них Алексей – еще не знакомый мне новичок училища, босой, в коротких, выше щиколотки, штанах, в короткой не по росту куртке и военной пилотке… Юный свидетель войны, он пытливо глядит на вас и ждет чего-то…
Солнечными днями мы еще с тревогой поглядываем на небо. Стало привычным ведь, что в хорошую погоду нас в середине войны на протяжении полутора лет бомбили почти каждый день. И вот теперь – неужели никогда не будет бомбежки?.. Не верится…
Только что миновал первый послевоенный 1946 год – год свирепой засухи… Я с опухшим от недоедания лицом, с опухшими ногами едва добирался до училища, а потом из училища – домой, где раз в сутки съедал свою порцию хлеба – пятьсот граммов – с голым, сваренным – в третий или пятый раз – на голых костях бульоном… И вот – отменены продуктовые карточки, можно сразу купить не триста или пятьсот граммов хлеба, а целую буханку. Тоже не верится.
А время обнажает все новые проблемы, новые сложности.
Появилось постановление о борьбе с засухой, о посадке лесозащитных полос, и мы вдохновенно беремся за дело.
Сейчас к шоссе, которое соединяет станцию Россошь и город, выходит прекрасный сосновый бор. Летом, когда дуют сильные южные ветры, он защищает город от песчаных заносов, – я помню эти бедствия накануне войны. Любуясь бором каждый приезд в родной город и вспоминая его в Москве, я с радостью думаю, что в бору растет добрая сотня сосен, посаженных мной…
Мы выезжали на посадку и в ближние степи. Позже там поднимутся лесные полосы, которые, к великому сожалению, из-за нашей нерадивости во многих местах погибнут, и земле от этого становится хуже…
В 1946 году, как известно, вышло постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград». Жестоко критиковалась работа их руководителей, их авторов. Везде проходили собрания, слышались гневные обличения. Их повторяли друг другу.
О большинстве писателей, упоминавшихся в постановлении, я к тому времени даже не слышал. Знакомы были только две фамилии.
Одна из них – Зощенко – напомнила мне чудесный рассказ о маленьком Володе Ульянове – «Графин». Я читал его в хрестоматии, в начальной школе. Я мучился вместе с Володей, нечаянно сказавшим неправду… И вместе с ним мне стало легче, когда он признался в своем проступке… Вспомнилось, как мы с ребятами хохотали у репродукторов, когда зощенковские юмористические рассказы читал артист Хенкин.
А летом в 1942 году, незадолго до оккупации нашего города немцами, мне попалась какая-то зачитанная до дыр газета со стихами Анны Ахматовой:
«Мы знаем, что ныне лежит на весах и что совершается ныне. Час мужества пробил на наших часах, и мужество нас не покинет. Не страшно под пулями мертвыми лечь, не горько остаться без крова, – и мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово. Свободным и чистым тебя пронесем, и внукам дадим, и от плена спасем навеки!»
Спустя несколько недель в Россошь ворвались немецко-фашистские войска, повсюду слышался лающий язык, на улицах немецкие колонны горланили про свою Лили Марлен… Я слушал их и шептал врезавшиеся в память слова: «…мы сохраним тебя, русская речь…» Они были созвучны словам, которые я слышал по радио еще в ноябре сорок первого:
«Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков…»
Ведь это же от них, от наших предков, – исконная русская речь, великое русское слово.
Ахматовские строки приходили мне на память и тогда, когда мы, мальчишки, спасали от немецкого сожжения книги родной школьной библиотеки. «Мы сохраним тебя, русская речь…»
При воспоминании обо всем этом в душе рождалось какое-то смятение, возникали вопросы, на которые я, семнадцатилетний, ответа найти не мог. Да и никто тогда не мог на них дать ответа.
Тогда же, в 1946-м, совершилось еще одно событие в нашей жизни – вышел томик произведений Сергея Есенина. Об этом поэте мы едва-едва слышали, теперь он захватил нас полностью. Томик карманного формата, прекрасно изданный! – мы с ним не расставались.
…Да, все это была наша жизнь. Но она еще не входила, не врывалась в наши стихи. В них было больше хотя и горячих, но общих слов. Мы смотрели вперед. Мы спешили туда!..
Богом Алексея в ту пору был Маяковский. Алексей по-маяковски рвет стихотворные строки, выстраивает лесенки. Пишет много. Остается после уроков в пустом классе и до вечера, а то и весь вечер, всю ночь, оставаясь в классе и ночевать, – пишет, пишет, пишет… Все в училище читают его стихи в нашей стенгазете, в педагогическом журнале. Мне повезло больше других. Мы подружились с ним, и я слушаю его стихи на переменах между уроками где-нибудь во дворе, в углу спортивного зала или по дороге из училища домой. В теплую погоду осени и зимы мы, бывало, идем с ним с занятий через лесопитомник к нам. Через питомник ближе идти – и тише. Кругом никого, и мы шпарим друг другу свои стихи, любимое из Маяковского и Симонова, из недавно открытого Есенина. В те дни и у Алексея, и у меня то и дело появлялось что-то в духе этих поэтов. Чем больше и явственней было видно в стихах их влияние, тем больший восторг вызывали наши стихи у сокурсников. Ни они, ни мы и не подозревали, что это как раз и плохо – это всего лишь подражание, ничего не стоящее в поэзии. Свою наивность нам предстоит еще понять. Потом мы поймем и суть выражения – искать себя в поэзии, в литературе. Все это – впереди.
Постепенно я узнаю о жизни Алексея. Мне становятся понятными и сдержанность его, и замкнутость, и вообще – серьезность.
Алексей родился в селе Ивановке соседнего, Кантемировского, района. Потом семья переехала в Морозовку – это рядом с Россошью. Алексею был год, когда отец, уйдя на действительную службу, не вернулся домой. Злые языки оклеветали перед ним Алешину мать. Алеша рос, не ведая отцовской ласки. Через много лет он скажет об этом в стихах.
Итак, с рождения вошло —
Мир в ощущении расколот:
От тела матери – тепло,
От рук отца – бездомный холод…
Кричу, не помнящий себя,
Меж двух начал, сурово слитых.
Что ж, разворачивай, судьба,
Новорожденной жизни свиток…
И судьба разворачивала…
Раннее осознание нужды и семейных забот накладывает свой отпечаток на характер мальчика, делает его не по годам взрослым. Алексея напомнил мне мальчишка-старичок из рассказа Андрея Платонова «Возвращение».
Рос Алексей послушным и тихим. В детстве много рисовал. Еще в школе начал писать рассказы и печатался в школьной стенной газете. Учеба давалась легко, особенно любил литературу. Когда задавали на дом сочинения, он уединялся в самый укромный уголок.
Очень любил мать, во всем старался облегчить ее страдания.
Позже мать выйдет вторично замуж. Появится у Алексея брат Иван. Но радостей с ним не прибавится. Брат Иван задался, как он говорил, непутевый: шкодил и в семье, и на улице, и в школе, то и дело убегал из дому…
Когда началась война, на фронте погибли и отец, и отчим. Отчима Алексей в разговорах со мной вообще не вспоминал, а об отце говорил редко с обидой, больше с печалью.
Как-то я сказал ему:
– Когда я читаю лермонтовские стихи «Ужасная судьба отца и сына жить розно и в разлуке умереть», мне всегда кажется, что это и про тебя…
– Да, это и про меня, – грустно подтвердил он.
Спустя годы я прочитаю пронзительные стихи об отце, которые, может быть, зародились в этом нашем разговоре. Эпиграфом к ним взяты строки Лермонтова: «Ужасная судьба отца и сына…»
Ветер выел следы твои на обожженном песке.
Я слезы не нашел, чтобы горечь крутую разбавить.
Ты оставил наследство мне —
Отчество, пряник, зажатый в руке,
И еще – неизбывную едкую память…
Лермонтовская тема одиночества отца и сына перекликается и с лермонтовской сыновней гордостью за отца гражданина. У Лермонтова: «Но ты свершил свой подвиг, мой отец, постигнут ты желанною кончиной».
У Алексея:
Пролетели года.
Обелиск.
Траур лег на лицо…
Словно стук телеграфный
Я слышу, тюльпаны кровавые стиснув.
«Может быть, он не мог
Называться достойным отцом,
Но зато он был любящим сыном Отчизны…»
Недавно я был в Морозовке у мамы Алексея. Нелегко было ей видеть сыновнего ровесника и однокашника. Нелегко было и мне. Старая женщина, как это чаще всего бывает, вспоминала сына маленьким.
– Такий був ласковый. Щоб мое горе угомонить, всэ книжки душевни мэни читав. А то було размечтается и строит планы, як хорошэ жить мы будемо, коли вин выростэ да доучится. В жизни всэ должно буть по правди, казав Алеша… Ох, сынок, як бы так и було!..
Мне стало понятно, откуда появились строки в стихах об отце.
Я один вырастал и в мечтах,
Не сгоревших дотла,
Создал детское солнечное государство.
В нем была Справедливость —
Бессменный взыскательный вождь,
Незакатное счастье светило все дни нам,
И за каждую, даже случайную ложь
Там виновных поили касторкой или хинином.
Рано сердцем созревши,
Я рвался из собственных лет.
Жизнь вскормила меня, свои тайные истины выдав,
И когда окровавились пажити,
Росчерки разных ракет
Зачеркнули сыновнюю выношенную обиду…
Да, узнав о смерти отца, Алексей уже не винил его…
Алексея по-родительски приняли в моей семье. Особенно мама моя, которая сама выросла сиротой.
– Який же гарный хлопец, – восхищенно говорила она. – И скромный, и умница. Хай до нас приходэ частише.
К приходам Алексея она что-нибудь приберегала вкусненькое, что можно было приберечь в те времена, – то кусочек халвы к чаю, то с десяток груш.
Когда у нас Алексей оставался ночевать, она стелила ему на сундуке (больше положить его не на чем было) все самое мягкое; щедро подливала керосину в лампу, зная, что мы засидимся до глубокой ночи, а то и до утра. Иногда простирывала ему рубашку или носки.
У меня была уже тогда небольшая библиотека, и Алексей охотно рылся в книгах. Часто брал фамильную, как он говорил, – «Кобзарь» Тараса Шевченко на украинском языке, – уходил в сад и подолгу читал один. Он, как и я, на украинском читал свободно, – мы ведь выросли в украинских семьях, среди украинцев, которых много живет на юге Воронежской области.
По праздникам мы пели под баян – украинские песни и русские, песни военного времени. Пели папа мой, мама и я. Алексей иногда слегка подпевал. Чаще – слушал. Он любил пение. Особенно нравилось ему «Вниз по матушке по Волге», «Рэвэ та стогнэ Днипр широкый» и «Эх, дороги…».
Быстро пролетел год. Я закончил педучилище. Аттестат с отличием давал мне право без вступительных экзаменов попасть в вуз. Едва получив аттестат, я послал его в Московский университет на филологический факультет и был уверен, что я уже студент. Ведь предо мною – никаких преград.
Проходит июль. Август. С Алексеем не видимся. Он проводит каникулы дома, в Морозовке.
Мне ответа из Москвы все нет. Волнуюсь страшно. Сердце что-то предчувствует нехорошее. И вот наконец в начале сентября приходит ответ: отказ в приеме. На основании такого-то постановления я должен после окончания специального учебного заведения отработать три года. Но ведь я же отпущен учиться! Нина Горбань, закончившая, как и я, училище с отличием, поехала работать, а меня районо отпустило в вуз. Я на радостях забыл к аттестату и заявлению приложить справку об этом. Так почему же ее не востребовали? Было же два месяца времени!..
В отчаянии пытаюсь выехать в Москву – не могу, не достать билета на поезда. С горя еду в Ростов – туда билеты продаются свободно. В университете мест на филологическом факультете нет, предлагают место на физмате. Отказываюсь. Сутки не пробыв в Ростове, возвращаюсь в Россошь. Уже 9 или 10 сентября иду в Россошанский учительский институт. Принимают на литфак – директор института был у нас на выпускном и запомнил меня. Но на душе мерзко. Все кажется не тем… Перехожу на истфак – то же самое…
И тут-то встречаю на улице директора педучилища. Рассказываю о своем положении. Павел Сергеевич приглашает меня работать в училище. Кем? Преподавателем пения и музыки.
Да, в педучилище я успевал по музыке. Прилично играл на скрипке, знал методику преподавания.
Говорю о директорском предложении дома. Мама – в слезы: «Не надо мэни твоих грошей, учись… Мы, неграмотные, оцэ як живэм?..» Отец: «Ну, шо ж, девятьсот рублив на дорози не валяються…»
Кажется, 1 октября 1948 года меня приводит в класс второго курса заведующая учебной частью.
– Прошу любить и жаловать нового преподавателя пения и музыки, – сказала завуч. – Михаил Петрович Шевченко…
Первые глаза передо мной – удивленные глаза Алексея. Да, дорогой, вот так. Вот мои университеты!..
Когда завуч ушла, я сказал ребятам, которые знали меня, как облупленного, и которых так же знал я:
– Что же… При учителях зовите уж меня по имени-отчеству… А вообще я остаюсь для вас просто Мишкой…
Год преподавал я в педучилище. Петь у доски Алексея никогда не заставлял. На скрипке он играл неплохо. Он любил музыку и чувствовал ее до слез.
А звать он меня стал по имени-отчеству даже наедине. Потому и в первых ко мне в институт письмах он обращается ко мне на «вы». Позже все снова станет на место…
Осенью я уехал в Литературный институт. Кстати сказать, чертову справку об отпущении на учебу я опять не приложил к заявлению. Но в Литературном институте ко мне подошли по-человечески. В первый же день по приезде завуч института Сергей Иванович Халтурин вызвал меня и потребовал такую справку. Иначе-де отчислим. Конечно, мне из училища тут же прислали ее.
Прощание с Алексеем было грустным, хотя он и рад был за меня. Нам уже – в разлуках – не хватало друг друга. Расставаясь, надеялись на встречи. Работать в школе Алексей не собирался. Может быть, и у него впереди – Литературный…