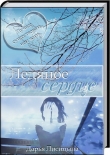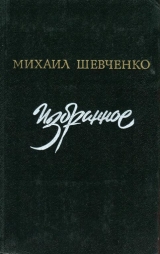
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Михаил Шевченко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 29 страниц)
ВОРОНЕЖСКИЙ ВЕЧЕР
(о Н. Рыленкове)
Осенью 1963 года в Воронеже проходило выездное заседание секретариата правления Российского союза писателей. Секретариат обсуждал творчество литераторов Центрального Черноземья.
В Воронеж съехалось много писателей. Заседания, доклады, выступления… Это событие вызвало в сравнительно спокойном областном городе суету и шум.
Жили все в гостинице «Россия», красивом современном здании в центре города. Оживленность литературной встречи перенеслась и сюда, дискуссии продолжались в номерах гостиницы.
К концу второго дня участники заседания изрядно приустали, особенно периферийные писатели, не привыкшие к заседательской насыщенности.
Вечером я решил пойти куда-нибудь из гостиницы часа на два-три. Хотелось побродить по городу.
Я вышел из гостиницы и в стороне от подъезда увидел Рыленкова. Николай Иванович стоял один и протирал платком очки.
И совершенно неожиданно для самого себя я подумал: не попросить ли его послушать мои стихи. Но тут же возразил себе. И без меня он наслушался стихов за эти два дня!.. Да, но представится ли еще такая возможность когда-нибудь? Я заволновался. Видимо, сказывались и моя застенчивость, и мой длительный уход из серьезной литературной среды, – уже больше пяти лет после Литинститута работал я в тамбовской областной газете.
И все-таки я превозмог свою нерешительность.
Николай Иванович охотно согласился послушать меня.
– Только давайте уйдем отсюда, а то не дадут, – сказал он. – Перейдем улицу и куда-нибудь неподалеку… Вы знаете Воронеж?
Я понял, что и он устал от заседаний и застолий. Он ведь, несмотря на пришедшую к нему популярность, оставался жить в своем родном Смоленске, городе, который тоже не приобрел еще столичной напряженности и головокружительного темпа жизни.
Пока мы пересекали улицу и выходили к площади перед Драматическим театром, он расспрашивал – кто я, откуда, давно ли пишу. И как будто и вправду что-то открывая для себя, отрывисто бросил:
– Ага, значит, воронежской земли рожак? Что ж, землица щедрая, учились в Литературном? Тоже неплохо.
А сам то и дело останавливался и снова протирал очки и, пробуя, насколько они чисты, поглядывал на меня.
Мы пришли в Кольцовский сквер. Не сговариваясь, очутились на аллее вдоль ограды, где было поменьше гуляющих, и замедлили шаг. И я начал мысленно ругать себя за эту затею. Я перебирал свои стихотворения, и почти все они, даже самые любимые, казались мне плохими, и я медлил с чтением, хотя видел, что Николай Иванович уже ждет его.
И вдруг он как будто почувствовал, что творится в моей душе, и сказал:
– Знаете что? Давайте я вам почитаю!..
Он остановился, остановил меня и положил руку мне на плечо.
– И не свое… Что – свое! Вчера ночь просидел над одной штукой, а сегодня утром пришлось разорвать… Нет! Не свое!.. Я почитаю вам… вечное!.. Не знаю, почему захотелось вам почитать. Но уж коли стихи – так стихи! Мы же, как подчеркивают воронежцы, на земле Кольцова и Никитина. Вот с них и начнем. А?
Расширенные стеклами очков глаза его посмотрели на меня как-то по-крестьянски хитро. И я подумал, что вообще у него удивительно русское, крестьянское лицо. Тут же я уловил в себе обиду, – вишь, не захотел все же послушать меня. Но, думая об этом, вспомнил о его бессонной ночи (а сколько их в жизни поэта!), о разорванном стихотворении и с минуту не слышал Николая Ивановича.
А он уже читал никитинское хрестоматийное:
Душный воздух, дым лучины,
Под ногами сор…
Закоптелые полати,
Черствый хлеб, вода…
– Тысячный раз читаю и удивляюсь. Какая простота! А вот вам еще и сила. Лермонтовская сила.
Чужих страданий жалкий зритель,
Я жизнь растратил без плода,
И вот проснулась совесть-мститель
И жжет лицо огнем стыда.
Чужой бедой я волновался,
От слез чужих я не спал ночь, —
И все молчал, и все боялся
И никому не мог помочь…
Николай Иванович перевел дыхание.
– Это совестливый поэт! И этому надо учиться у него.
Людскую скорбь, вопросы века —
Я знаю все… Как друг и брат,
На скорбный голос человека
Всегда откликнуться я рад.
И только. Многое я вижу,
Но воля у меня слаба,
И всей душой я ненавижу
Себя, как подлого раба.
– Да, да. Очень совестливая поэзия…
Бронзовый Никитин, ссутулившись посреди сквера, слушал свои стихи и, казалось, вновь переживал их, и они новой тяжестью ложились на его плечи. К тяжести его строк прибавлялась грусть кольцовских…
Что, дремучий лес,
Призадумался,
Грустью темною
Затуманился?..
Одичал, замолк…
Только в непогодь
Воешь жалобу
На безвременье…
Где-то в глубине души мелькнуло: а слышит ли Кольцов свои стихи, ведь он там, в самом конце сквера…
А Николай Иванович уже повел меня к Пушкину, Некрасову, Блоку, Есенину, Мандельштаму.
– А вот вам еще!
Двадцать четвертую драму Шекспира
Пишет время бесстрастной рукой.
Сами участники грозного пира,
Лучше мы Гамлета, Цезаря, Лира
Будем читать над свинцовой рекой;
Лучше сегодня голубку Джульетту
С пеньем и факелом в гроб провожать,
Лучше заглядывать в окна к Макбету,
Вместе с наемным убийцей дрожать, —
Только не эту, не эту, не эту,
Эту уже мы не в силах читать!
– Вы знаете эти гениальные стихи? Как она могла написать их? Вы знаете, чьи это стихи?
Он секунду помолчал. Не дождавшись ответа, приостановился, поднял свою крупную руку, раскрыл ладонь, будто передавая что-то, и с каким-то благоговением, притихшим голосом сказал:
– Это же Анна Андреевна.
Сам смотрел на меня – какое это произвело впечатление. После паузы – в одно дыхание – продолжал:
– Ахматова. Как она могла! Как могла!.. А это ее помните?
Мне голос был. Он звал утешно,
Он говорил: «Иди сюда,
Оставь свой край глухой и грешный,
Оставь Россию навсегда…»
Но равнодушно и спокойно
Руками я замкнула слух,
Чтоб этой речью недостойной
Не осквернился скорбный дух.
– Сколько раз, должно быть, вспоминала она это стихотворение за всю свою жизнь! Это же… Это же…
Он искал определения чему-то, что хорошо чувствовал. Не нашел. И сказал только:
– Господи, она же была женщина!
Потом звучали Байрон и Лермонтов, Шелли и вновь Пушкин, Есенин и Лонгфелло, Гейне и Беранже… Звучали восточная мудрость Тагора и щемящие думы украинского Кобзаря…
До этого вечера я встречал несколько людей, хорошо знающих поэзию. Но чтобы столько помнить наизусть, так тонко чувствовать и понимать стихи и самим чтением передавать эти свои чувства и понимание, подчинять им слушателя, – нет, это я не встречал ни у кого, кроме Николая Ивановича.
Подумалось о трудном пути его в поэзию, о том, что путь его потому и труден был, что Николай Иванович глубоко понимает истинное значение поэзии.
И по-новому зазвучали тогда для меня строки:
Позорно, ничего не знача,
Быть притчей на устах у всех…
Думал я и о мучительных ночах над рукописями и о еще более мучительных утрах, когда эти выстраданные рукописи надо собственноручно уничтожить. Уничтожить, так и не добившись того, чего хотел добиться. Не достигнув того, что, кажется, хорошо чувствовал и видел мысленным взглядом. Не достигнув того, вечного, как он сказал.
Мы вернулись в гостиницу за полночь. Швейцару пришлось открывать нам дверь. Прощаясь, Николай Иванович спросил:
– Скажите, о чем вы думаете сейчас?
Я смутился. Потом ответил:
– Удивляюсь тому, что вы столько помните. И еще знаете о чем? Вот мы были в сквере. Он называется Кольцовским. А в центре его – Никитин. Отвернулся от Кольцова, сидит спиной к нему. И я думаю: зачем людям понадобилось так сделать? Почему они не задумаются над этим?
– Да, да. Я и не заметил. Гм… как же это?.. А знаете, вы пришлите-ка мне свои книжки. Хорошо?
Книжки я ему не послал. Не смог. Видимо, потому же, почему не смог и читать.
Но он все же их прочитал. Два года спустя принимали в Союз писателей большую группу молодых литераторов. Среди них был и я. Всех нас пригласили на заседание приемной комиссии в правление Союза писателей РСФСР. С обзором наших книг выступил секретарь правления Николай Иванович Рыленков. Выступил, стремясь доброе сказать о каждом.
Хотелось тут же поблагодарить его. Но я почему-то не подошел к нему. Позже жалел, что не поблагодарил. И теперь жалею. Еще больше.
1973
ЧАС У СЕЛЬВИНСКОГО
Май 1966 года был на редкость теплый. Я жил тогда в Подмосковье, в Доме творчества «Переделкино».
Как-то перед обедом я вышел прогуляться. Сошел с крыльца и направился было к библиотеке. У колонны, в тени, стоял Сельвинский с незнакомым мне литератором. Он, Корней Чуковский, Степан Щипачев, Павел Нилин, Петр Сажин частенько заходили в Дом творчества. Их приглашали на чай.
Сельвинский стоял грузноватый, в легкой пижаме с распахнутым воротом, опираясь на тяжелую палку.
Я прошел мимо. И вдруг меня окликнули:
– Шевченко! Вам телеграмма!
Крикнула гардеробщица, которая обычно принимала почту.
Я вернулся. Прочитал телеграмму. Друг поздравлял с Днем печати. Снова прошел мимо Сельвинского. И тут он меня остановил:
– Так вы – Шевченко?
– Да, – ответил я.
– Позвольте представиться: кавалер двух инфарктов Илья Сельвинский.
Он лукаво улыбнулся. Открылись белые ровные зубы.
– Я вас хорошо знаю, – сказал я. – Как поэта, конечно. А вот как кавалера…
Он не дал мне закончить фразу.
– Скажите, Шевченко, вы кто? Поэт? Прозаик?
– Пишу стихи, – ответил я.
– Должно быть, тяжело писать под такой фамилией? А? У меня в семинаре, в Литинституте, есть студент Шевченко… Вот я все хочу спросить его об этом…
– Знаете, Илья Львович, – сказал я, – под моей фамилией писать так же трудно, как и под вашей…
– Да, я под старость это особенно ощущаю, – сказал Сельвинский. – А вы не хотели бы мне почитать?
– С готовностью, – ответил я сразу. – С Сельвинским ведь я далеко не каждый день могу увидеться…
– Вот и прекрасно. Вы здесь долго пробудете?
– Дней восемнадцать еще.
– На днях я зайду к вам, вот так же, в это же время. И мы почитаем… Хорошо?
Прошло с неделю. Сельвинский не появлялся. Во мне зашевелилось чувство обиды. «Сам заговорил о чтении, а теперь…»
И вот прогуливаюсь по улице Серафимовича. Глядь, из калитки своей дачи выходит Илья Львович, в той же пижаме, с той же палкой. «Только поздороваюсь, – решил я, – и все, напоминать о себе не буду». Но Илья Львович, увидев меня, остановился.
– Вы, если мне память моя старческая не изменяет, Шевченко. Извините, долго не мог зайти в Дом творчества. Что-то жмет, – он положил широкую ладонь на грудь. – Читать готовы?
– Готов.
– Тогда пойдемте ко мне во двор. Не возражаете?
Мы зашли во двор его дачи. Пошли по аллее к крыльцу, сели на скамейке возле крыльца. Тут же, словно гриб, откуда-то появился внук – чернявый красивый мальчишка лет пяти-шести. Он лихо подлетел к нам на самокате.
– Кирилл, уйди и не мешай нам, – сказал дед довольно строго.
Внук не уходил. Видимо, он знал, что значит этакая строгость деда. Тогда Илья Львович еще строже приказал уйти, и он отъехал на самокате подальше от нас, до самой калитки. Во время нашего разговора уже не подъезжал к нам.
Илья Львович откинулся на спинку скамейки, разбросав большие, как ласты, руки на ней, и положил нога на ногу. Обнажилась его могучая грудь. Глядя на нее, никогда не подумал бы, что в ней сердце с двумя рубцами – следами инфарктов… А ведь оно в свое время прошло Арктику, войну… Да мало ли выпало сердцам его поколения!..
– Читайте, что вы найдете нужным прочитать…
Я стал читать. И странно. Обычно даже давно знакомому человеку читаешь с волнением. А тут нет. Почему-то сразу решил, что волноваться нечего: он поймет меня так, как я хочу быть понятым. И это было так.
Каждое стихотворение он комментировал. Начал я с «Завоевателей мира». Он слушал, поглядывая на меня. Помолчал. И посоветовал исправить строку «другой француз, Оноре де Бальзак». В этой строке французское Оноре́ читается как Оно́ре. Посоветовал он исправить строку в стихотворении «Памяти Хемингуэя». «Это способ простой и древний. В рот стволы. И курок найти. И за реку в тени деревьев навсегда от мира уйти…»
– В рот стволы… И рядом деревья. Нехорошо. Сразу не сообразишь, что это стволы ружья. Надо поправить… Ну, еще…
Я прочитал стихи о Лермонтове. «Вас при жизни видели корнетом…»
– Вы публиковали его? – спросил Илья Львович.
– В периодике да. А в сборнике сняли.
– Почему?
– Да вот нашли, что я вроде себя с Лермонтовым сравниваю…
– Дураки! – закричал Сельвинский. – Скажите им, что они дураки! На кого же должен равняться современник, как не на классиков? Не брать же мне пример с…
Он назвал фамилию пустозвонного крикуна.
– Господи, как же нам нужны умные редакторы! Редакторы хотя бы на уровне того, что они редактируют!..
И он неожиданно заговорил о своей книге «Юность моя», опубликованной в журнале.
– Вы читали ее?
– Пока нет.
– И не читайте!.. Подождите, она скоро выйдет в «Советском писателе». Отдельной книгой. Это человеческий вариант… А что вам у меня нравится?
– Стружки, – сказал я чистосердечно. Я слышал, что он стружками называл свою лирику. Главным он считал свои трагедии, а лирика, по его мнению, – стружки от большой работы. Но мне и до сих пор кажется, что лирика его, особенно лирика последних лет, самое сильное у него. Он, видимо, не был согласен со мной и спросил:
– А что же из стружек вы имеете в виду?
– «Алису» в первую очередь. «Позови меня»…
«Прекрасную полячку», которой посвящен цикл «Алиса», я знал. Она была на курс моложе в Литературном институте. Я хотел было сказать об этом, но не сказал. Тем более что он и так призадумался, притих.
– Да, «Алиса»… Это мне тоже дорого. Я рад, что вам это нравится… Я трудно шел к этому. Там, кажется, есть высокая простота.
– Вот это мне и дорого у вас, – сказал я.
– Я рад… А то вот сейчас молодые черт-те что вытворяют… Я в молодости тоже фокусничал, но до такого не доходил…
И он раздраженно заговорил о «Яблоне» Вознесенского.
И я почувствовал в его словах и какую-то справедливость, и незлую, а скорее просто стариковскую зависть и грусть: время, когда можно заносчиво пошуметь, ушло. Уже не пошумишь. А высокая простота по-прежнему требует молодых сил.
Он устало взглянул на часы.
– Ну вот. Незаметно мы с вами и проговорили час. Хватит на сегодня? А? Я рад был с вами познакомиться.
Больше я его не видел.
Вскоре я переехал из Тамбова в Москву, вернее, в Переделкино. По утрам, спеша на работу, часто встречал литинститутовцев, которые ездили к нему на дачу. Он уже не мог добираться до Литинститута, но семинарские занятия продолжал вести. Я завидовал студентам – они подолгу могли слушать его, разговаривать с ним.
Но я благодарю судьбу и за то, что она послала мне хоть одну часовую встречу с ним. Такие встречи укрепляют веру на пути к высокой простоте.
1975
НЕИСТОВОСТЬ
(о В. Тендрякове)
Шли последние дни отпуска. Надо было дописать кое-что, хотелось сходить в лес, побродить среди готовящейся к осени листвы, жестко шумящей, напоминающей о близких холодах.
Раздался телефонный звонок. Звонили из правления Союза писателей.
– К тебе просьба, – сделана долгая пауза. – Умер Владимир Тендряков. Просьба провести завтра на кладбище траурный митинг…
Меня будто ударило током. Что-то еще говорили, но я уже ничего не слышал.
Умер Владимир Тендряков…
Я машинально положил трубку телефона. Сидел оглушенный этим страшным звонком.
Еще недавно, совсем недавно я разговаривал с ним по телефону. Я никогда его не беспокоил звонками, разве что поздравлял с праздниками. А тут позвонил просто так. Он был дома.
– А-а, здравствуй, родненький… – послышался в трубке его голос. Он, как всегда, сразу узнал меня. – Как ты там поживаешь? – голос его мягкий, участливый. Если уж он добро относился к кому-то…
– Да в замоте, Володя, – отвечал я.
Он засмеялся в трубку.
– Чего вы там заматываетесь? Поймите, чем больше вы там суетитесь, тем хуже для литературы…
И засмеялся еще громче.
– Может быть, и так, – не будешь же по телефону открывать дискуссию. – Но кому-то надо же и суетиться…
– Бросай все и приезжай ты, наконец… Посидим, чайку попьем…
– Хочется приехать, да все… Купил твое собрание сочинений. Подписал бы…
– Ну, и зря разорялся!.. Я же сейчас богаче тебя и подарил бы. Ну, последнюю книжку подарю. Приезжай…
Боже мой, сколько раз я собирался поехать к нему и так и не собрался. Откладывал. А теперь – куда теперь поедешь?.. Поедешь завтра хоронить его…
«Родненький», – слышалось в ушах, в сердце любимое его обращение.
В одиночестве шел день. Вставало одно воспоминание за другим. Мы не были с ним близкими уж очень друзьями. Редко встречались: либо на съезде, на пленуме, либо на проводах кого-то. Помню, я стоял с ним в карауле у гроба Александра Твардовского, у гроба Сергея Сергеевича Смирнова…
А однажды… Уезжал я с сыном в Коктебель. Как всегда, неразбериха на Курском вокзале. То с одной платформы объявляют отъезд, то с другой. Будущие курортники мечутся из туннеля в туннель. Словно кто нарочно людям уродует отпуск. Наконец поезд подали на первый путь. Мы заходим с Максимом в купе, и первого, кого я вижу, девушку, удивительно красивую и… похожую на Тендрякова. Я мгновенно это отмечаю. Думаю, что значит девичье лицо. Володя же вроде не красавец, а ее лицо – лицо красавицы. И на тебе взглянув в окно, вижу внизу, на перроне, Володю. Он поднял голову и летит прямо к нашему окну. Рядом с девушкой стоит, как потом оказалось, жена Володи.
– Ну, ты и тут мастер! – крикнул я в открытое окно. – Прямо копию свою сотворил!
Довольный, Володя засмеялся и протянул мне руку.
Да, это была одна из последних встреч. Он провожал жену Наташу и дочь Машеньку в Коктебель. Вся наша дорога была дорогой воспоминаний о Тендряке, как ласково называла его жена.
Прощаясь на перроне в Москве, он опять же крикнул:
– Вернешься – приезжай ко мне на дачу!
И вот так и не собрался. А представляю, что бы это была за встреча, за беседа!..
Никогда не забуду три дня и три ночи с ним в Академгородке под Новосибирском. Там проходило выездное заседание секретариата правления Союза писателей РСФСР. Володя участвовал в этом заседании. Он радовался хорошему докладу своего друга Даниила Гранина. С ним Володя пошел и к ученым. Пошел и я на эту встречу. Даниил Александрович был, как всегда, сдержан, нетороплив в каждой реплике. Умнейшими, едва заметно улыбающимися в прищуре глазами оглядывал он присутствующих. Владимир пылал, заставлял людей науки о многом задуматься, ставил их в тупик неожиданными вопросами и рассуждениями.
Где-то на второй или третий день, вернее, вечер, мы встретились с ним после заседаний и не расставались трое суток. То сидели у него в номере, то выходили на улицу и бродили вокруг гостиницы по лесу. Ночью это было особенно здорово. И говорили, говорили, спорили, объясняли себя друг другу.
– Почти все, что опубликовано у меня, – дерьмо! – восклицал Владимир исступленно. – Вот есть у меня в столе страниц триста настоящей прозы!..
– Ну, зачем же так? – возражал я. – Ну как ты можешь зачеркивать «Суд», «Тройку, семерку, туз» Или «Три мешка сорной пшеницы»… или «Кончину»!..
– Ну, может быть, «Кончина» еще туда-сюда…
Владимир не рисовался. Я знаю, как он быстро уходил от своей только что рожденной вещи, как загорался в работе над новой, как дороги были ему еще не опубликованные: в них он уже шел, как сам считал, дальше.
Когда я остановил его внимание на «Кончине», он вдруг умолк, задумался, что-то припомнив, и сказал горячо:
– А знаешь, ее в набор подписал Поповкин умирающий. Я так благодарен ему. Он же подписал и «Мастера и Маргариту». Понимаешь? – глаза его сверкнули: дескать, какие две вещи заслал, уходя!.. – Да, «Кончина», конечно, ничего, но… все лучшее в столе пока!..
Прищурил глаза, и как бы желая продлить ряд того, лучшего, идущего за «Кончиной», того, что еще жжет душу, что нетерпеливо ожидает благословенного часа явления миру, Владимир снова помолчал, а потом (ах, раз уж зашел такой разговор – так и быть!) сказал:
– Есть у меня несколько рассказов. Каждый – о страшных событиях, пережитых нами… Год великого перелома… Помнишь в «Кончине» хлебороба с переломленным хребтом?.. Так вот один рассказ – о 1929-м, о коллективизации. Другой – о голоде 1933-го. Третий – о 1937-м, четвертый – о 1942-м… И есть еще одна вещица! Я в ней показываю верхи!.. Вот это мое настоящее! В нем, родненький, предстает наше время! Обнаженно предстает!..
И тут он заговорил о Твардовском.
– Будь он жив, он бы эти вещи напечатал!.. Это точно. Знаешь, какой он был? Особенно последние годы…
Владимир рассказал о таком эпизоде. Он уговорил Твардовского навестить Жореса Медведева, который был в ту пору в психбольнице. Твардовский принимал участие в облегчении судьбы известного инакомыслящего и согласился пойти. О визите узнали. А было это накануне шестидесятилетия великого нашего поэта и редактора. Дней через пять Твардовского встречает один высокопоставленный чиновник и говорит: «Что ж это вы, Александр Трифонович? Мы вас собирались к Герою представить, а вы… На кой вам этот Медведев?..»
– И что, ты думаешь, ответил Твардовский? Я не знал, сказал он, что Героя дают за трусость…
В голосе Владимира была гордость за старшего друга.
Вижу его на лесной тропе: в спортивной куртке, в берете, сам спортивного вида – худой, как всегда, на скулах обтянулась загорелая кожа, легок, поджар; по утрам бегал и там, в Академгородке, до начала заседаний.
Вспоминали мы в те дни литинститутовцев. Разошелся он со многими друзьями. Или друзья с ним… Чаще уходил от них он. Не изменял себе. В суждениях о них, как и о себе, был беспощаден: иногда, мне казалось, несправедливо беспощаден. Но это не первый случай в истории литературы. Люди делают одно и то же дело, но идут разными путями, порой доходя до ненависти друг к другу. Видимо, это потому, что каждый – личность, не могут уступить друг другу, подняться над собственной суетой.
Да, друзья по институту разошлись… Я вспомнил, как перед одним из писательских съездов Владимир приехал в правление Союза получить удостоверение делегата. Выходя из комнаты, он столкнулся с однокашником по институту, прошел мимо, не поздоровавшись, даже отвернувшись. А ведь они когда-то были – не разлей вода. Жили в одной комнате на Тверском бульваре, 25, оба – северяне.
Да, это удел многих крупных людей. Это в духе, в характере Тендрякова, – нет, не скандальном, не мелочном, нет, в характере отстаивать свое неистово, вплоть до разрыва.
Наташа рассказывала мне по дороге в Коктебель, как непреклонен был Володя в спорах даже с Твардовским, как тот, будучи порой жестоко обруганным Владимиром, сам приходил к нему на следующий день. Да, Тендряков был во всем Тендряков – неукротимый, горячий, надежный…
Вижу его возле легковой учебной автомашины, в институтском кружке будущих шоферов-любителей. Володя в отцовском старом-престаром облачении (отец у него был комиссаром гражданской войны), в кожаных вытертых галифе и куртке. Все такой же худой и неугомонный. Протирает тряпкой капот, заглядывает куда-то в мотор и говорит:
– Не выйдет писателя, буду шофером вкалывать! Черт с ним!..
Это было, видимо, в минуты глубокой тревоги за будущее. Он знал, что писатель из него выйдет, он уже ночами сидел за рукописями. Когда однажды ему помешал один беспардонный высоко мнящий о себе студент, Володя дал ему «в морду» в прямом смысле этого слова и… через несколько дней получил выговор по партийной линии. Владимира всегда мучил вопрос – каким быть писателем. Пред глазами его, в сердце его – были примером классики, и не меньше. Это единственно достойные ориентиры, и они помогли ему сделать то, что он сделал.
1953 год. Вижу Володю, сбегающего легко и стремительно по лестнице Литературного института. Под мышкой с десяток свежих номеров «Нового мира». В них – его повесть «Падение Ивана Чупрова».
Володя сияет. И как тут его не понять! Он приносил показать публикацию друзьям, в том числе и тем, с которыми он потом порвет. Но пока они радуются вместе с ним, понимают его. Он – победитель.
– Вот, Миша! Сейчас отошлю номер моему Чупрову!.. Чупров не верил, что напечатают!.. А ведь напечатали!..
Голубые-голубые глаза его, глаза, в которых всю жизнь хранилось северное его небо, были счастливы. Он всегда чуял силу свою, способность на большое, рвался к нему.
После «Падения Ивана Чупрова» началось восхождение Владимира Тендрякова к высотам литературы. Восхождение было стремительное. Жажда правды, жажда глубже и скорее постичь бегущий день двигали Владимиром, заставляли неистово работать. И работал он всю жизнь неистово, другого слова не скажешь, а особенно в те годы… Судите сами. Сразу за «чупровской повестью», принесшей ему известность, в 1954 году он публикует повесть «Не ко двору», в 1955-м – «Тугой узел», в 1956-м – «Ухабы», в 1958-м – «Чудотворная», в 1959-м – роман «За бегущим днем», в 1960-м – повесть «Тройка, семерка, туз», в 1961-м – две повести: «Суд» и «Чрезвычайное»…
Первым среди однокашников по Литинституту он выпустит через десять лет после публикации «Падения Ивана Чупрова» двухтомник избранных произведений.
Вспоминается отношение критики к каждой из публикаций. Критика еще спорила об одном произведении, а Тендряков уж ей второе, а он уж ей – третье!..
Критике Владимир Тендряков всегда задавал сложные задачи. Неистовость, жажда немедленно сказать то, что необходимо современникам, жажда немедленно добро повлиять на их судьбу иногда приводили Тендрякова к излишней торопливости в работе, к открытой назидательности, что шло в ущерб художественной убедительности. Слово как бы не поспевало за проповеднической страстностью Владимира Тендрякова, но он спешил к людям со своими мыслями о них, со своими болями за них, с желанием помочь им увидеть беду, отвратить ее, победить. Он страшился не успеть со своей помощью.
Среди первопроходцев в исследовании проблем послевоенных лет Владимир Тендряков – один из крупнейших. Он ненавидел бюрократизм и равнодушие, демагогию и трусость. Он понимал, что самое ужасное для общества – это разобщенность его, безразличие к человеческой личности.
«Для меня внимание к личности со стороны общества – это и есть коммунизм», —
писал он. Затем толковал, что же это такое – внимание.
«Истинное внимание к человеку, – говорил он, – это стремление понять, что он такое: чем живет, на что способен, какие нужды и запросы у этого конкретного человека имеются… Внимание к человеку. Это, извините, уже не просто достижение в производстве материальных благ, это нечто большее. Капитализм в производстве благ – не откажешь – достиг огромных успехов; во внимании к человеку – нет! Живи сам для себя, рассчитывай сам на себя, сосед не обязательно должен понимать нужды соседа, и «возлюби ближнего своего» – просто ложь, на которую клюют скудоумные простаки. Пропастей, разделяющих человеческое сообщество, при капитализме стало, пожалуй, больше, чем при феодализме.
Сровнять эти пропасти, заставить людей внимательно вглядываться друг в друга… нельзя сомневаться, что будущее человечества – в упрочении коллективизма… А предельное внимание общества к личности – это и есть, наверное, наивысший коллективизм. Добавим, человеческий коллективизм, а не муравьиной кучи».
Большой писатель всегда ставит большие вопросы своего времени. Выросший в селе, Владимир Тендряков поднимал жгучие проблемы его; один из вожаков сельской молодежи, он серьезно вникал в ее заботы; сельский учитель, он подкупающе искренно писал о школе; влюбленный в свое дело, он волнующе думал о плоти искусства…
Читая и перечитывая Владимира Тендрякова, мы в лучших произведениях его видим большого русского художника слова.
Совестливый талант Владимира Тендрякова всегда был в единении с правдой, с художническим мужеством и бескомпромиссностью. Ему это дорого обходилось. Но он не мог быть иным и никогда не был иным – и в жизни, и в литературе. И он побеждал. Все же побеждал.
Воин Великой Отечественной, он был воином и в исполнении своего писательского долга.
Можно утешаться одним: несмотря на ранний уход, он очень много сделал в литературе и в жизни доброго и непреходящего. Творческое наследие Владимира Тендрякова, его писательское поведение – это школа воспитания высокой человеческой души, школа высокой гражданственности, школа мужества и чести. И в борьбе за гуманную сущность завтрашнего дня через эту школу будут проходить миллионы и миллионы благодарных сограждан, благодарных читателей родной земли.
Все это так. И все же, все же…
Вижу Владимира у вагона поезда до Феодосии, он провожает в Коктебель Наташу и Машеньку, стоит на перроне Курского, не спускает с них светлых глаз своих, а в глазах его – столько нежности…
– Сам-то чего не едешь? – спрашиваю.
– Юг не по мне. Вот провожу. И – за работу! Под Москвой работается лучше!..
И вот все. Отработал. Отлюбил. Отпылал.
Обо всем этом я говорил на кладбище, открывая траурное прощание. Вернее, не говорил, а почти кричал. Трудно было говорить. Душили слезы…
1986