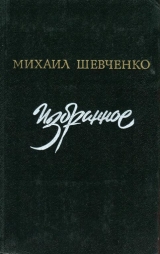
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Михаил Шевченко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 29 страниц)
На летних каникулах я приехал в Россошь, дал знать об этом Алексею. Он снова стал бывать у нас чаще. Мы располагались в саду, ели вишни, – мама оставляла их к моему приезду, варила с ними вареники… Алексей пытливо расспрашивал о литературной жизни столицы, о литературных поветриях, об институтских занятиях, о творческих семинарах, об отдельных писателях, тех, кого мне удалось видеть и слышать. Ко всему рассказанному относился с неторопливым раздумьем.
Надо сказать, Алексей до всего, как правило, тяжело шел сам. Для него изменить свое мнение в чем-то всегда было нелегко.
Он уже, став выпускником педучилища, сотрудничал в районной россошанской газете. Его приютил там тогдашний редактор Борис Иванович Стукалин. Алексей писал статьи, корреспонденции; печатал очерки, рассказы и стихи. Твердил, думаю, больше со слов Бориса Ивановича, что для литератора это очень важно – посотрудничать в газете. А внутри у Алексея шла серьезная работа. Об этом будут свидетельствовать его письма.
В первое каникулярное лето я ездил к нему в Морозовку. Повод был – вместе порыбачить на Черной Калитве.
Я прибыл к нему во второй половине дня. Жгло солнце. Но лугом идти было хорошо. Переправился на пароме через реку. У переправы меня уже ждал Алексей.
Огородом, жидковатым вишневым садиком прошли мы к их хате. В хате полутемно и прохладно: ставни окон закрыты. Свет проникает только через их щели. Низкий потолок. Земляной пол усыпан полынком. На стенах фотокарточки в деревянных рамках.
Брата Ивана дома не было: он совершил очередной побег…
Пока мы готовили удочки и приманку – червей и хлеб с анисовыми каплями, – подошла Алешина мама Вера Ивановна, маленькая женщина с кротким взглядом; широкая юбка на ней, просторная темная кофта, платок, подвязанный под подбородком.
Я находил в Алексее сходство с ней: в лице, в той же застенчивости, в немногословности, в грустном взгляде.
К реке шли лугом. Стал накрапывать дождь.
На берегу не было ни души. Выбрали старую сидалку, принесли сена от ближайшей копны и расположились.
Алексею нравилось шефствовать надо мной на рыбалке. Обстоятельно рассказывал он об удочках, о способах нанизывания на крючок наживки, о повадках окуней и чебаков.
Потом мы молча наслаждались тишиной берега, тихим шумом дождя, шуршанием камыша под ветром и дождем.
Вижу Алексея над рекой. Он сидит, по-мальчишески поджав ноги и обхватив коленки руками, чуть покачивается и пристально глядит на поплавки, вокруг которых вскипает под дождем и ветром речная вода…
Где-то на том берегу, далеко, когда перестал дождь, запели. Было очень хорошо на душе. Года два спустя он прочтет мне стихи.
Мне любо, что в этом раздолье,
За кромкой дубрав молодых,
И наше холмистое поле
Хлебами не хуже других.
Свернешь по тропинке – куда там! —
И шапки твоей не видать!
Поют за курганом девчата,
И хочется им подпевать.
Здесь нет еще истинно прасоловской глубины, здесь больше созерцательности, но эти его стихи уже выгодно отличаются от тех, которые узнал я в первые месяцы знакомства. Алексей пробивался к себе.
В тот день мы вроде ни о чем особом не говорили, больше молчали, как обычно и бывает на рыбалке или охоте, он называл меня по имени-отчеству, но мы все-таки стали еще ближе друг другу. Не хотелось уходить с реки, не хотелось уезжать от него…
Алексей сообщил тогда, что задумал драму в стихах и роман о войне, об оккупации; даже немного написал. Но читать не стал.
Поздно вечером Вера Ивановна пожарила нам рыбу – чебаков, красноперок и окуней. За ужином мы пригубили вина, и уж точно ни матери его, ни ему, ни мне не могло прийти в голову, какую роковую роль сыграет вино в его судьбе…
Весной 1951 года я получил из Морозовки от него в Москву письмо. Вот тут-то он и поведал подробно о романе.
«23/III-51 г.
Здравствуйте, Михаил Петрович!
Не будьте на меня в обиде за то, что так долго молчал. У Шолохова в «Поднятой целине» сказано: «слово – серебро, а молчание – золото». Но это я – к слову. Напишу Вам кое-что о своей жизни.
С 3 по 10 марта я давал уроки в морозовской школе, в 3-м классе. Гораздо естественней обстановка в этой сельской школе, чем в базовой. В классе чувствуешь себя, как дома, среди своих. И ребята совсем не те: живые, бойкие, любознательные, требующие твоего глаза, уменья и чуткого сердца. За 7 дней сжился с ними и не хотелось от них уходить. Школа, вернее, понятие о школе, повернулось ко мне другой стороной. Но… несмотря на все это, особого пристрастия к школе я не имею. Давал уроки – умело играл роль учителя. От этого подчас самому противно становилось. А все потому, что не мое это дело. И я думаю: лучше быть заурядным учителем (но имеющим к своему делу сердце), чем незаурядным игроком в учителя.
Наметили точки. Две трети выпускников едут на Алтай, остальные – пятнадцать математиков и пять литераторов – в старшие классы школ Воронежской области. На сегодняшний день я определен в Первомайскую школу Ново-Калитвянского района.
Дня три назад был на вокзале. Как раз в это время стоял эшелон призывников – тридцатый и тридцать первый год. Стоял я, глядел на этих хлопцев, горланящих «Калинку», и так хотелось мне отдать кому-нибудь «Педагогику» и пр. книжки, сесть в вагон и укатить с ними, – ведь я тоже с тридцатого года. Хорошо бы было, если б окончить п/уч. и сразу же уехать в армию. Почему-то тянет не к малышам, а к взрослым людям, в самую жизнь.
Я посылаю Вам свой очерк, написанный во время практики. Был я в правлении, встретил нашего чабана, без всякой цели писать о нем поговорил, а потом и думаю: дай-ка запишу, авось где-нибудь пригодится. Отнес редактору свой рассказ «Дед Прокофий» и заодно показал ему и эту запись, «кусок жизни», и он сразу мне: «Давай его сюда, нам это нужно». Напечатали в первом же номере. Хорошо писать, не думая печатать.
Рассказ поместили после.
Пишу хотя и крайне медленно, но пишу, нечто вроде повести.
Главный герой – Мирон Алексеевич Дубняк. Остальные, наиболее главные, – его сын Мишка, комсомолец, Кузьминична, жена, сноха Анюта, дочь Марина, сват со свахой. Потом: председатель колхоза Семен Демидов, кузнец Михаила, дед Прокофий и др. Это только схематично, а там кто знает, с кем еще встретишься! Время всех действий – лето, осень и зима 1942 года.
Мирон Алексеевич – сын кулака, сам был подкулачником в прошлом. Теперь он – колхозник. Но «мое» засело в нем крепко. Приходят немцы. Мирон Алексеевич, мечтавший о прежнем «своем» хозяйстве, о «своей» земле, начинает действовать: приобрел пару лошадей (поймал в поле во время эвакуации), прикупил у свояченицы несколько колодок пчел и стал подумывать, что «немецкая власть» нарежет ему земельный надел. Вот бы, дескать, пожить еще, чтобы «посеял бубочку одну – и та своя».
Мишка во всем противостоит ему, не отдает комсомольского билета, когда отец угрожает «выдать его немцам с повинной головою». Председатель Демидов, потерявший руку в начале войны, организует партизанский отряд, и Мишка уходит к нему. Немцы не дали Мирону Алексеевичу земли. Комендант подвел его к карте и показал: «Берлин – Урал есть немецкая земля. Русской нет». Это крайне возмутило Мирона Алексеевича, и он, любивший свою родную русскую землю, за которую гибли его предки, возражает. Комендант в ярости выбивает ему «старушечьи-костлявым кулаком» зубы. Немцы забирают у Мирона Алексеевича лошадей, громят его пасеку, под конец выгоняют из хаты в землянку. Мирон Алексеевич мучительно переживает, думает, что же дальше делать. «Хозяйство» рухнуло. Это послужило только началом его непримиримой злобы к немцам. Но эта мелкособственническая злоба к врагу еще не толкает его на борьбу с врагом, в лагерь партизан, где его сын. От дум, от волчьей жизни седеет Мирон Алексеевич. Что ни день, то больше видит он, какие муки несет народ. Удар коменданта сорвал с его опьяненных мечтами глаз повязку, он трезвее стал смотреть на мир, его окружающий. И когда он стоял на перепутье, не зная, куда идти, возникает перед ним страшная сцена… Немцы берут заложниками жену и детей Демидова и на его глазах расстреливают у него в огороде. Мирон Алексеевич – тоже человек. Годы Советской власти, новая жизнь до войны оставили и на нем отпечаток; будучи молодым, когда отец-кулак отделял сыновей – его и брата, – Мирон Алексеевич бросился с топором на брата, которому отец дал любимую, лучшую лошадь; тогда это было возможным для натуры Мирона Алексеевича; но теперь, когда он увидел, с каким нечеловеческим спокойствием немцы расстреливают жену Демидова и его детей (одного – грудного), мысли о «своем» сами собой отступились от Мирона Алексеевича. Раньше он мог из-за лошади убить человека, родного брата, а теперь он не может видеть, как убивают детей, ни в чем не повинных; и кто убивает? – те, от которых он ждал «вольной жизни» на «своей земле». Понятно стало, куда нужно идти – к сыну, к партизанам, к Демидову-большевику. Он туда и идет.
Всего не рассказать здесь, в этих строчках.
Я написал вчерне три главы. Всего будет примерно двадцать глав, повторяю: только примерно.
______
На этот раз – все, больше писать не о чем. Желаю Вам, Михаил Петрович, здоровья и успехов в учебе. Пишите обо всем, что только считаете нужным. Жду ответа.
Ал. Прасолов».
Не помню, что я ответил ему. На семинарских занятиях в институте мои стихи разделали под орех. Первые мысли были – правильно ли я выбрал свой путь. Подумывал уйти из института, но остался. Сомнения преследовали меня и на втором курсе, хотя два-три моих стихотворения, написанные в институте, вроде бы нашли сочувственные отклики и у сокурсников, и у руководителей творческих семинаров.
Сомнения в раздумьях о будущем, как видно из письма, бередили и душу Алексея. Его не прельщала работа учителем, хотя он хорошо понимал высокое ее предназначение.
Через два месяца я снова получил от Алексея письмо и рассказ, опубликованный в россошанской газете 20 мая 1951 года – за три дня до отправки письма.
«…Первым делом я хочу Вам искренне пожелать успехов в последние дни учебы, отличной сдачи экзаменов и доброго здоровья. Вторым делом напишу о своей жизни и делах. Ничего особенного, потрясающего за это время в моей жизни не произошло; дни идут своей чередою, с одной стороны, однообразные – иногда до тошноты, – с другой стороны, несут они радостное новое, что почти скрадывает их однообразность. Туманно сказано? Поясню. Однообразие – то, что каждодневно сидишь в одних и тех же стенах и не видишь жизни в ее полный рост. Я не в том смысле говорю, что знания – тошнотная вещь, – наоборот, досадно то, что применяешь их только на уроке, когда тебя вызовут. Но, правда, всему свое время: пускай не выйдет из меня учитель, а знания пригодятся.
Разнообразие – то, что я каждый день общаюсь с бумагой и «творческим пером», пишу на бумаге этим пером о тех кусочках жизни, которые видел сам и слышал от других. В первом письме я Вам говорил, что начал писать нечто вроде повести. Пишу и сейчас, выгадывая время большей частью по ночам. Шесть глав (объем всего написанного – больше трех тетрадей) написаны начерно. Сейчас душа иногда горит писать, но ограниченное время берет за руку, и сам себе невольно говоришь: «Ты допишешься!» И бросаешь, беря в руки арифметику Тулинова.
Недавно написал, вернее, обработал ранее написанный рассказ «Короткая линия», который и посылаю Вам на строгий суд, потому что это и для Вас, и для нас – одинаково важно. Сам чувствую, что бледновато, но все зависит в дальнейшем от упорного труда и безукоризненного знания жизни. Главное – видеть то, чего другие не видят в ней, а это очень трудно, а у меня его пока еще, можно сказать, почти нет.
Прошу Вас ответить на мое письмо и высказать Ваше мнение об этой, четвертой моей прозаической вещичке. В основном все…
23.5.51.
А. Прасолов».
Рассказ «Короткая линия» – типичный для того времени: поверхностный, с мнимым конфликтом, с непременными ворчливой бабкой и мудрым дедом… Подобные сочинения выходили тогда не только из-под пера начинающих литераторов, какими были мы с Алексеем, но и многих профессиональных писателей, лауреатов. Об этих творениях позже с убийственной иронией скажет Александр Твардовский:
«Глядишь, роман, и все в порядке: показан метод новой кладки, отсталый зам, растущий пред и в коммунизм идущий дед; она и он – передовые, мотор, запущенный впервые, парторг, буран, прорыв, аврал, министр в цехах и общий бал… И все похоже, все подобно тому, что есть иль может быть, а в целом – вот как несъедобно, что в голос хочется завыть…»
Да, все это было на космическом расстоянии от подлинных проблем жизни тех лет.
Позже это поймет Алексей. В ужасе буду оглядываться и я. Через пятнадцать лет у меня сложатся стихи:
«Наивность детская – чего я не писал!.. Теперь припоминаю – стыдно, право. Я недостойных славы восхвалял и низвергал достойных славы. Кто в этом виноват, постигнуть помоги, – я в рост хотел стоять среди согбенных. И падал так, как падает ребенок, когда поднимется на первые шаги».
Да, это будет позже. А пока Алексей просит строго судить, но сердится за такой суд, хотя и «сам понимает, что бледновато…».
Я судил строго, как строго судили и меня на институтских семинарах. Он упирался. Я ставил ему в пример его же замысел повести или романа. Если его исполнить, как он задуман, – это будет настоящая проза! Гораздо серьезней, чем рассказ.
Зная первые его вещи, можно представить, какую надо было ему проделать внутреннюю, духовную, работу, чтобы от ученического примитива прийти к тому, что отныне оставляет его в истории русской советской литературы. Это тем более удивительно, что проделал он эту работу без литературной среды, совершенно самостоятельно. Потому-то так чуток и пытлив был он даже в кратком общении с людьми этой среды.
Обмен письмами, перепалка при оценке написанного рождают снова в нас близость во взаимоотношениях. Он снова называет меня, как прежде, по имени.
Мы оба – в мучительных поисках, и оба спешим навстречу друг другу с малейшими, как нам кажется, обретениями в этих поисках.
Алексей не решился сразу рвать со своей специальностью учителя. Он поехал-таки работать в Первомайскую семилетнюю школу Ново-Калитвянского района. Преподавал русский язык и литературу. Как он там жил и работал, я не знал. Переписка с ним прервалась.
О его жизни и работе в Первомайском поведал недавно в своем очерке о Прасолове журналист, собственный корреспондент воронежской газеты «Коммуна» Петр Чалый, живущий ныне в Россоши. Родом из Первомайского, он шестилетним мальчиком часто встречал Алексея у учительницы Веры Опенько. Мальчик приходил к учительнице посмотреть книжки, которых у нее было множество. Примостившись на лавке и листая книжки, он видел и слышал, как учительница и новый учитель все разговаривали и разговаривали…
Через много лет Петр, студент воронежского вуза, встретит первую книжку Алексея Прасолова, а потом будет работать с ним в россошанской газете.
Вера Опенько стала первой любовью Алексея Прасолова. Человек кристальной чистоты, она была дочерью красного конника, героя гражданской войны Митрофана Опенько, о котором рассказал Гавриил Троепольский в очерке «Легендарная быль». Вера была секретарем райкома комсомола, ее ждала заманчивая карьера, но она все оставила и уехала работать учительницей русского языка и литературы в самое дальнее от райцентра село, в котором не хватало учителей. Тогда-то они и познакомились. Встреча эта была для Алексея как просветленье. По-новому «примеривал он к миру жизнь свою… Но Алексея звало истинное его призвание, и он год спустя уехал из Первомайского ему навстречу. А Веру ждала болезнь и преждевременная гибель…
Узнав о гибели Веры, потрясенный, Алексей напишет горькие стихи, посвященные ее памяти.
Я не слыхал высокой скорби труб,
И тот, кто весть случайно обронил,
Был хроникально холоден и скуп,
Как будто прожил век среди могил.
Но был он прав. Мы обостренней помним
Часы утрат, когда, в пути спеша,
О свежий холмик с именем знакомым
Споткнется неожиданно душа…
А я стою средь голосов земли.
Морозный месяц красен и велик.
Ночной гудок ли высится вдали?
Или пространства обнаженный крик?
Мне кажется, сама земля не хочет
Законов, утвердившихся на ней:
Ее томит неотвратимость ночи
В коротких судьбах всех ее детей.
Это уже подлинный Алексей Прасолов. Вот какой ценой добывает душа поэта «железный стих, облитый горечью…».
«Вышло так, – рассказывает Петр Чалый, – что через пятнадцать лет Алексей Тимофеевич уже журналистом заехал в Первомайское. В бывшей краснокирпичной школе, поставленной еще земством, располагалось теперь правление колхоза, у крылечка и поджидали председателя. Прасолов не участвовал в разговоре, – сосредоточенный лоб прорезали глубокие морщины, – стоял в сторонке, как зачастую, весь в себе. Тут его тронула за руку моложавая женщина.
– Алексей Тимофеевич, цэ вы? Еле признала вас. Меня не вспомните, сколько прошло. Вы наш класс учили…
Обрадовались случайной встрече, улыбались, расспрашивали друг о друге. То была Маруся Величко, работала тогда дояркой на колхозной ферме. Говорливая ученица. Звучным голосом спешила высказать:
– Я хоть и неважно училась, но посейчас не забыла, как хорошо вы нам про Пушкина рассказывали.
…У тети Матрены, теперь она уже бабушка, с той поры, сменяя друг друга, квартировало немало постояльцев, она сама им счет потеряла. А Прасолова не забыла.
– Обходительный был паренек. Я прихворну, а то и бригадир на работу посылает на весь день, так Алексей воды наносит, колодезь неблизко, в яру, сам скотину управит, вечером в хате протопит. По ночам над книжками сидел. Когда ни кинусь ото сна, светится на столе керосиновая пятилинейка. Я его пожалею – побереги голову. Засмеется и опять в книжку!.. С Верой Митрофановной была хорошая пара…
Уехал учитель.
Вера Митрофановна осталась… Учительствовала до конца дней своей короткой жизни, из которой ушла, как и Прасолов, не успев постареть.
«Хорошая душа», – напишет о ней в письме по прошествии многих лет Алексей Тимофеевич.
Знали о том и мы, ее ученики. Не всякого человека, пусть даже и учителя, ходили бы ребята целым классом проведывать в больницу. К Вере Митрофановне ходили в мороз на лыжах за полтора десятка километров. Выстаивали у оснеженного кружевами оконца. А она за остуженным стеклом то, обрадованная, смеялась сквозь слезы, то больше сокрушалась, переживая за нас, и наказывала не вырываться в такую дорогу. На нее, с виду не деревенскую, худенькую женщину, в замужестве легло столько житейских невзгод (в селе их ни от кого не утаишь, все на виду), и болезни не отступались, а она держалась. В класс входила с улыбкой. Она учила нас своей улыбкой не гнуть спину перед встреченной бедой.
Тем и памятна.
Как и ему…»
Помнит Веру и мать Алексея. Об этом тоже свидетельствует Петр Чалый:
«Услышав от меня, что родом я из Первомайского, где учительствовал ее сын, Вера Ивановна, мать Прасолова, сказала:
– Вера там ему встретилась. Алеша часто о ней говорил. Жалел, что разошлись дороги.
И думала вслух о несостоявшемся:
– Может бы, у Алеши все по-другому было…»
Третьим каникулярным летом я застал Алексея сотрудником россошанской газеты «За изобилье». Работал он в самом боевом отделе – сельскохозяйственном. Работал добросовестно и безотказно. Писал все, что требовалось, – во всех жанрах. Времени и сил на стихи почти не оставалось. К той встрече Алексей уже был женат. Но жену не вспоминал. Вспоминал Веру… О причине расхождения с ней – не говорил. Я не допытывался.
Однажды он пригласил к себе. Не помню, куда и как мы шли. Комната, в которой оказались, была пуста – кровать с панцирной сеткой, почти без постели, стул, стол. Стены – голые. Повсюду разбросаны были какие-то тряпки. Жены не было дома. Ребенка – сына – тоже. Подвыпив, Алексей вскользь, не допуская расспросов, сказал, что живет с женой неважно. Я осторожно спросил:
– Не виноват ли ты сам? – и показал на гору бутылок в углу.
– Не-ет, – ответил он неохотно. – Это… были гости…
Я почувствовал, что ему говорить об этом не хочется, и замолк. Потом слушал начало поэмы «Комиссар». Большого впечатления она на меня не произвела. Может, слушал невнимательно, а может, был не тот настрой.
При последней встрече с Алешиной мамой я услышал от нее:
– Неудачно сложилась у Алеши жизня с первой женой, с Ниной. Не понимала она его. Не понимала, чего он хочет… А ведь он хотел добра и ей, и сыну. Никогда не допускал грубостей… А она оставила Алешу и уехала с сыном куда-то в Астрахань…
Может быть, с этого и началось особое пристрастие к выпивке?
Будучи уже на четвертом курсе, я получил от него письмо из Воронежа, куда он переехал работать в молодежную газету. Ее редактировал Борис Иванович Стукалин.
«Здравствуй, дорогой Миша!
Спасибо за письмо и за «Правила приема». Прочитал и думаю, что же делать? На стационар – не выйдет, на заочное – можно, но тут надо подумать. Ведь знания, в самом-то деле, я могу получить и здесь, в пединституте, под рукой. Там – иностранный язык… мне понятен твой немой вопрос. Здесь нет его. Но это не преграда – взять учебник за семилетку и подготовиться. Беда-то в другом: моя теперешняя работа позволит ли? Меня как зря не отпустят в Москву – сдавать экзамены. Вот и решаю: лучше будет, если я в этом году возьмусь за немецкий язык и еще кое за что, подберу больше стихов, чтоб было из чего выбрать, и потом поступать. Одним словом, зарядить пушку в Воронеже, а выстрелить в Москве. Так верней! А учиться – только в Москве! Буду стараться.
Уверен ли в себе… В юности многие пишут и даже удачные вещи… Верно. И многие бросают, заимев бабенку и нарастив жирок. Я заразился безнадежно. С чем ложусь, с тем и просыпаюсь. Сам себя часто спрашивал об этом, – бросить – ни за что! Это – моя жизнь.
По дороге, ведущей к богеме, не пойду. Идут те, кто не любит или разлюбил другой труд. А ведь поэт должен быть в то же время хорошим работником. Думаю: не лучше ли мне вернуться к своему прежнему делу? Работать в школе, над стихом и учиться заочно. А этот год – подготовка.
Ты говоришь, что у вас ходят разговоры. Лучше было бы, если б они стали делом. Туда придут люди, знающие, что им нужно. А начинающий идет с наивной мечтой – стать поэтом! – и все тут. Надо стать поэтом в жизни, а туда идти за тем, чего в другом месте не найдешь. Если бы, к примеру, ты учился заочно и работал где-нибудь, ты написал бы уже стоящие вещи. В жизни видней, какое слово нужно людям.
Досадно видеть неразрезанные сборники в книжном магазине. Иной возьмешь – написано ново, с умением, но души в стихе нет. Блестящий, остроумный, даже образный, а холодный. Раз прочитал, а второй раз неохота. Плохо, когда стих выделан, а не вылит. На поэтах большая вина. Виноват и читатель…
Однажды я прочитал стих К. Ваншенкина «Комсомольские снились билеты…» Читал сначала, как обычно. И вдруг строки:
Да потом спохватился служивый,
Закурил, на костыль опершись…
Мне стало так жалко. Дал прочитать одному заурядному читателю – ведь для него же написано. Тот прочитал, хмыкнул вислым носом, сказал: «Таких стихов много…» Я рот разинул. Будто меня плетью стегнули по лицу. Больно стало за автора и за служивого…
Думаю: черт возьми, в чем же тут дело? Слишком ли равнодушен, а, значит, взыскателен этот заурядный читатель? Или так заурядны поэты, что ничем не встревожат его душу? Ведь это равнодушие – убийство…
А ведь я помню… Зимний, непогожий вечер… Колхозница – тетя Мотя – вяжет шерстяной чулок и читает мне наизусть «Катерину» и «Тяжко, важко в свити житы сироти без роду…» Эту думку Шевченко написал, вернее, записал, в один присест, – вылил. И это самое первое его стихотворение.
Когда ж придет этот поэт – такой же силы, современный? Вот, Миша, в чем дело: надо слушать лекции и эту колхозницу с землистыми руками: чем она живет, о чем хочет сказать? Если скажешь за нее – ты поэт. Надо нам думать так, как думают люди, и не заставлять их говорить так, как нам бы хотелось. Это – фальшь.
Я решил так – писать просто. Смотреть глубже, а говорить, как мой односельчанин. О сложном – просто. Два стиха, что посылаю тебе, – первые результаты. Без грома. Хвастаться нечем – сырца много. Но пойду по этому пути. Я весь этот год метался, мучился… Никогда не думал, что это мука – искать верный путь. Тебе, может, было в учебе легче. А я напишу, покажу – говорят: ничего, пройдут. Выйду – и в клочья. Пишу два-три стихотворения в месяц, а иногда ни одного. Но это не значит, что вовсе не работаю…
Не всегда приходится сказать так, как нужно, – добродетели сбивают. «Записки агронома» Г. Троепольского вышвырнули из Ворон. отдела ССП – поклеп, тридцатые годы! (…) Теперь нахлобучивают фетровые шляпы, покашливают, дуют в трубку: сдать в набор… Подобедов, читая лекцию, кричал «ура» – вот она матушка-критика! (…) Бис, Троепольский! Кгм… ошиблись мы, конечно, признаем…
Прошу – пришли одно стихотворение. Ты можешь напечататься в нашей газете. Соловьев печатался… Это нетрудно. Но если чувствуешь рано – не надо. А мне, прошу, пришли.
Хорошо бы встретиться летом! Будешь ехать домой – напиши – увидимся. Помнишь, шли мы с речки, а у дороги девочки-подростки пели – ладно, голосисто… Здесь этого не услышишь. Тут и птиц почти нет. Вместо них звенят деньги, свистки на перекрестках… В городе отдохнуть, а жить устанешь. Погляжу – даль, синяя-синяя… Пойти бы по нашей земле, а потом сложить песню, чтоб жизни была под стать. Но наше впереди – у каждого свое. До свиданья. Прошу (вот попрошайка!) фото, если есть. Сдавай экзамены и думай о своей дороге от институтских ворот. Желаю успехов и жму руку.
Твой Алексей.
3.5.53 г. г. Воронеж».
Дорога моя от институтских ворот вышла не простая. На четвертом курсе я серьезно заболел. Сдав выпускные государственные экзамены, вынужден был отложить защиту диплома и взять академический отпуск. Жил у родителей в Россоши.
Алексей продолжал работать корректором в воронежской молодежной газете. Газетчикам известно, что корректор – это стрелочник, который в редакции всегда виноват во всех опечатках и ошибках, он вечно обвешан выговорами. Тяжелая работа. И все же Алексей много писал и печатался. Передо мной тоже встал вопрос – где работать.
Как-то раскрываю районную газету и читаю очень знакомые мне стихи. Фамилия автора – В. Боровой – тоже знакомая. Где я ее слышал?.. И вспомнилась книжка моего сокурсника Александра Гевелинга. В. Боровой был ее редактором в городе Калинине. А тут приехал в нашу область и выдал стихи своего товарища за свои.
Я написал заметку о плагиате и вместе со сборником Гевелинга послал ее Алексею.
И вот получаю от него письмо.
«Здравствуй, Миша!
Напечатали; ты, думаю, читал в «Коммуне» под заголовком «Украденное слово»…
В письме ты говорил, что в конце концов придется печатать не то, что хотелось бы… Ты назвал это халтурой. Я скажу тебе одно: честный человек, даже делая то, что чуждо ему, может быть честным: так или иначе он покажет себя, хоть в четырех строках из написанных им ста строк; а это уже дорого.
Чисто халтурных вещей ты, думаю, органически неспособен сделать; а если есть у тебя слабые места, так ты сам это сознаешь, – молчать же не следует. Девушке несносна девственность; она может привести ее к худшему, чем то, что может получиться при потере девственности… прости за подобное сравнение: я сказал так не с целью тебя уязвить, а потому что это – правда. Еще: представь себе, что ты идешь против морозного ветра; чем глубже ты прячешься в воротник, тем сильнее жжет лицо; а стоит тебе поднять голову и обветриться, как ты уже не чувствуешь прежнего холода. Так и печатание стихов: чем дольше прячешь их, тем страшнее за них, тем ты неувереннее. Печатайся и не своди глаз с той вершины, к которой стремишься. Присылай и к нам, и в «Коммуну» – ты ничего не потеряешь ни в том, ни в другом отношении…
Хорошо было бы, когда бы ты устроился в Воронеже. Но в нашей редакции скоро будет сокращение штатов, в «Коммуне» тоже перенаселение, в военной газете – не знаю.
Будешь ехать, не забудь сообщить, в какой день и час прибудешь в Воронеж. Выбирай любой день недели, кроме вторника, четверга и субботы. И приходи в редакцию – она возле Управления ж. д. – огромного здания, смахивающего на Кремль; ты его сразу увидишь с вокзала…
До свиданья, Миша. Жди гонорарий. И пиши! Жму руку.
Алексей.
9.III.55 г. г. Воронеж».
Вскоре я приехал в Воронеж устраиваться на работу. Прежде всего зашел к Алексею. Он обрадовался встрече, предстоящей возможности жить и работать где-то рядом друг с другом. Был необычайно оживленным. За обедом, улыбаясь, сказал:
– Хочешь, почитаю эпиграмму?.. Во, до чего я дожил!..
– Давай. На кого?
– На Федора Волохова. Он как поддаст крепенько, так кричит: «Я вам плох?.. Уеду! Уеду в Ригу!..» Там друг у него!.. Так вот,
Я слышал, ты собрался в Ригу.
Ну, что ж, скажу я, план хорош.
Ты захвати с собой и книгу
С названьем «Не шуми ты, рожь».
(Так называется книжка у Федора.)
Союз избавишь от нагрузки,
Издательство освободишь.
Над нею спал читатель русский,
Пускай подремлет и латыш!..
Эпиграмма хорошая. В ответ что-то читал я.
После обеда мы походили по Воронежу. Алексей рассказывал о себе. Говорил, что неважно устроен с жильем, нет времени писать. Чувствовалось, что он вообще тяготится городом.
В Воронеже мне устроиться на работу не удалось. После безрезультатного хождения по редакциям воронежских газет и издательства я поехал в Тамбов. Работал литературным сотрудником в областной газете, потом в издательстве – редактором художественной литературы, потом – главным редактором его.
С Алексеем виделись редко. Я почти не бывал в Воронеже. В Россоши тоже – иногда проводил отпуск. Лишь в маминых письмах проскальзывало что-либо об Алексее. Хорошего было мало. Он, спасибо ему, частенько заходил к родителям моим. Его по-прежнему добро они принимали. Но мама все чаще писала, что Алеша заходил сильно пьяный, что Алеша пьет, что вынужден уходить с работы на работу…
Алексей в педучилище учился вместе с моим двоюродным братом Леонидом. Они даже немножко дружили. В один из моих приездов в Россошь брат рассказал мне о случае, больно ударившем по сердцу. Отец брата, дядька Семен, купил кирпича на Россошанском кирпичном заводе. Когда с завода привезли ему кирпич домой, среди грузчиков был… Алексей. Стриженый, в робе, он подошел к дядьке Семену и попросил не говорить Леониду о такой встрече с ним…
После очередного наказания, попадая в Россошь, Алексей по-прежнему время от времени навещал моих стариков. И все чаще посещения кончались просьбами денег. Конечно же, на выпивку. Старики не могли отказывать ему и давали – по трояку, по рублику… Мама горевала о нем в очередном письме ко мне. «Ну, як же ему не дать, як вин та-ак же просэ… Та хоть бы ж кто ему помог…» Жизнь нас разводила, издалека помочь было трудно. Да и не знаю, сумел ли бы я помочь ему.








