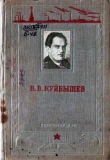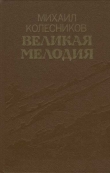Текст книги "С открытым забралом"
Автор книги: Михаил Колесников
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 27 страниц)
Почти у самой конспиративной квартиры Валериан нос к носу столкнулся со Слонимцевым. Хотел прошмыгнуть незамеченным, но Слонимцев поймал его за рукав пиджака.
– Те-те-те! Вот так встреча! А знаете, кадет, прогуливаюсь это я под вечер по Невскому и вдруг вижу... Кого бы вы думали?.. Ивана Чугурина! Свой, нарымский. Окликнул, а он даже головы не повернул. Я засомневался, да он ли, в самом деле. Ну пошел за ним, совсем настиг – а он как в воду канул! Юркнул в подъезд – и исчез. А теперь вот вас повстречал. – Слонимцев хитровато прищурился. – Может быть, вы к нему на свидание идете? Засвидетельствуйте ему мое почтение.
Он вобрал голову в плечи и неторопливо зашагал по проспекту. А Валериану захотелось догнать его и придушить.
Значит, Чугурин в Петрограде?.. Надо проследить за Слонимцевым. Почему он остановился? Он и не скрывает того, что смотрит в сторону Куйбышева. Нет, на конспиративную квартиру сегодня нельзя... Нельзя. Может быть, неспроста здесь кружит этот тип Слонимцев.
Валериан направился к Николаевскому вокзалу, спрятался за углом. И снова увидел Слонимцева. Но Слонимцев его не заметил, прошел мимо.
Соблюдая крайнюю осторожность, Валериан выбрался на Лиговку и направился к Обводному каналу.
Ему казалось: Слонимцев отстал, и теперь можно идти свободно. Жаль, не встретились с Чугуриным: есть что порасспросить, есть что рассказать.
Сегодня же нужно увидеть Паню... Все последние дни он думал о своей любви. Имеет ли право революционер обзаводиться семьей? Сперва казалось: имеет! А почему бы и нет?
Но после ареста Григория Ивановича Петровского и высылки его в Сибирь Валериан стал несколько по-иному смотреть на все. Домна Федотовна, жена Петровского, не плакала. Но она осталась с тремя детьми на руках... Трое детей. В чем их вина? Почему они должны страдать наравне с взрослыми?
И все-таки, и все-таки...
Сегодня он будет просить Паню стать его женой. Как это говорится в светских романах: «Прошу вашей руки»? Он не знал, как это выйдет. Не рассмеется ли она ему в глаза?
Да, все последние дни он находился в состоянии некоего потрясения, которое случается лишь раз в жизни. Пусть война, кровь – мир все равно прекрасен. Рука об руку пойдут они по своей необыкновенной дороге. Она ведь тоже любит его. Любит... Любит!..
Полицейские появились неизвестно откуда. Их было человек семь.
– Господин Куйбышев? Вы арестованы!
– На каком основании?
– Ну ты, заткнись. Таких, как ты, нужно расстреливать без оснований!
Окружили плотным кольцом, тыча револьверами ему под ребра. Он догадался: считают весьма опасным. Его почему-то всегда считали весьма опасным. Просто у него такой вызывающий, независимый вид: картуз набекрень, из-под него выбивается буйная путаница волос, словно клубы черного дыма, а в уголках губ – неизменная презрительно-снисходительная усмешечка.
Они готовы были растерзать его на месте, и он понимал это, но не боялся их.
– Уберите оружие: я боюсь щекотки.
Его втолкнули в карету.
И вскоре Куйбышев очутился в камере знакомого петроградского охранного отделения.
Через несколько недель ему сказали:
– Вам запрещено проживание в семидесяти двух городах России.
– И это главное обвинение?
Жандарм досадливо поморщился, взял бумагу, монотонным голосом начал читать:
– «Обвинительное заключение по делу В. В. Куйбышева...»
– Но почему «заключение»? Следствия-то не было.
– И не будет! Все это пустые формальности. Наберитесь терпения и выслушайте. «Куйбышев является одним из наиболее активных представителей местной подпольной руководящей группы ленинцев, которая ликвидирована... – Он поднял на Валериана насмешливый взгляд, потом снова уткнулся в бумагу: – Которая ликвидирована. Группа носила наименование Петроградского комитета РСДРП. После получения известий о московских беспорядках, в конце мая 1915 года, Куйбышев совместно с рядом других партийных работников, одновременно с ним арестованных...»
Жандарм снова уставился на Куйбышева, по-видимому желая знать, какое впечатление произвели на него последние слова.
Валериан дрогнул. Одновременно арестованных... Кого? Кого арестовали?..
– ...одновременно с ним арестованных, задался целью объединить в Петрограде социал-демократов всех оттенков и направлений, создать общую для них нелегальную партийную организацию и путем соответствующей агитации подготовить рабочие круги в столице к ряду революционных выступлений и беспорядков, долженствовавших, по предположениям его и его единомышленников, послужить началом нового революционного вооруженного восстания».
Он отложил бумажку в сторону и опять поднял на Валериана свои холодные прозрачные глаза:
– Вы с чем-нибудь не согласны, господин Куйбышев?
– Я обо всем скажу на суде.
Жандарм усмехнулся, почесал подбородок.
– Суда не будет. Все уже решено: вас немедленно отправят в ссылку в Иркутскую губернию.
Валериан понял, что все на самом деле уже решено.
– Надолго?
– Экий вы любопытный! Вы настаиваете на следствии? В нем нет нужды: решением особого совещания при министерстве внутренних дел вы приговорены к высылке на три года.
– Я все ваши обвинения считаю провокацией, неумной выдумкой.
– Не горячитесь. Вы же знаете, что все – сущая правда. Да нам и не нужны доказательства: их нам дал человек, которому мы доверяем. Он знает вас как облупленного. И ваших товарищей. Он был среди вас.
– Требую очной ставки!
Жандарм устало махнул рукой:
– Очной ставки не будет. Глупо‑с.
– Кто еще арестован?
Жандарм снова поскреб подбородок.
– Скоро вы их всех увидите. Вам предстоит далекий путь. Рука об руку.
...Он их увидел в петроградской пересыльной тюрьме. Полторы сотни арестантов выстроились в коридоре тюрьмы. Здесь были мужчины и женщины, политические, уголовники, пленные немцы и австрийцы. В свете газовых светильников лица казались мертвенно-бледными.
– Паня!
Она повернула лицо, увидела Валериана, и ее глаза зажглись радостью: вместе! А больше ничего и не нужно...
Среди арестантов были его друзья по партии: Плетнев, Егоров, Остриенко-Остроухова и другие. Значит, жандарм не врал: арестовали всех. Но уцелела ли конспиративная квартира на Невском? Нет, комитет не разгромлен! Арестовали не весь комитет. Он будет жить, каждый раз возрождаясь, словно феникс из пепла.
И еще одного знакомого увидел здесь Валериан. Давнего знакомого: полицейского Гаврилова. Того самого, которому при встрече всегда делал козу. Но сейчас он уже не был полицейским. По всему чувствовалось: здесь он важное лицо. На нем военный мундир с погонами капитана. Начальник конвоя.
Гаврилов сделал кому-то знак, и конвойные солдаты внесли несколько связок ручных кандалов. Гаврилов важно разгладил усы, рявкнул:
– Встать в затылок! Надеть кандалы!
Он сам взял связку ручных кандалов, прошелся вдоль колонны. Солдаты стали сковывать арестантов попарно. Когда Гаврилов поравнялся с Валерианом, тот повернулся и сделал ему козу. Начальник конвоя решил, что над ним издеваются, побагровел, но, вглядевшись в лицо Куйбышева, со злым удовлетворением проговорил:
– А это вы, лже-Соколов! Давненько не виделись. Я по вас, признаться, скучал. А теперь вот снова разлучаемся. Надеюсь, надолго. Коза-дереза!
Валериан расплылся в улыбке, поклонился, сделался робким, просящим.
– Господин Гаврилов! Могли бы вы в знак нашей былой дружбы оказать некоторую, очень важную для меня услугу?
Начальник конвоя фыркнул:
– Смотря какую услугу! Передать что-нибудь на волю? И не просите. Запрещено‑с.
– Ну что вы, что вы! Да у меня язык не повернется просить о таком. Да и на воле никого не осталось. Вон там стоит моя невеста, ее фамилия Стяжкина. Мы из-за ареста – будь он неладен – не успели обручиться.
– Ну и что?
– Обручите нас! – И Валериан протянул вперед сжатую в кулак правую руку.
Гаврилов сперва не понял. Смотрел выпученными глазами. А когда понял, ухмыльнулся, звякнул железными браслетами.
– А вы как были шутником, так и остались. Ну что же, я тоже люблю соленую шутку. – И крикнул: – Эй, Стяжкина Прасковья, немедленно ко мне!
Когда Паня подошла, Гаврилов, осклабясь, спросил:
– Хотела бы ты обручиться с этим человеком?
Она вся подалась к Валериану:
– Да!
– Протяни левую руку.
Когда она протянула руку, Гаврилов надел на эту тонкую смуглую руку железный браслет и цепью соединил его с браслетом на руке Валериана.
– Обручаю вас на веки вечные!
Конвойные захохотали.
– Спасибо, Тимофей Петрович. После победы социалистической революции мы вас не забудем, – проговорил Валериан растроганно.
Глаза Пани были полны слез. То были слезы счастья. Она улыбалась. А он тихо запел:
– Гей, друзья! Вновь жизнь вскипает...
Ему исполнилось двадцать семь лет.
7
Скоро весна. Но здесь, в глухом сибирском краю, ее приближение и не чувствуется. Молчаливо стоят сосны и ели, покрытые тяжелой снежной кухтой, от медвежьих берлог валит пар. Из-за высоченных сугробов не видно крыш селеньица Тутуры: можно проехать мимо и не заметить человеческого жилья.
Тайга, только тайга без конца и края. Царство медведей, у которых только что появилось потомство. Скованная льдом Лена. От морозов лопаются деревья. Здесь истоки могучей реки. До железной дороги триста пятьдесят верст, а то и все четыреста. Неподалеку – священный Байкал.
– Уходить надо. Если замерзнем – все равно, – сказала Паня. – Сидеть здесь прямо-таки невмоготу.
– Не замерзнем, – отозвался он. – Денька через три холода спадут – и махнем в Иркутск. Если хочешь знать, эти четыре ссыльных месяца я считаю самыми счастливыми в жизни... Мы были вместе и любили друг друга. А бежать надо. В Питер!.. Только бы вдруг не объявился в Тутурах Слонимцев! Тогда нашему побегу крышка: я становлюсь суеверным. Куда бы ни приехал – он тут как тут! Впрочем, черт с ним. Все равно дадим тягу! Вот послушай – только что сочинил:
Не прими за усталость, не прими за измену
Ты, вместилище силы, мощный город – магнит.
Завтра снова с тобою, завтра снова надену,
С бодрым криком надену все доспехи для битв...
– Зачем же откладывать на завтра! – со смехом сказала она, протягивая ему заштопанный чулок. – Надевай сегодня свои доспехи для битв и пойдем пилить дрова. Как говорил твой мудрец, ну тот, о брачной жизни?
– А, Кант! Он говорил, что в брачной жизни соединенная пара должна образовывать как бы единую моральную личность. А единой личности не нужна большая роскошная квартира...
Они занимали крошечную комнату в доме крестьянина Поликарпа Головных, промышлявшего извозом, – чуланчик с одним оконцем. И это оконце всегда было покрыто крепкими серебристыми узорами.
Еще никогда Валериан не ощущал такого подъема сил. Он в самом деле чувствовал себя счастливейшим человеком. Матери писал: «Дня не хватает. Если бы его увеличили в два раза, то и этого времени было бы мало. Хорошо, если бы сутки имели 72 часа!»
Нет, не самообразованием занимался он в это время. Весь Верхоленский уезд, все станки и села, по которым были разбросаны политические ссыльные, жили далекой войной на западе. И они с Паней – тоже.
Там еще в июне прошлого года русские войска оставили Галицию. Германское командование пыталось окружить их в Польше, но не сумело: русские вышли из-под охватывающих ударов австро-германских войск. Обе стороны, сильно обескровленные, прекратили боевые действия. Но враг все же углубился в пределы России. Какой-то переломный момент. И Валериан догадывался: ни та, ни другая сторона с силами так и не смогут уже собраться. Потери русских убитыми и ранеными каждый месяц доходят до сотен тысяч! Доверие к союзникам подорвано: они все так же стремятся воевать до последней капли крови русского солдата. Генерал-квартирмейстер штаба Западного фронта Лебедев сказал английскому представителю генералу Ноксу:
– История осудит Англию и Францию за то, что они месяцами таились, как зайцы в своих норах, свалив всю тяжесть на Россию.
И Франция, и Англия в своих резервных складах создали огромные запасы снарядов, пулеметов, пушек. А на запросы русских, у которых не хватает даже винтовок и патронов, отвечают: нечего дать. Они холодно предоставили Россию собственной судьбе. Тот же Нокс в интимном кругу говорил с откровенным цинизмом: «Русские – это наши жертвенные бараны. Они всегда берут на себя роль жертвенных баранов».
Куйбышев думает о своих братьях Николае и Анатолии. Где они? Николай – офицер, на фронте. Возможно, убит. Анатолий – инженер-электрик. Известий от него нет. Может, тоже погнали на фронт? Война, война... Проклятье человечества.
За спиной истекающих кровью народов идет так называемое дипломатическое зондирование возможности сепаратного мира между Россией и Германией. Немцы для этих целей использовали свою шпионку фрейлину русского двора Васильчикову, которую война застала в Австрии. Ей дали возможность пробраться в Россию, и она стала добиваться аудиенции у царя. Но обо всем пронюхала дотошная пресса, и Васильчикову пришлось выслать из Петрограда. Тогда брат царицы, принц Эрнст Гессенский, прислал ей письмо с предложением начать переговоры о мире.
Куйбышев был озабочен одним: донести до каждого политического ссыльного в Верхоленском уезде Иркутской губернии ленинский манифест ЦК партии большевиков «Война и российская социал-демократия»: о войнах справедливых и несправедливых, о лозунгах превращения империалистической войны в гражданскую и поражения царского правительства. Правительства воюющих государств вдруг превратились в «миролюбцев», они жаждут мира, «своего» мира, империалистического. Боятся, чтобы затеянная ими война в самом деле не превратилась в гражданскую.
Находясь в Тутурах, Валериан не терял связи с Петроградом. Несмотря на частые аресты, Петербургский комитет продолжал действовать: не так давно комитет принял решение поддержать забастовку Путиловского завода всеобщей городской стачкой. Бастовали десять тысяч человек. Хорошо! Там все идет своим чередом. Пора, пора туда.
А пока приходится воевать все с теми же ликвидаторами, эсерами и оборонцами, которых по недоразумению царский суд сослал в Иркутскую губернию.
Споры случаются жестокие. Ильич призвал к полному разрыву с потерпевшим крах II Интернационалом. Нужно создать новый, III Интернационал! И Куйбышев настойчиво объясняет товарищам необходимость подлинно революционного Интернационала.
Еще в прошлом году вместе с депутатами-большевиками Думы был арестован некто Розенфельд, он же Каменев, журналист. В бытность в Петрограде Валериан встречался с этим Каменевым на квартире у Петровского. Слонимцев называл его своим другом – «несмотря на идейные разногласия». Но, по-видимому, разногласия имели частный характер, так как Слонимцев прямо-таки захлебывался от восторга, рассказывая о Каменеве.
– Вы заметили: Лев Борисович как две капли воды похож на Николая Второго?
– Еще бы! Да не скажи вы, что это Каменев, его от царя-батюшки и отличить нельзя было бы: он ведь тоже за войну до победного конца, – иронизировал Валериан. – Великий патриот!
Каменев был арестован в селе Озерки, неподалеку от Петрограда, где представители большевистских организаций России и депутаты-большевики собрались обсудить тезисы Ленина о войне. На этой конференции Каменев помалкивал, соглашался.
По доносу участников конференции арестовали. Всего одиннадцать человек. И вот Каменев – на скамье подсудимых рядом с Петровским, Бадаевым, Мурановым, Самойловым, Шаговым. Вся Россия смотрит на них. Мужественные большевики даже суд стараются использовать для агитации против войны.
– Война не в интересах рабочих! Превратим войну империалистическую в войну гражданскую!
Их ждет приговор: на вечное поселение в Туруханский край!
Поднимается болезненно бледный человечек с рыжеватой бородкой, с миндалевидными выпуклыми глазами. Он покашливает, втягивает голову в узкие плечи.
– Господа судьи! Я не политик, я журналист, но я не согласен с Лениным. Я честный человек и заявляю прямо: лозунг поражения своего правительства считаю вредным. Я неоднократно заявлял об этом. Кому? Ну спросите хотя бы господина Иорданского. Наш лозунг – «ни побед, ни поражений».
Зал содрогнулся от неслыханного предательства: известный большевик Каменев-Розенфельд отрекся от Ленина! Весть вырвалась из закрытого зала суда, покатилась по России, прошла через все кордоны: Каменев отрекся... Презренный трус, предатель... Вошь на теле революции смеет называть себя честным человеком!
Нет, не хотелось Каменеву в далекую туруханскую ссылку. Какое отношение имеет он, интеллигентный революционер, ко всем этим Бадаевым, Шаговым, коренным рабочим, у которых машинное масло навеки въелось в ладони шершавых рук? Тоже выискались марксисты! Но странный лозунг Каменева «ни побед, ни поражений» насторожил жандармов: поди разберись!
– Хочет всех обмануть! – сказал жандармский генерал Куценко. – Кто не желает побед для нашего оружия, тому место в ссылке, на каторге.
И незадачливого оборонца вместе с другими осужденными отправили в Сибирь.
Ссыльные до сих пор плюются от омерзения, требуют партийного суда над изменником. Илья Ионов, прибывший на вечное поселение в Тутуры, рассказывает:
– Хотел смягчить приговор ценой предательства. Мы осудили его поведение как измену делу партии. Все мы, конечно, испытываем чувство омерзения при мысли о нем.
– А где он сейчас?
– Как я слышал, Петровского, Самойлова, Муранова, Шагова, Бадаева и журналиста Каменева перевели из Туруханского края поближе к Красноярску.
– Странно. Красноярск – революционный центр Сибири!
– Значит, Николашке совсем плохо: за наших депутатов – рабочий класс. Вот и хотят сказать: мол, идем на уступки – только не делайте революцию!
Ах, журналист Каменев! Центральный Комитет партии направил вас в «Правду» для работы и практической помощи большевистским депутатам. Вы должны были подготовить боевое выступление, которое прозвучало бы с думской трибуны как призыв. Готовили‑с. А потом отреклись. Хотели устоять на одной ножке...
До сих пор Валериану приходится рассказывать ссыльным об этом позорном случае: мол, лично знаком. Чаи распивали, о политике говорили. В старые времена офицер, совершивший подобный поступок, добровольно или по принуждению бывших товарищей пускал себе пулю в лоб. Честь!
Куйбышеву, воспитаннику кадетского корпуса, где настойчиво прививали понятие о чести – пусть даже ложное, – поступок Каменева казался прямо-таки чудовищным. И этот странный человек конечно же считает себя правым на сто процентов: а как же могло быть по-другому? Не ехать же бедной жене с ее хрупким здоровьем в проклятую Сибирь?! Логика: Стяжкиной можно, жене Свердлова можно, а жене Каменева Раечке нельзя. И говорят, этот аргумент Каменев всерьез приводит в свое оправдание: очень любит жену.
– Я занимаюсь революцией, это моя профессия. Но при чем здесь моя жена, которая ничего не смыслит в политике?
– А жены декабристов?
– Они плохо знали своих мужей и ехали за ними в ссылку из-за религиозного фанатизма. Моя жена – атеистка.
Эта непонятная фигура все время вилась возле Ильича. Но Каменев отдельно не существовал, его всегда упоминали на пару с Зиновьевым: Каменев и Зиновьев.
Валериан заметил одну странную особенность. Враги Ленина, выступая против него, каждый раз объединялись в пары, словно сознавая свою неполноценность перед этим-гигантом революции: Мартов – Аксельрод, Мартов – Дан, Мартов – Троцкий, Парвус – Троцкий, Зиновьев – Каменев, Бухарин – Пятаков. То они выступают как соавторы с клеветнической брошюркой против ленинцев, то пишут хвалебные предисловия к брошюркам друг друга.
Особенно жаркие схватки случались у Валериана с меньшевиками и бундовцами, когда разговор заходил о статье Ленина «О национальной гордости великороссов».
Некто Ипатий Млечин, тоже журналист, во время споров прямо-таки приходил в неистовство.
– О какой национальной гордости вы говорите?! – кричал он. – Это же чистейшей воды великодержавный шовинизм. Немцы на нас наседают со всех сторон – и извне и изнутри, а мы говорим о национальной гордости великороссов. Нет ее и не может быть! А на тех, кто пытается бороться с немецким засилием в нашей армии, при дворе смотрят как на врагов династии. И почему, собственно, нужно гордиться своей принадлежностью к тому или иному народу? Не все ли равно, к какому народу принадлежать? Для революционера это не должно иметь значения, иначе разговор об интернационализме – пустой звук.
– А мне не все равно, к какому народу принадлежать, – отвечал Куйбышев.
– Почему?
– Я люблю свой язык, свою родину.
– Ну и что же? Вы могли бы родиться, скажем, немцем, и тогда любили бы не русский, а немецкий и свою германскую родину считали бы прекрасной. В чем разница? Или русским быть лучше, нежели немцем?
– Для кого как. Каждый любит свою родину и свой язык. Я родился русским и не могу представить себя ни немцем, ни французом, не могу присвоить себе традиции чужого народа, жить ими. Мы корнями уходим в нашу русскую историю, в наши революционные традиции, и я горжусь принадлежностью к племени великороссов, потому что они ближе всех сейчас к революции и им суждено сотворить то, чего еще не было в истории.
– Мистика!
– Ну, не такая уж мистика.
– Милюков и Родзянко тоже орут об отечестве.
– О своем помещичье-буржуазном отечестве, стараются выдать царскую Россию за отечество всех в ней проживающих.
– А разве есть другая Россия, не помещичье-буржуазная?
– Пока нет, но скоро будет: Россия социалистическая. Мы ведь беспрестанно боремся за это свое отечество: не на фронтах, а здесь, внутри страны. Враг, который не пускает нас в наше отечество, – самодержавие, помещики, капиталисты. Вот потому мы и хотим поражения царского правительства в войне: оно к нашему рабоче-крестьянскому отечеству никакого отношения не имеет. Долой самодержавие!
– Выходит, кайзер – ваш союзник в борьбе с русским царем?
– Ну положим, кайзер не кричит: «Долой самодержавие!» Цари и кайзеры, если они даже дерутся друг с другом, всегда остаются союзниками. Для них народы – наподобие бойцовых петухов. Сидят цари у себя в ставках, покуривают дорогие папиросы и наблюдают, как эти самые бойцовые петухи рвут друг друга шторами. Кровь, перья. Весело. Цари помирятся, поделят земли, а мертвые не вернутся. Дрались, а за что – так и не поняли, и умерли, оставив сирот. А мы всех этих царей и кайзеров за шиворот: вот вам и гражданская война! А там, глядишь, и в Германии, и повсюду нашему примеру последуют.
Млечин спохватился, понял: не его старается убедить Куйбышев, а тех, кто собрался их послушать. Млечина не переубедить. Да и не интересно ему великорусского мужика превращать в демократа. Зачем? У Млечина на пальце колечко с искусно выточенной из камня виноградной гроздью. Своеобразный масонский знак. Единомышленники узнают друг друга по этому кольцу. Свою принадлежность к некоему сообществу Ипатий и не скрывает.
– Это мой паспорт в любой стране, – говорит он, любуясь металлическим кольцом и каменной гроздью винограда.
– А кто вы такие, если не тайна?
– Никакой тайны нет: мы ревнители грядущего дня.
– Как это понимать? Религия?
– Почти что. Мы стоим над классовой борьбой.
– Отрицаете ее?
– Ни в коем случае! Наоборот: мы стараемся разжигать ее всеми способами.
– Тогда я ничего не понимаю.
– Все очень просто. Вы считаете, как написано в вашем коммунистическом манифесте, что история человечества – это история борьбы классов. А мы на все смотрим несколько по-иному. Когда человечество изнурит себя классовой борьбой, гражданскими войнами, революциями, войнами национальными, которые придут на смену классовым, – выдохнется, одним словом, вот тогда мы продиктуем ему свои условия.
– Не дождетесь.
– Мы привыкли ждать. Подождем. «Семидесяти семи принадлежит ухо мира, и я один из них...»
– За что же все-таки вас упекли в ссылку? За подстрекательство? Или за ваши библейские воздушные замки?
– Считайте как хотите. Во всяком случае, союзниками мы с вами никогда не будем и не можем быть. Еще Спенсер говорил, что если сравнить воздушные замки мужика и философа, то архитектура окажется различной.
– Не знаю, как насчет мужика и философа, но в вашей воздушной вилле, сооруженной из мелконационалистического бреда, я сразу задохнулся бы от дурного воздуха. А еще толкуете об интернационализме! Ваш интернационализм у вас на пальчике.
Да, много разных людей прошло перед глазами Куйбышева за эти годы, и каждый нес в себе нечто. И как бы прямолинейно ни выражался человек, за этим всегда крылась некая сложность, сцепление множества идей, событий, надежд.
Простота – штука всегда кажущаяся. Паню удивляет, почему он так пристально изучает периоды упадка и реакции в истории всех стран и народов. Зачем это ему нужно? А ему нужно, нужно. Почему народы устают и как бы впадают в прострацию? Казалось бы, еще одно маленькое усилие – и полная победа... Но силы зла почему-то неизменно берут верх. Почему? Может быть, они лучше организованы? У них было время, чтобы организоваться. Они цепки, выживают по каким-то таинственным законам. Они почему-то даже после ожесточеннейших схваток не впадают в прострацию, им словно бы и не нужна передышка. Она требуется лишь тогда, когда сталкиваются силы зла с той и с другой стороны. Почему кучка ничтожных авантюристов – конкистадоров – покорила огромнейший материк – Америку? Почему темный кочевник Чингисхан покорил половину цивилизованного мира? Почему не победили Разин, Пугачев, декабристы? Что это за гипноз истории и как разорвать его? Да, да, весь секрет в организованности, в организации. Даже ничтожный Млечин, мелкобуржуазный клопик, верит в силу своей организации. Для таких, как он, организация служит и щитом и средством нападения, она придает пустопорожним людишкам вес, потому что с организацией, какой бы она ни была, приходится считаться.
Нужно пристально изучать периоды упадка, периоды реакции, все враждебные рабочему классу течения, все разновидности оппортунизма, формы предательства, формы революционного авантюризма.
Нет, не по университетской программе изучал Куйбышев все это. Он доходил до истоков через свою страстную увлеченность, через стремление понять не только позитивные стороны революционного движения, но и то, что мешает этому движению.
Он вдруг натолкнулся на некую дилемму: оказывается, у каждого общественного явления – будь то развитие производства или же классовые и национальные отношения – есть объективная и субъективная сторона.
До этого он почти неосознанно принимал во внимание лишь объективную сторону, так сказать железные законы развития общества. Скажем, революционная ситуация. Думалось: субъективный фактор не может решать исход дела революции. Существует как бы историческая предопределенность. Пока не набухнет от питательной влаги семя – оно не прорастет.
Теперь он стал догадываться: субъективные моменты могут даже историческую предопределенность затормозить. Он был обрадован, когда в статье Ленина «Крах II Интернационала» нашел ответ на мучившую его загадку: роль субъективного фактора в развитии общества, оказывается, настолько велика, что даже при наличии революционной ситуации невозможно победить, если субъективный фактор не созрел. Революция возникает тогда, когда к объективным причинам присоединяется субъективная: способность революционного класса на революционные массовые действия, достаточно сильные, чтобы сломить старое правительство, которое никогда, даже в эпоху кризисов, не «упадет», если его не «уронят».
Валериан сделал вывод: субъективный фактор – это и есть та сила, которая способна реализовать возможности, созданные объективными условиями. Между возможностью и ее воплощением в жизнь лежит субъективный фактор. Его нужно кропотливо изучать, отличать от субъективизма.
У Ильича он читал: «Один из главных, если не главный, недостаток (или преступление против рабочего класса), как народников и ликвидаторов, так и разных интеллигентских группок, «впередовцев», плехановцев, троцкистов, есть их субъективизм. Свои желания, свои «мнения», свои оценки, свои «виды» они выдают на каждом шагу за волю рабочих, за потребности рабочего движения».
То была сладостная увлеченность: Валериан открыл целый мир, о существовании которого хоть и подозревал, но не успел обобщить все, привести в некую систему, дабы отчетливо увидеть силы, тянущие пролетариат вспять.
Он давно уже начал эту работу и теперь оттачивал свой сарказм, и враги стали его бояться. Он всегда был хозяином положения, его слушали затаив дыхание, за ним шли.
Он стал смотреть на себя и на остальных ссыльных как на материал, который нужно готовить для близкой революции. Материал должен быть горючим, взрывчатым.
Созывал партийные конференции, снова организовал коммуну и партийную школу, учил читать топографическую карту, учил штыковым приемам, но готовил солдат не для той, империалистической, а для своей, гражданской войны.
И все-таки пора было выбираться отсюда. Здесь семена брошены – всходы будут. Его активная натура требовала более масштабных действий. Чем больше запутывались империалисты с провалившейся войной, тем сильнее он радовался. Он понимал: все приходит к роковому концу. Он ощущал это, как ощущаешь приближение грозы. Только бы не кончилось все империалистическим миром.
Здесь много говорили о недавнем дерзком побеге ссыльного Фрунзе. Он отбывал свой вечный срок неподалеку отсюда – в Манзурке. Фрунзе создал крепкую партийную организацию, подпольную коммуну, библиотеку, партийную школу, где преподавал военное дело и историю военного искусства. Он шел тем же путем, что и Куйбышев в Нарыме.
Провокатор предал Фрунзе и его товарищей. Их схватили и погнали по тракту в иркутскую тюрьму. Жандармское начальство намеревалось отправить всех на каторгу. Во время отдыха в оекской тюрьме ссыльные сделали живую пирамиду, Фрунзе взобрался на нее и перемахнул через высокий забор. Только беглеца и видели! До сих пор ищут.
Куйбышев сожалел, что не довелось познакомиться с этим отважным человеком, о котором ему много рассказывал ссыльный из Качуга, бывший депутат-большевик Государственной думы Жиделев.
Холода кончились внезапно.
– Широкая масленица! – сказал Валериан Пане. – Вот я тебя и прокачу с бубенцами... К прощеному воскресенью надо убраться...
Масленица. Даже стражники подобрели. Горы румяных блинов, бега на реке. Масленичный разгул.
Посмеиваясь, Валериан рассказывает про знаменитых петербургских блиноедов – известного актера Варламова и не менее известного рассказчика и гурмана Горбунова, которые съедали по сотне блинов за один присест, правда продолжавшийся с пяти вечера до поздней ночи. На масленицу они проводили весь день в ресторане «Малый Ярославец», славившийся своими блинами, и обжирались то в одной, то в другой компании гуляк. А в Москве был известен блинами трактир Тестова...