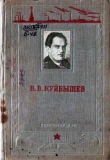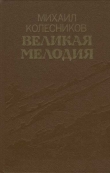Текст книги "С открытым забралом"
Автор книги: Михаил Колесников
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 27 страниц)
И здесь, в далеких Тутурах, были свои блиноеды, и здесь обыватель тешил не только свою русскую душу, но и тщеславие. Купчишки и мироеды щеголяют друг перед другом своими выездами и рысаками, их жены и дочери – нарядами, собольими шубами.
Лихие тройки, ряженые, веселая кутерьма на улицах, несмотря на отзвуки войны. Под треньканье балалаек и залихватские переборы тальянок прямо в небо взлетают качели, пестреющие яркими потоками девичьих ситцев и лент. Площадь шумит, хохочет, поет, щелкает семечки.
Когда к избе, где жили Валериан и Паня, подкатила тройка, украшенная лентами, он сказал:
– Пора. Прощайте, Тутуры, мы никогда вас не забудем.
Взвинтился сухой снег над лихой тройкой, звякнули бубенцы – и Тутуры скрылись за сугробами.
В Иркутске их уже ждали. Но с Паней произошла заминка: для нее паспорт пока не удалось достать.
– Пусть поживет у нас, – сказала миловидная женщина, хозяйка квартиры, где они остановились. – Паспорт найдем. А вам, Валериан Владимирович, нужно сегодня же покинуть Иркутск. Пока не хватились вас обоих в подгулявших Тутурах.
– Поезжай, – сказала Паня. – Встретимся в Петрограде. Я не буду здесь задерживаться. А то и без паспорта как-нибудь проскользну.
Он был опечален. Но задерживаться в самом деле не стоило. Небось их уже ищут.
Они простились. На вокзале, стараясь не попадаться на глаза полицейским, он с тревогой ждал поезда. Поезд запаздывал. Не было больше Куйбышева, ссыльного большевика, был сын ссыльного польского крестьянина из села Иличанское Верхоленского уезда Иосиф Андреевич Адамчик. Правда, не знающий ни одного польского слова. Оставалось надеяться: жандармы и полицейские тоже несильны в этом языке. Обрусел, ничего не поделаешь...
В вагон Куйбышев вошел после третьего звонка. Стал искать свободную багажную полку, чтобы забраться туда, избавив себя таким образом от необходимости отвечать на вопросы любопытных пассажиров.
Но некие таинственные силы и здесь подготовили ему удивительную встречу: на нижней полке потерянно сидел тихий молодой человек с гладко выбритым лицом. Он, по-видимому, плохо понимал, где находится. Его опекала молоденькая медицинская сестра, что-то говорила ему, успокаивала. «Наверное, свихнулся парень, – подумал Валериан, – теперь такие часто встречаются».
Взгляд помешанного рассеянно скользнул по лицу Куйбышева, но не задержался на нем.
Разве могли они оба предполагать, что недалек тот день, когда революция и гражданская война свяжут их крепчайшими узами! И разве мог Куйбышев догадаться, что перед ним находится не больной, а великий конспиратор, уже прославленный на всю Россию своими революционными подвигами Михаил Фрунзе, пробирающийся на фронт?! Совпадение? Да, конечно. Бывает. Как тогда с Андреем Соколовым. Тысячи раз незримо пересекаются наши пути с теми, с кем суждено идти рука об руку, делить и горе и радость. У случая свои законы.
Но самая невероятная встреча ждала его впереди, в Самаре.
8
До революции в России остались считанные месяцы. Путь Куйбышева в Петроград лежит через Самару. Собственно, он вынужден был пересесть с поезда на поезд, чтобы передать письма самарским товарищам от ссыльных всей Сибири – и Западной, и Восточной. Явка – в пекарне Неклютина.
Перепачканный мукой и тестом, пекарь писем брать не стал, пообещал:
– Вечером сведу вас в одно место.
И свел. Это была квартира токаря Шверника. Они познакомились.
– Товарищ Андрей что-то задерживается, – сказал Шверник. – Придется вам подождать.
Звякнула калитка. Шверник выглянул в окно:
– Он!
В комнату вошел человек весьма интеллигентного вида, в пенсне. Валериан вздрогнул:
– Бубнов!
Тот заморгал глазами, снял пенсне, протер его платком, снова надел, широко улыбнулся:
– Ну водит нас бог вокруг одного столба. Здравствуй! Откуда?
– Из Иркутска. Бежал.
– А куда путь держишь?
– В Питер, разумеется.
– Почему «разумеется»?
– А куда мне еще ехать? Там все знакомые.
– В том числе жандармы и полицейские.
– Питер велик. Но я с этой самарской петлей порастратился. Может, выручишь? На билет? А то махну зайцем.
Бубнов укоризненно покачал головой:
– Не выручу. Баста! Вот они, денежки. – Он вынул из карманчика несколько ассигнаций. – Но ты их не получишь. Заработать нужно.
Валериан расхохотался. Бубнов был человеком на редкость щедрым, а тут его вроде бы обуяла скупость.
– В Питере наших товарищей хватает, – сказал Бубнов, – а здесь, в Самаре, организация обескровлена. Именем партии приказываю тебе остаться здесь. Именем Ленина! Достаточно?
– Достаточно. Я ведь не анархист какой-нибудь. И к военной дисциплине привычный. В Иркутске у меня осталась жена, Прасковья Стяжкина. Махнет в Питер – тогда и не сыщем друг друга.
– К твоим услугам самарский телеграф.
Куйбышев развел руками:
– Как это я не сообразил сразу? В самом деле, телеграф! Цивилизация.
– Телеграфируй, чтоб выезжала сюда. И немедленно. Дело найдется. А это вот ей деньги на дорогу. Перешли. Не от меня – от организации.
– Капитулирую безоговорочно. От вида денег я совсем отвык, – произнес Валериан шутливо, засовывая ассигнации в потайной карманчик.
– А мне дело найдется? – спросил он, после того как напились чаю.
– Найдется, – сказал Шверник. – На нашем трубочном заводе. Ваш фрезерный станок стоит напротив моего токарного.
– Да я никогда не был фрезеровщиком! – воскликнул в сердцах Валериан. – Даже не знаю, с какого боку подойти. Столяр я. Ну могу рессоры делать. Ну в больничную кассу. На худой конец – землекопом.
– Нет. Фрезерный станок пустует. Парня угнали на войну. А замены не находится.
И все-таки Валериану на первых порах пришлось поработать табельщиком в пекарне Неклютина. Потом перешел в контору кооператива «Самопомощь». На завод его просто не хотели принимать: требовался фрезеровщик высокой квалификации. Шверник взял все на себя.
– Вас будут обучать работе на фрезерном станке тайно от администрации. Наш подпольный стол найма. Мы всех партийных товарищей устраиваем на завод таким образом. Главное – сдать пробу. А в шестой мастерской, как я уже сказал, место для вас есть.
Жил Валериан в чулане, спал на старой двери, снятой с петель, под тоненьким одеяльцем, под которым не укрыться от пронизывающего весеннего холода.
«Этот город со всеми его прекрасными домами, набережной, дебаркадерами, липовыми аллеями, скверами, заводами будет носить твое имя...»
Но слова провидца-волшебника вызвали бы у Куйбышева лишь ироничную улыбку. Зачем?.. Разве ради этого все? Вырваться бы в Петроград... Там, там остались товарищи, там путиловцы, там фабрики и заводы, где Куйбышева считают своим. А тут все приходится начинать как бы с самого начала. Войти в доверие к рабочим, стать одним из них. И в то же время – партийным авторитетом для них, чтобы направлять эту силу на революцию. А на заводе – засилие меньшевиков. Никому не известный Иосиф Адамчик должен в самое короткое время прочно утвердиться в мастерских, работать со сноровкой – и через конкретное дело добиться уважения. Рабочий человек не доверит неряхе. Покажи, на что ты способен.
В ночную смену его провели в мастерские. Знакомые запахи гари и масла, скрежет напильников, стук молотков. И лица вроде бы знакомые: длинные опущенные усы, впалые щеки, притушенные взгляды. Скованность сразу пропала, он почувствовал себя легко, будто вернулся домой. В ночные смены начальство сюда не заглядывало, много было свободных станков.
Фрезеровщик Дмитриев отрекомендовал Валериана как дальнего сродственника, приехавшего из Сибири. Мол, парень хочет получить специальность – вот он и будет потихоньку приспосабливать его к делу.
– Ему бы только получить квалификационную квитанцию, – говорил Дмитриев. – А парень он способный, это точно. Отменный столяр. Да и по металлу работал. Буду делать из него пробальщика.
Сдать пробу – значит, сдать экзамен на квалификацию. И Валериан старался.
Высокий, кудрявый, косая сажень в плечах, он сразу же вызывал симпатию у окружающих, как-то сразу стал своим. Прилежный, не обижается, когда корят за неумелость. Не сквернословит, не курит, не пьет. Словно красная девица. К таким всегда сочувственное отношение, их не только уважают, но и любят.
Валериан заготовлял сталь и обдирал лекалы, и вскоре его учитель Дмитриев стал замечать: Адамчик начинает догонять квалифицированных рабочих.
– Эге, да это уже проба первой руки! – воскликнул Дмитриев, разглядывая работу Куйбышева. – Поздравляю. Завтра же можете идти в стол найма. Будет небольшой экзамен.
Экзамен он выдержал. Получил квалификацию. Его зачислили в мастерскую.
– Поработаем на победу, – шутил Валериан в кругу партийных товарищей. – На победу революции, разумеется...
Рядом были Бубнов, Шверник, Галактионов, Кузьмичев, Коротков и другие большевики.
Вскоре, когда Адамчик занялся организацией нелегальной кассы взаимопомощи, рабочие поняли: разбирается не только в лекалах. С виду застенчивый, вроде бы простоватый, свойский, этакий медведь, а в курилке, куда стал наведываться, хоть и не курит, стоит, прислушивается к болтовне меньшевистски и оборончески настроенных рабочих, попросит махорки, свертит козью ножку, затянется разок-другой, а потом вроде бы ненароком спросит:
– А за что уволили Нестерова? Отменный мастер, как я слышал. Куча детей. Куда же ему с деревянной ногой? Ногу-то потерял за царя и отечество.
– Он сказал: «Царь с Егорием, а царица с Григорием». Назвал Ренненкампфа продажной немецкой сукой.
– И за такую малость уволили?
– Нет, не за это. Вот здесь, в курилке, рассказывал, что творится на фронте. Братания там всякие. Солдатики говорят: дескать, штыки в землю!
– Ну зачем же так с оружием обращаться?
– А как же, ежели война всем осточертела?
– Это точно. Кайзер с Николашкой снюхиваются: мол, мир надо заключать. Пока народ не потребовал с нас расплаты за всех убитых и покалеченных. Революции боятся. Гражданской войны. А во время гражданской, думаю, штыки пригодились бы. А?.. Ну а за Нестерова постоять нужно. Вернуть к станку. Детишки с голоду помрут.
– Это точно. Мы помогаем помаленьку, но увольнять не имели права.
Забастовка вспыхнула стихийно. Были казаки с нагайками. Но рабочие не разошлись, пока не выслушали Куйбышева и Шверника. Стрелять в рабочих генерал не отважился. Нестерова вернули на завод.
Куйбышев и Бубнов задумали созвать Поволжскую конференцию большевиков. Чтоб съехались делегаты и из Саратова, и из Царицына, и из Астрахани и других крупных городов Волги. Куйбышев сделает доклад об отношении к обороне и оборонцам, к буржуазным партиям, к военно-промышленным комитетам, созданным буржуазией. А главное – о новом Интернационале.
– Нужно действовать, как Ленин, – сказал Валериан товарищам. – Чтобы объединить всех, требуется своя, большевистская газета.
Куйбышев уже разработал обширный план сплочения всех сил Поволжья. Наконец-то рабочие Самары поняли, кто перед ними: крупный партийный организатор, вожак. Он стал душой этого сплочения всех сил. Переходил с завода на завод, посылал партийцев в другие города, устанавливал связи.
Из департамента полиции в Самарское губернское жандармское управление пришла депеша: «Самарские большевики устанавливают связи с другими поволжскими городами. Установить наблюдение и всех ликвидировать».
Валериан испытывал радость: приехала Паня. Они перебрались на другую квартиру. Паня сразу же стала помогать организационному комитету по созыву Поволжской конференции. Именно ее посылали в Сызрань, в Саратов и другие города.
То была особенная весна, полная света и синевы. Беспредельная ширь Волги, гудки пароходов, медленно плывущие мимо зеленых берегов развалистые баржи. Словно бы и нет войны, великой катастрофы. И в жизнь верилось как-то особенно остро.
Они всей душой привязались к этому солнечному зеленому городу. Часами стояли, обнявшись, на берегу и смотрели в слепящую даль. И снова казалось: жизнь прочна, как никогда. Тюрьмы, ссылки, кандалы – все это лишь испытания на пути к бесконечно прекрасному.
– Мы останемся здесь навсегда, – сказала она.
Валериан не отозвался, но подумал, что присох к Волге навеки: в этой реке была широкая русская доброта и величавость. Он видел Обь, видел Лену, но те сибирские великанши были угрюмы и пустынны, окутаны тоской и печалью. А Волга кипела от беспрестанного движения по ней, была вся пронизана свистками пароходов. Единственный на всю Волгу пожарный пароход «Самара». Когда случаются большие пожары даже в Саратове, вызывают «Самару». Пожары за последнее время случаются часто. «Самара» снует туда-сюда, а экипаж ее почти сплошь большевистский – и разлетается по всем поволжским городам революционная литература.
У Валериана и Пани на пароходе много знакомых, на нем плавает и кочегар, у которого они квартируют.
Конференцию наметили на сентябрь. Проходить она должна была на квартире одного из большевиков. В Самару начали съезжаться делегаты из Саратова, Нижнего, Пензы, Оренбурга, Сызрани. Куйбышев со всеми перезнакомился. С посланцем Сызрани знакомиться не пришлось, Куйбышев сразу узнал его: Слонимцев – Сапожков-Соловьев!..
– А я, знаете, отошел от оборонцев и от меньшевиков вообще, – сказал Слонимцев Куйбышеву. – Да, заблуждался. Осточертела война. Всюду развал. Даже Родзянко и Милюков требуют ликвидации монархии. Обстоятельства творят людей. Вот и меня сотворили. Теперь я убежденный сторонник Ленина.
Валериан не знал даже, что подумать. К шараханьям Слонимцева он привык, но не доверял ему.
– Этого Сапожкова-Соловьева я знаю давно, – сказал Куйбышев Бубнову. – Как бы не подвел он нас под монастырь.. Нужно сделать запрос в Сызрань.
– Поздно. У тебя, Валериан, если хочешь знать, развивается шпикомания. А может быть, человек в самом деле все понял? Он производит положительное впечатление.
– И все-таки в день конференции запер бы я его где-нибудь на барже. В Сызрань идет «Самара» – дам задание все выяснить.
– Выясняй.
Тревога поселилась в душе Куйбышева. Он больше не удивлялся игре случая. Почему Сапожков-Соловьев очутился в Сызрани? Может быть, просто удрал из голодающего Петрограда в хлебные края? Или ему пришлось убраться из столицы, опасаясь мести тех, кого он предал? Но ведет себя спокойно, с наглой уверенностью. Он решил стать большевиком – и вы, хотите того или не хотите, вынуждены считаться с этим фактом. Конечно, не все приходят в революцию прямым путем. И все же, и все же...
– Надо подождать...
Они шли с Паней берегом Волги мимо дебаркадеров и барж, груженных огромными рябыми арбузами. Подходили и отчаливали белые пароходы, между песчаными косами и островками сновали катера. Согнувшись под тяжестью ящиков, натужно крякали грузчики, бежали по шатким сходням. Резвилась в воде у берега детвора, летели брызги, слышались крики, смех.
Куйбышев любил детей.
– Знаешь, что самое прекрасное в этом жестоком мире? – говорил он Пане. – Детский смех!
Еще месяц назад она сказала, что готовится стать матерью, – и теперь он ходил словно бы помешанный от счастья. Напевал веселые мотивчики, глуповато улыбался.
– Ну уж изволь, матушка, роди мне сына, строителя социалистического общества.
– Строителя родить так же трудно, как певца или начальника телеграфа. А насчет сына постараюсь.
Они ушли далеко за город и очутились в густой ржи.
Паня брала колоски, разминала их на ладони, любовалась молочно-спелыми зернами.
– Хороший урожай. А убирать некому.
– Да, в армии, под ружьем, более девяти миллионов. Вся производительная сила.
В ней жила крестьянка, и вид поля, равнинной заволжской степи настраивал ее на веселый лад. Он знал это, и потому отдыхать они приходили именно сюда.
Не могли они знать, что это их последняя прогулка за город. Загорелые, кудрявые, как цыгане, красивые красотой молодости, они стояли среди высокой ржи и хохотали.
Но чувство тревоги все же не покидало Валериана.
– А знаешь, тебе бы уехать или к моим родным в Тамбов, или в Красную Глинку. Во всяком случае, на конференции тебе не стоит быть. Переправляйся за Волгу.
– Ну нет! – запротестовала она. – Ездила, ездила по всему Поволжью, а теперь извольте отсиживаться в Красной Глинке. Я-то всех делегатов в лицо знаю!
– А Сапожкова-Соловьева упустила.
– Из Сызрани должны были послать другого – Терехина. Сапожков уверяет: Терехина схватили. Хочешь, поеду в Сызрань – проверю?
– Нет, не хочу. Договорился с Петром Дмитриевичем с «Самары» – проверит. Боюсь я, Паня. Никогда не боялся, теперь стал бояться. За тебя боюсь. И за нашего маленького. Я почему-то часто вспоминаю Бадаева. Его с больной женой и тремя детьми выслали в Енисейскую губернию. Детишек жалко. Слонимцев – не к добру.
– Да какое уж тут добро! Но будет странно, если я, которой поручено встречать делегатов и опознавать их, стану уклоняться от этого дела. Скажут: Стяжкина в тринадцатое число верит.
Он понимал: Паня права. Нельзя ей уклоняться. Ну а насчет тринадцатого числа – это так: конференция будет проходить на Вознесенской улице в доме номер 13, 13 сентября. Не может Куйбышев создавать какие-то особые условия для своей жены, члена партии. Не объяснишь всем, да и не нужно...
– Будет сын – назовем Владимиром. В честь деда, – сказал он успокаивающе. – Я сам стану охранять конференцию. Приму все меры. Приду последним, осмотрюсь.
– Ты главный докладчик. Можно сказать, душа конференции. Нельзя заставлять ждать себя. Должен прийти самым первым.
Да, он был душой конференции, которая должна была состояться через несколько дней.
За полгода жизни в Самаре Куйбышев завоевал огромный партийный авторитет среди рабочих всех заводов и фабрик. Значился председателем пропагандистской коллегии, но, по сути, был занят восстановлением разгромленного жандармами горкома партии. И организационным комитетом по созыву конференции в общем-то руководил он.
Как и в Петрограде, он был занят объединением, строительством партийной организации. Нужно создать областной комитет, который объединит и будет руководить большевистскими организациями всего Поволжья.
Дел бездна.
...Настал день конференции. Куйбышев не находил себе места от беспокойства. Стоя у фрезерного станка, все ждал и ждал, когда раздастся гудок, оповещающий о конце работы. Загудел гудок. Валериан, вытерев ветошью руки, бросился в Александровский сад, затаился в кустах возле решетки, стал наблюдать.
Напротив был дом, где уже, наверное, собрались делегаты. И среди них – Бубнов, Галактионов, Андроников, Паня, Милютин из Саратова, Фокин...
Ничего подозрительного. Он хотел покинуть свой пост и войти в дом, как вдруг заметил господина с тросточкой. Игриво ею помахивая, господин исподтишка окидывал взглядом окна дома, где собрались делегаты. Прошелся раз-другой. Постоял, подождал. Застыл у театральной тумбы. Дом был двухэтажный. Делегаты находились на первом этаже.
Все ясно: конференция провалилась! Сейчас нагрянет полиция.
Не обращая больше внимания на шпика, стараясь лишь выиграть время, он перемахнул через ограду, вбежал в квартиру.
– Немедленно разойтись!
Бубнов поглядел на него с недоумением:
– Опять шпикомания?
Поняв, что ему не верят, Куйбышев стал хватать всех за плечи и выталкивать в коридор.
– Отпустите! Я сам выйду, – сказал Слонимцев и иронически скривился: – Нервный вы стали, Куйбышев. А, понимаю: жена в положении.
– Это вас не касается. Уходите!
Предчувствие не обмануло Куйбышева: ночью хозяина квартиры арестовали, произвели обыск.
– Паня, уезжай за Волгу, в Красную Глинку, – сказал Куйбышев жене. – Это дело рук Слонимцева. Нас арестуют.
– А ты?..
– Я не могу, не имею права. Если других схватят... Нужно выявить, кто предал.
– Хорошо. Раз настаиваешь...
Она увязала свои пожитки в узел. Тихо вышли из дома. Он решил проводить ее на пристань, усадить в лодку. А там надежный человек все сделает... И до Красной Глинки довезет.
Занималось утро. Они направились к реке. Почти бежали по пустынным проулкам. Тускло и серо блеснула Волга. Лодка на месте. Лодочник – тоже.
– Прощай, Паня! Если все обойдется, наведаюсь к вам... Иди...
Они обнялись. Застыли, страшась разлуки.
– Поторопитесь, голубчик! Вы оба арестованы!
Они оторвались друг от друга и увидели четырех жандармов в голубых мундирах.
– Все ваши тоже арестованы. Все. Сковать их!..
9
– В туруханскую ссылку на пять лет! И вас, и вашу жену, Стяжкину, бежавшую из иркутской ссылки.
– Она беременная. Вы не имеете права...
Жандармский полковник Познанский высокомерен, слушает рассеянно. У него неподвижное, окаменевшее от равнодушия к чужим страданиям лицо.
– Пожалуй, вы правы, – соглашается он. – Мы посадим ее в самарскую тюрьму на хлеб и воду: пусть рожает в тюрьме. У профессионального арестанта и дети должны рождаться арестантами. Хотите закурить?
Валериан взял папиросу, жадно затянулся дымом. Он нервничал.
– Это бесчеловечно, господин полковник. Она хрупкая женщина. Тюрьма – смерть для нее и ребенка.
– Мы вас всех сгноим в тюрьмах и на каторге. Мужичка, быдло – а тоже в политику полезла. Раньше таких на съезжей пороли.
Валериан бросил на него косой, ненавидящий взгляд.
– Ничего, господин полковник: не за горами время, когда быдлом будут считать вас, душителей народа. Знаете, как вас называют в нашей революционной песне? Сворой псов и палачей. Вы и есть свора...
– Хотите, чтоб к пяти годам набавил еще?
– Набавляйте. Это не имеет значения. Революция стоит у вас за дверью. А у нас она в руках.
Как ни удивительно, но в камере, где сидели Куйбышев и столяр Максимов, оказался и Сапожков-Соловьев.
– Из меня тюремщики чуть душу не вытряхнули, – сказал он угрюмо. – Но что из меня можно вытрясти? Сказал: ничего не знаю. Раз не на месте преступления...
– А это и не преступление вовсе!.. – резко оборвал его столяр. – Конференция.
Слонимцев замолчал.
Куйбышев подошел к высокому окну, подтянулся на прутьях решетки. Пожалел, что до этого, будучи на воле, не присмотрелся к самарской тюрьме. Казалось, не потребуется. Теперь сгодилось бы. Нужно учесть на будущее, изучать все тюрьмы, их расположение.
Человеку с тройной фамилией он по-прежнему не доверял. У него и душа, наверное, тройная? Но когда Слонимцев – Сапожков-Соловьев снял рубаху, Валериан увидел кровавые рубцы на его теле. Он попросил сделать примочки. Максимов, намочив свою тельняшку, стал прикладывать ее к исполосованной розгами, вспухшей спине Слонимцева.
«А возможно, в самом деле ни в чем не повинен?..» – подумал Валериан и закурил.
Здесь, в тюрьме, он пристрастился к курению, сворачивал одну козью ножку за другой. Думал о Пане, тревожился за нее. Вынесет ли жестокий тюремный режим? Сейчас нужно питание, а в тюрьме на день дают по двести – триста граммов ржаного хлеба. Долго ли протянет на таком пайке?..
Он ходил и ходил по тесной камере, рассудок мутился от страстного желания сломать эту решетку, вырваться на свободу. Только бы вырваться на свободу!.. Он сокрушил бы гнусную тюрьму, сбил бы все запоры, выпустил товарищей...
Почему неудачи преследуют его?.. Почему ему так мало отведено на личные радости?..
– Надо бежать! – сказал он вслух. – У меня есть план... И вы поможете.
Сколько раз потом проклинал себя за неосмотрительно брошенные слова! Поверил Слонимцеву!..
– Что мы должны делать? – спросил Максимов.
– Прежде всего нужно связаться с волей... За тюремной стеной нас должны ждать. Вырваться к рабочим... Рабочие укроют.
План был разработан в мельчайших подробностях. Бежать из столярной мастерской, где Максимов и Куйбышев мастерили кушетку (как потом выяснилось, для начальника тюрьмы).
Когда все уже было готово к побегу, надзиратель, который особенно сурово обращался с арестантами и которого Куйбышев успел возненавидеть всей душой за вечные придирки, отозвал Валериана в сторону, сказал шепотом:
– Петр Дмитриевич просил передать: был‑де в Сызрани. Сапожков – провокатор. Наше начальство знает от него все: вы побег задумали... Остерегитесь.
Заметив, что к ним прислушиваются, надзиратель вырвал из рук Куйбышева рубанок, бросил его в кучу стружек и громко выругался:
– Только дерево переводишь зазря, так твою!..
Куйбышев не слышал ругани, он дрожал от возбуждения. Значит, Слонимцев провокатор?.. Все. Побег сорван. Вот кто провалил конференцию!.. Нужно сообщить всем: и Бубнову, и Галактионову, и Андроникову – через того же надзирателя... Гадина, отвратительная гадина, ползающая за Куйбышевым по всей России... Придушить бы его!..
Подошел Слонимцев. Спросил:
– Ну как? Когда бежим?
Куйбышев еле удержался от страстного желания плюнуть ему в лицо.
– Никогда, Слонимцев – Сапожков-Соловьев: вы задумали вместо ссылки отправить меня на каторгу? За побег такое дело дают. Только зря старались. Жалкая тварь...
Слонимцев побелел.
– Ничего не понимаю.
– Мы с Максимовым объясним вам все в камере. Как говорят немцы, доносчику первый кнут.
В камере Слонимцев больше не появился. И Куйбышев был рад тому: он мог бы покалечить предателя, а этого тюремщики и жандармы не простили бы.
...Динь-бом, динь-бом... Опять все тот же захоженный путь – сибирский, дальний. Только, на этот раз они скованы ручными кандалами не с Паней, а с Бубновым.
Пересыльные тюрьмы Оренбурга, Челябинска, Новониколаевска... Лютые январские морозы. До революции считанные дни, а Куйбышев, Бубнов и Андроников все продвигаются и продвигаются в глубь Сибири. Где он, тот самый Туруханский край? Где-то возле Полярного круга, в царстве вечной стужи. Сначала их погонят в Красноярск, там они дождутся в тюрьме весны, а потом по Енисею – на барже... Этапы, станки... Заколдованный круг, из которого никак не вырваться. Паня осталась в тюрьме. Ей скоро рожать...
Скрипя от бессильной ярости зубами, стараясь заглушить внутреннюю боль, он сочиняет стихи:
Мы в путь пошли под звуки кандалов,
Но мысль бодра, и дух наш вне оков...
Если бы не остановка в Новониколаевске... Случай всегда готовит Куйбышеву неожиданные встречи. Этой встречи он жаждал много лет и в то же время словно бы боялся ее. Нет-нет, не за себя боялся. А за старенькую, седеющую женщину, которая бросится на шею, зальется слезами. А он даже не сумеет утешить ее. Лишь дрогнет, сожмется от невыносимой тоски сердце.
Запасные железнодорожные пути. Валериана и его товарищей выводят из арестантского вагона, чтобы перегнать в пересыльную тюрьму. Они ослеплены ярким зимним солнцем. Но и здесь, на дальних путях, стоят люди, суют арестантам в руки хлеб. Так уж повелось.
К Валериану кидается женщина в верблюжьей шали, в поношенной шубенке. Конвоиры не в силах удержать ее.
– Воля! Сыночек...
– Мама!.. – сдавленный крик из его груди.
Он обхватывает мать руками, на которые еще не успели надеть кандалы, целует, прижимается лицом к ее мокрому от слез лицу.
– Мама... Мамочка... Все хорошо, я вернусь скоро, мама... Скоро. Вернусь. Не плачь. Где Коля и Толя? Живы? Где сестры?..
Конвойный выхватывает шашку, плашмя бьет ею Валериана по плечу, голове, но Валериан не выпускает мать. Конвойный приходит в бешенство, наносит удар за ударом, кричит, беснуется. Он готов зарубить Куйбышева.
– Прощай, Воля. Храни тебя бог... Прощай...
Мать оттаскивают. Куйбышева грубо толкают в спину прикладом: «Пошел!» Он дрожит от гнева, готов его выместить на конвоирах, но огромным усилием сдерживается. Бубнов и Андроников успокаивают:
– Крепись, брат. Крепись... Сцепи зубы.
Откуда мама прознала, что его повезут через Новониколаевск? Собрала жалкие грошики, каждый день в мороз приходила сюда, на дальние пути. Увидеть хотя бы издали... Увидеть сыночка. Материнское сердце чует... «Я не буду описывать проводов, пересыльных тюрем в Оренбурге, Челябинске, Новониколаевске, где меня чуть было не убил конвойный шашкой только потому, что там меня встретила на станции мать» – все это он расскажет потом.
А сейчас думает о материнском сердце, о жестокостях и несправедливостях жизни.
Материнское сердце... Несчастная Паня, его жена. Суждено ли ей стать матерью? Жива ли она? Скоро должны начаться роды. Он все подсчитал... Подсчитал. Палачи, псы... Нет им пощады, нет, не будет пощады... Только бы дожить до революции...
Он не знает, что революция уже идет за арестантами по пятам.
Где-то в Петрограде всеобщая политическая стачка. Искрой послужило закрытие правительством Путиловского завода. Тридцать тысяч рабочих оказались выброшенными на улицу. Замерли все заводы. И люди, не боясь полиции и казаков, кричат в полный голос:
– Долой самодержавие! За демократическую республику! Да здравствует революция... Мира, хлеба и свободы!..
Меньшевики и эсеры призывают рабочих воздерживаться от забастовок, так как они мешают «делу обороны России от Вильгельма». А Вильгельм в это время пытается тайно договориться с царем о сепаратном мире. Родзянко, Милюков и Гучков, стремясь сорвать революцию, готовят дворцовый переворот.
А по Невскому течет и течет людской поток. Движение трамваев приостановлено.
Петербургский комитет большевиков, где до сих пор действуют боевые товарищи Куйбышева – Чугурин, Скороходов, Шутко, Толмачев, Коряков, призывает солдат к братанию с рабочими.
Но гремят выстрелы. Льется кровь на Невском, на Знаменской площади. Рабочие не боятся залпов. Наступил последний день самодержавия. 27 февраля 1917 года. Буржуазно-демократическая революция. Войска Петроградского гарнизона перешли на сторону восставших рабочих. Полицейские участки берутся штурмом. Распахиваются ворота тюрем.
Броневики, грузовые и легковые машины. Солдаты, рабочие, матросы с красными бантами. Захвачены все вокзалы, телефон, телеграф. Арестовано царское правительство во главе с князем Голицыным – их заперли в Таврическом дворце. Конец самодержавию! Конец... Отныне и во веки веков... Внутренний распад его завершился полным крушением.
Иван Чугурин с маузером на боку расхаживает по Таврическому дворцу, где до сих пор помещается Государственная дума. Члены Думы в тесном кольце восставших. В Екатерининском зале – сотни вооруженных рабочих и солдат. Сидят, дрожат в Полуциркульном зале думцы, вынашивают планы подавления революции, ищут способа связаться со ставкой, вызвать войска.
Подняты красные флаги на крейсере «Аврора» и на Петропавловской крепости.
А в самарской тюрьме в это время мечется в родильной горячке Паня Стяжкина. Тюремщики о ней забыли. Им сейчас не до заключенных: к тюрьме идет толпа рабочих с красными знаменами.
– Открывай ворота!
Начальник тюрьмы приказывает стрелять. Но охранники напуганы. Бросают винтовки, переодеваются в арестантские халаты, прячутся в незанятых камерах. Начальник тюрьмы понимает: все кончено! Нужно уносить ноги. Есть тайная калитка из тюремного двора. Но уйти ему не удается.
Трещат ворота. Толпа врывается во двор, в канцелярию, растекается по бесконечным тюремным коридорам. Сбивают замок с камеры, где мечется в предсмертной муке Паня. Новорожденный задыхается.