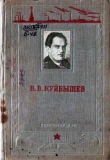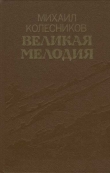Текст книги "С открытым забралом"
Автор книги: Михаил Колесников
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 27 страниц)
Вильгельм мало считался с мнением окружающих, какое бы высокое положение они ни занимали, даже не находил нужным выслушивать их. Обычно он непрерывным потоком слов встречал своих министров и, не дав им раскрыть рта, выпроваживал, сердечно пожимая руки. Эту же манеру стремился усвоить и Николай II. Но ему было далеко до Вилли. Жена Вилли Августа-Виктория беспрестанно рожала сыновей. У Вилли шесть сыновей! Николай видел их: один к одному – рослые, здоровые, все в офицерской форме, в стальных касках, как отец. А Никки не везло: его Аликс Виктория Елена Бригитта Луиза Беатриса нарожала кучу девочек – четырех дочерей. Они были некрасивые, мужеподобные. Наследник цесаревич Алексей растет хилым, беспрестанно болеет. Вилли – бригадный генерал. Никки всего лишь полковник, и он остро завидовал своему кузену Вилли. Они напивались, шли в манеж и целовали лошадей. Постепенно Вильгельм II стал смотреть на Россию как на некое остезейское герцогство, которое следует присоединить к Германии для пользы самой же России.
Тут Вильгельм II перенял кое-что от Бисмарка: необходимо ослабить Россию в дальневосточном конфликте! Столкнуть ее с Японией. Нужно послать в Японию своих военных инструкторов, обучить ее армию, вооружить, дать денег, а не ждать, пока Россия и Япония сами поссорятся. Крупные ссоры надо готовить, не жалеть на это денег.
Витте быстро разгадал шаг кайзера и не на шутку встревожился: строительство Сибирской магистрали, на котором министр финансов хорошо погрел руки, еще не было завершено – оставался недостроенным участок вокруг Байкала. Случись война с Японией – военные грузы пришлось бы переправлять через Байкал паромом. Витте кинулся к Николаю II, стал уговаривать его начать переговоры с японцами. Германофильское окружение царя, подстрекаемое кайзером, требовало немедленной войны с Японией. Слабовольный Николай завертелся между двумя силами. Но он во всем и всегда подражал своему немецкому кузену Вилли. Вилли говорит: «Германия – это я!» Никки тоже хочется сказать: «Россия – это я!» Но в подобное он сам не верит, так как, по сути, не знает этой страны, она чужда, враждебна ему и он не может отождествлять себя с нею. Россия – это нечто другое. Таинственное и грозное. Чтобы обессилить, усмирить ее, нужно кровопускание... Вилли мечтает о мировом господстве – почему бы ему, Николаю II, не подумать о том же? В то время как Германия, Англия, США усиленно строили корабли для Японии, поддерживали ее займами, предоставив в распоряжение японского правительства полмиллиарда долларов, а инструкторы кайзера обучали японцев современным методам ведения войны и их стали называть «пруссаками Востока», Николай II пребывал в полной беспечности. Военный министр Куропаткин записал в своем дневнике: «Я говорил Витте, что у нашего государя грандиозные в голове планы: взять для России Маньчжурию, идти к присоединению к России Кореи. Государь мечтает под свою державу взять и Тибет. Хочет взять Персию, захватить не только Босфор, но и Дарданеллы. Что мы, министры, по местным обстоятельствам задерживаем государя в осуществлении его мечтаний и все разочаровываем: он все же думает, что он прав, что лучше нас понимает вопросы славы и пользы России...»
Николай II мечтал о мировом господстве, о «политике большого стиля», но не знал, как это делается, так как не был наделен пониманием международной психологии. Он верил в свою фатальную звезду и любил повторять: «The king do not wrong» (король не может ошибаться). Вслед за Бисмарком, которого он тайно уважал, Николай считал, что ключ к политике находится в руках государей и династий, а не «публицистики», то есть парламента и прессы, и не баррикады. В своей слепой заносчивости он считал себя чуть ли не идейным наследником Цезаря и не расставался с его «Записками». Генерал Драгомиров назвал русского солдата «святой серой скотиной». Этот афоризм очень нравился Николаю. Ему казалось, что Япония не посмеет напасть на Россию, а если посмеет, то у царя достаточно этой «святой серой скотины», чтобы раздавить десять Японий. Японию можно закидать шапками. Когда Николай узнал о гибели русской эскадры на рейде Порт-Артура, то даже бровью не повел. «Эта потеря для меня не больше укуса блохи!» – заявил он. Ему вторил Куропаткин, цинично считая, что и потопление российского флота японцами в Цусимском проливе всего лишь «уничтожение нескольких железных ящиков с горсточкой русских людей».
И даже когда под Мукденом полегло семьдесят тысяч русских солдат, Николай II не утратил спокойствия духа, как ни в чем не бывало продолжал стрелять ворон.
Только когда восстали «Потемкин» и «Георгий Победоносец», царь проявил несвойственную ему прыть: обратился с просьбой о помощи к Румынии и турецкому султану Абдул Гамиду. Он сильно перетрусил, когда 6 января 1905 года в крещенский парад на Неве около его ушей пролетела картечь. Значит, есть силы, которые хотели бы всадить в него эту самую картечь!
Все кончилось позорным Портемутским договором. Подписывать его пришлось подлинному руководителю империалистической политики царизма Витте. Тот же Витте заключил большой заем на иностранном рынке для «подавления революции». Но Николай II на всякий случай укладывал чемоданы для бегства в Германию.
И если Владимир Яковлевич был мало сведущ в дипломатической игре правительств, считая вслед за Горацием, что во все времена за все безумства царей приходится расплачиваться грекам, то есть народу, то в своей военной сфере он ориентировался без усилий и кое-что мог бы порассказать – о том, с какой жестокостью царь расправлялся с восставшими рабочими и крестьянами. Все было мобилизовано для подавления революции: армия, полиция, юстиция, «черная сотня», церковь. Показав свою полную несостоятельность и бездарность в войне с японцами, те же самые генералы проявили себя энергичными карателями. В прошлом году для подавления восстания было брошено почти шестнадцать тысяч рот, четыре тысячи эскадронов и сотен, почти триста артиллерийских орудий, пулеметов. Кровь до сих пор льется рекой. На столе подполковника Куйбышева лежит «Инструкция на случай беспорядков»: «Действовать крайне энергично, огня не прекращать, пока не будут нанесены серьезные потери».
Нет, никогда подполковник Куйбышев не выполнит этого жуткого приказа, если даже вся Сибирь окажется охваченной восстанием. Лучше пулю в лоб... Воля прав: уничтожать нужно этих зверей лютых, назвавшихся хозяевами России!
Он с тоской подумал о том, что болен и немощен: странный бунт зрел в его голове. Кто запустил в царя картечью тогда, в крещенский парад на Неве? Почему промахнулся?.. Почему? Как это сказал Воля: «Позорное иго самодержавия...»? Позорное иго!
Сын сбросил иго. Но какой ценой!.. Ценой отрешения от всего: от своего дворянского круга, от своей военной карьеры, возможно, даже от самой жизни...
И сейчас в душе Владимира Яковлевича происходила глухая борьба с самим собой, со всеми прежними представлениями о воинской службе, о служении отечеству. Кто из них служит отечеству: сын Валериан или он, подполковник Куйбышев, израненный на войне? У железного Бисмарка царь перенял поговорку: «Против демократа – помощь только у солдата». Вот и вся царская премудрость!
Владимир Яковлевич нехотя раскрыл томик Цицерона, – он всегда брал Цицерона, когда начинал терять равновесие, – стал рассеянно читать сквозь темные очки. Слеза то и дело застилала глаза. О чем это, Цицерон?..
«Старость отвлекает людей от дел». От каких? От тех ли, какие ведет молодость, полная сил? А разве нет дел, подлежащих ведению стариков, слабых телом, но сильных духом?.. Старость Аппия Клавдия была отягощена еще и его слепотой. Тем не менее, когда сенат склонялся к заключению мирного договора с Пирром, то Аппий Клавдий, не колеблясь, высказал то, что Энний передал стихами: «Где же ваши умы, что шли путями прямыми в годы былые, куда, обезумев, они уклонились?..» Владимир Яковлевич отложил в сторону томик Цицерона, снял темные очки, вытер платком больные слезящиеся глаза и задумался. Им овладело отвращение к жизни. Дела, подлежащие ведению стариков... Какие дела подлежат ведению стариков?..
А Воля, словно повторяя Цицерона, напевал всегда:
Где ты был, когда в бой
Мы, решительный, шли,
Зову чести и долгу послушные?..
...В кабинет робко вошел фельдфебель, вытянулся в струнку.
– Что у тебя, Копытов?
Копытов приблизился к столу, молча положил телеграмму перед Владимиром Яковлевичем.
– Можешь идти!
Когда фельдфебель вышел, Владимир Яковлевич взглянул на штемпель: из Омска. От дочери. Вскрыл телеграмму, пробежал ее глазами, выронил из рук, охнул и, почувствовав прилив дурноты, тяжело навалился на спинку кресла, едва не сполз на пол.
Валериан в большой беде... Как сказать жене?.. Военно-полевой суд... Значит, расстрел, виселица!.. Волю будет судить военно-полевой суд... Мальчик, бедный мальчик...
Хватаясь за стены, он вышел из кабинета, крикнул вдруг охрипшим голосом:
– Фельдфебель Копытов!
Копытов вырос перед ним мгновенно, будто ждал этого зова.
– Лошадей! Еду в Омск. Немедля... Телеграмму отнеси Юлии Николаевне.
Пока запрягали лошадей, он вернулся в кабинет, выгреб из сейфа все свои деньги. Их, правда, было не так уж много, но на сменных лошадей должно хватить.
Мчаться без передышки! Может быть, еще удастся застать Волю в живых... И когда тройка сытых лошадей сорвалась с места, врезаясь в хлещущий снег и ветер, Владимир Яковлевич почувствовал, как мутится сознание. Сердце, проклятое сердце... Только бы увидеть Валериана... Только бы увидеть, прижать к груди…
2
Сквозь высокую тюремную решетку в камеру заглядывала крупная мохнатая сибирская звезда, и вид ее почему-то вызывал щемящее чувство одиночества, хотя какое тут одиночество: камера была набита арестантами. Они лежали на общих нарах, некоторые метались во сне, выкрикивая бессвязные слова, другие спали безмятежным сном молодости.
Валериану Куйбышеву не спалось. Высокий, с взлохмаченными густыми волосами, с накинутым на плечи пиджаком, он стоял, упершись спиной в стену, и завороженно смотрел на белую звезду, протягивая будто от себя к ней ниточку. Губы шептали строчки, навеянные одиночеством и необычайностью его положения; они родились прямо сейчас, складывались в голове безо всяких усилий:
Замолчи, мое сердце, не думай о воле,
О задумчивом лесе, о солнечном поле.
Слышишь: в камеру входят, грохочут ключи.
Скрой же слабость молчаний, будь горд и в неволе,
Замолчи!..
Ведь на многие годы мне надобны силы...
Почему-то, неизвестно почему, он всегда осознавал себя поэтом и даже писал стихи о красотах природы, о временах года, но лишь сейчас вдруг понял: поэзия – это серьезно. Очень серьезно. Не легкая забава, а крик души. И поэт – не отрешенный от мирской суеты мечтатель, а боец, выразитель чаяний народных. Как говорил Писарев: «Поэт или титан, потрясающий горы векового зла, или же букашка, копающаяся в цветочной пыли...» Валериан Куйбышев еще не знал, получится ли из него поэт, «потрясающий горы векового зла», но зато теперь знал другое: с вековым злом пора кончать, пришло время. И если не можешь стихами, бейся с врагом прокламациями, горячим призывным словом, окунись в водоворот событий...
Давно ли он бродил походами Суворова, влюбленными глазами смотрел на его портрет над кроватью. Слава России была в ее победах.
В нем жил острый интерес к прошлому своей родины, к Древней Руси. Князь Олег (тот самый вещий Олег...), его сын князь Игорь, княгиня Ольга, князь Святослав, князь Владимир... Все эти люди были, были – они не миф, не выдумка. Они жили где-то у самых истоков Руси, когда византийские и прочие иноземные авторы называли русов тавроскифами. Котда славянин умирал, над ним совершали тризну, устраивали военные игры. Покойника сжигали на костре, а пепел клали в урну и ставили на распутье. Вместе с покойником сжигали и его жену. По славянскому обычаю, если хозяин отказывал в гостеприимстве страннику, дом его сжигали.
Где-то там, в туманной дали веков, жили и предки Куйбышевых, и, возможно, они тоже участвовали в походах против хазар, печенегов, половцев или же ходили с Олегом и его сыном Игорем к Царьграду... У каждого народа есть своя история, это его корни, нравственная основа, в этом его самобытность. Если бы можно было вообразить народ без истории, то такой народ был бы безнравственным, опустошенным, лишенным своей здоровой основы. Может быть, потому и исчезли целые народы, сошли со сцены: они не сумели создать свою поступательную историю. Но, наверное, все-таки существование народа без истории – дело немыслимое...
Вот о чем иногда думал Валериан еще там, в кадетском корпусе.
Он бредил историей Древней Руси и, как зачарованный, повторял строчки, заученные наизусть: «Пошел Олег на греков, оставив Игоря в Киеве. И пришел к Царьграду: греки же замкнули Судскую гавань, а город затворили. И вышел Олег на берег, и начал воевать. И повелел Олег своим воинам сделать колеса и поставить на них корабли. И с попутным ветром подняли они паруса и пошли со стороны поля к городу. Греки же, увидев, испугались и сказали через послов Олегу: «Не губи города, дадим тебе дани, какой захочешь». И остановил Олег воинов, и вынесли ему пищу и вино, но не принял его, так как было оно отравлено. И приказал Олег дать воинам своим на 2000 кораблей по 12 гривен на уключину, а затем дать дань для русских городов: прежде всего для Киева, затем для Чернигова, для Переяславля, для Полоцка, для Ростова, для Любеча и для прочих городов... Итак, царь Леон и Александр заключили мир с Олегом, обязались уплачивать дань и ходили ко взаимной присяге... И сказал Олег: «Сшейте для Руси паруса из шелка, а славянам полотняные». И было так! И повесили щит свой на вратах в знак победы...». В этом была сладостная музыка, и воображение рисовало облик тех древнерусских воинов – они в кольчугах, в остроконечных шлемах, с копьями и секирами. Вот киевский князь Олег вешает свой багряный щит на ворота побежденного Царьграда... Потом были другие полководцы: Александр Невский, Дмитрий Донской, Петр I, Суворов, Румянцев, Кутузов. «Ничто не может противиться силе оружия российского...» – так разговаривал Суворов с солдатами. Так было всегда. Ничто не могло противиться силе оружия российского. Но за последние полвека что-то произошло: царизм второй раз терпит поражение... И недавний кадет Валериан Куйбышев перестал видеть себя въезжающим на белом коне в побежденные города врагов государства Российского.
Он понял свое назначение в жизни: самый великий враг государства Российского не за морями и долами, а здесь, в самом государстве, он внедрился во все поры общества и медленно, но верно разъедает его как ржавчина железо. И в войне с ним не может быть перемирия. Микадо и царь могут договориться, но народ с самодержавием и капиталистами не договорится никогда. Отдай всего себя этой созревающей невиданной силе, которая называется рабочим классом, как отдавали себя народу поколения российских революционеров... Стань сам частицей рабочего класса, стань рабочим, познай глубже его нужды, его неприкаянность, его надежды и разочарования...
Как все случилось? Как произошло приобщение? Почему тысячи молодых людей из зажиточных классов, из военных семей и даже из семей фабрикантов вдруг почувствовали тягу к революционным переменам? Может быть, не все из них выдержат испытание, но Валериана сейчас занимало, почему все так произошло. Словно бы люди повинуются не только своему выбору, но еще чему-то более властному, заставляющему человека действовать наперекор облюбованной ранее судьбе, отрешаются от всех житейских благ и спокойного существования. Словно некие волны время от времени окатывают общество, и оно приходит в движение.
И нет для тебя больше ни благополучия твоей семьи, ни спокойствия твоей матери и твоего отца; ты не задумываешься, сколько горя принесут им твои роковые поступки, а идешь до конца, влекомый таинственным зовом. Ты готов к любым жертвам, и ничто тебя не в силах остановить: ни тюрьмы, ни каторга, ни чахотка, ни Сибирь, ни даже постоянная угроза казни через повешение.
Ты окунулся в новый мир, совершенно неведомый твоим родителям, и этот мир стал твоим миром, единственной средой, которая и может придать смысл твоему существованию. И если бы твоя мать или твой отец спросили тебя зачем? Ты вряд ли смог бы связно и убедительно им ответить. Нужно самим выносить в себе то, что выносил ты.
Зачем? Не только затем, чтобы расквитаться за позор и за твои раны, папа. Не только за этим. А затем, чтобы в жизни не было фальши, гнета, жестокости, унижения, бесправия. Чтобы человек наконец почувствовал себя человеком, чтобы все люди были равны, чтобы жизнь наполнилась серьезным высшим смыслом, человечностью...
И он внезапно почувствовал себя бессильным выразить то, что кипело внутри у него. Все его горячие возвышенные слова не могли бы передать того бурного ощущения, когда он вдруг, почти неожиданно для себя открыл новую силу в обществе, и ему захотелось слиться с ней, самому стать этой силой.
...Он любил эти ночные часы, когда никто не мешает думать, когда можно не торопясь взвесить в уме свое поведение за последний день, а возможно, взвесить и всю прошлую жизнь, все события последних лет, которые как-то незаметно вовлекли его в свой круговорот, а в конечном итоге привели вот сюда, в тюремную камеру. Скоро – суд, и неизвестно, чем он закончится. Во всяком случае, как и большинство его товарищей, от защитника он отказался, наивно полагая, что правое дело не нуждается в защите.
Как ни странно, он испытывал даже некоторое удовлетворение от того, что его арестовали вместе с другими тридцатью восемью делегатами Омской партийной конференции. Он имел возможность уйти. Его даже понуждали уйти, так как он был докладчиком, а не рядовым участником, – и все улики против него. Среди арестованных оказались три девушки. Они стояли с поднятыми руками, загораживая Валериана от полицейских. Громко возмущалась похожая на цыганку Люба Яцина, посылая проклятья на голову пристава и отталкивая его к двери. А Куйбышев, вместо того чтобы выпрыгнуть в окно, рвал партийные документы. Полицейские никак не могли к нему пробраться.
Кто их предал?.. Были приняты все меры предосторожности: на конференцию послали самых надежных, проверенных; мандатов не выдавали; никто, кроме организаторов, не знал, в каком месте будет проходить конференция. И все-таки их предали. Полицейским заранее все стало известно. В преднамеренное предательство всегда как-то не верится. Но облава не могла быть делом случая: к дому, где они собрались, был подтянут большой отряд казаков. Предусмотрено, рассчитано...
Есть особая порода людей – предатели. Они живут тем, что предают, прикидываясь единомышленниками, влезают вам в душу, изображают из себя фанатиков дела, стараются возглавить это дело, чтобы обезглавить его. Они хорошие психологи, и их расчет бывает точным, так как они имеют дело с людьми благородными, убежденными, ищущими союзников и, как правило, по-детски доверчивыми.
Одного такого предателя Валерий знал в лицо: Симонов, он же Гутовский. Симонову удалось ни много ни мало как развалить Сибирский социал-демократический союз, в руководство которого он пробрался обманным путем. Он выдал себя за большевика, сколотил в Томске группу своих сторонников, и эта группа деятельно работала по ликвидации союза. Когда Ленин послал Сибирскому социал-демократическому союзу письмо, разоблачающее Гутовского и его единомышленника Балалайкина – Троцкого, сторонники Гутовского перехватили письмо и уничтожили его. Гутовский оставался в руководстве союзом, пока не развалил его окончательно.
Валериан помнил Гутовского. Представительный, рослый, живой, он умел располагать к себе. У него была привычка встряхивать головой, ласково улыбаться, быть внешне приветливым, дружелюбным, свойским. Но если приглядеться к нему, то замечаешь: лицо у Гутовского словно бы тряпичное, а в глазах холодное равнодушие. Но он умел себя подать этаким вождем пролетарских масс, и многие подпали под его влияние, а в своем узком кругу Гутовский всячески глумился над большевиками, называя их насмешливо, с легкой руки Плеханова, «советниками Ивановыми».
С одним из людей Гутовского-Симонова, меньшевиком Слонимцевым, Валериану пришлось схлестнуться еще до городской конференции. Степенный, лобастый Слонимцев, накручивая бородку на пальцы, спокойно и уверенно развивал ту мысль, что-де с разгоном 2‑й Государственной думы и арестом членов думской социал-демократической фракции революция окончательно потерпела поражение. Теперь нужно собрать съезд представителей различных рабочих организаций – «рабочий съезд» – и основать «широкую рабочую партию», в которую должны войти помимо социал-демократов и эсеры и анархисты. И что вообще по примеру немецких социал-демократов пора переходить на легальное положение, уступив правительству и царю, узаконить себя. Рабочая партия должна быть открытой!
Года три тому назад Валериана, пожалуй, могли бы смутить аргументы этого эрудированного господина. Тогда он учился в кадетском корпусе и мало разбирался во всякого рода течениях в рабочем движении. Мелкобуржуазные партии тоже именовали себя революционными. Тот же меньшевик Слонимцев пытался доказать, что можно быть подлинным революционером, не будучи приверженцем учения Маркса, и что идея гегемонии пролетариата в буржуазно-демократической революции, которую выдвигает Лепин, не оправдала себя: революция потерпела поражение.
О Ленине Валериан слышал часто, но для себя открыл его как-то внезапно, прочитав «Что делать?». Да, да, из всех ленинских работ, какие удалось прочитать, он выделил именно эту, почувствовал: именно в ней заложено что-то главное, определяющее, основное.
Пальцы его дрожали, когда он закрыл книгу. Он испытывал своего рода умственное опьянение, своеобразное потрясение. Наконец-то ясно и четко сказано, где искать ключ к победе, что нужно делать Куйбышеву и тысячам других таких, как он: создавать, строить партию! Он с таким же упоением прочитал статьи Ленина: «К деревенской бедноте», «Шаг вперед, два шага назад», «Две тактики социал-демократии в демократической революции». Эти работы углубляли учение о партии, дополняли его.
Раньше Куйбышеву доводилось слышать о разных партиях, но он как-то не придавал им значения; они представлялись ему чем-то вроде масонских лож или же английских клубов. Он просто не понимал, для чего они нужны. Казалось, можно обойтись и без них. Была в известных ему партиях некая необязательность: вроде бы разделились люди на группки и ведут перебранку между собой.
Но сейчас слово «партия» зазвучало для него по-иному.
Партия... Он вдруг понял, что без партии прямо-таки не возможна сколько-нибудь серьезная борьба. Партии воюют между собой за руководство основной массой людей. За влияние. Партии – это штабы различных сил. Им нужны солдаты, «горючий материал» в политике. И не правительства решают судьбы того или иного государства, а партии: какой из них удастся повести за собой большинство, та и окажется победительницей.
Все это было для него величайшим открытием. Царь, династия – лишь игрушки в руках определенных партий, которым выгодно сохранять самодержавие; для того-то они и разъединяют рабочих, вносят дезорганизацию в их ряды, нанимают предателей, провокаторов...
В Германии, например, издавна существует партия, называющая себя социал-демократической, вожди правого крыла которой только и озабочены тем, чтобы «братец юнкер нежно обнимал братца пролетария». И всему этому есть имя: ревизионизм, реформизм или оппортунизм. Оппортунизм в рабочем движении теперь сделался своеобразной профессией: присосавшись к рабочему классу, оппортунисты всячески предают его, обрекают на бездеятельность, убаюкивая песенками о том, что якобы можно без социалистической революции и диктатуры пролетариата покончить с эксплуатацией. Гнусная короста на теле пролетариев, выхоленные, с манишками и белоснежными манжетами, – так представлялись Куйбышеву оппортунисты, всякие там каутские, бернштейны, гассельманы – имя им легион. Они окопались в рабочих партиях всех стран, но они, оберегая власть имущих и преданно прислуживая им, находятся в едином заговоре против пролетариата, они – авгуры. «Мы будем бороться за вас, мы лучше понимаем, что вам нужно, – говорят они рабочим. – А вы должны терпеливо ждать и не ввязываться в это кровавое дело – борьбу за власть. Мы и есть ваша власть». И тут уж они стараются вовсю, действуя по иезуитскому принципу: «разделяй и властвуй». Никакого объединения, никакого союза рабочих с крестьянами! Вот союз рабочего класса с буржуазией – пожалуйста! Как будто в самом деле возможен подобный союз. Густая липкая паутина, сотканная провокаторами и оппортунистами всех мастей.
Одного такого провокатора Валериан поймал за руку в прошлом году. Некого Бурдина, или же Матушевского, редактора меньшевистской газеты в Омске.
Куйбышев, как всякий человек, сочиняющий стихи или прозу, был неравнодушен к редакторам. Они представлялись ему людьми особой, таинственной породы: они наделены властью над словом, их суд беспристрастен и не подлежит обжалованию.
Бурдин обладал вкрадчивыми манерами, был невысокого роста, короткошеий, плешивый, с веснушчатыми, короткопалыми руками. Валериану сразу показалось, будто он уже раньше встречал этого человека. Мучительно вспоминал. Потом словно озарило: Петербург! Вот где они встречались... Поздняя осень 1905 года. У Куйбышева портфель, набитый до отказа револьверами, в карманах, на груди, за поясом – бомбы. Он весь – взрывчатая сила. Оружие приходило из Финляндии, а Куйбышев и его товарищи переносили его с риском для жизни в центральный склад. Когда увязывался следом полицейский, приходилось менять извозчика, нырять в подворотни. После всех этих треволнений Валериан как ни в чем не бывало возвращался в медицинскую академию, на Выборгскую сторону. Но и здесь кипели страсти.
В Военно-медицинской академии, в ее большом зале, собрались уполномоченные от забастовавших фабрик и заводов. Здесь должны были проходить выборы в Совет рабочих депутатов. Валериан видел разгоряченные лица, сверкающие глаза. Основная борьба за рабочих шла между большевиками и меньшевиками. Меньшевики всеми силами хотели повести массы за собой. Особенно упорным оказался плотный, рыжеватый человек с уродливыми пальцами. Елейным голосом он доказывал, что Советы не должны ввязываться в вооруженную борьбу, их следует сделать просто-напросто административными органами самоуправления или, на худой конец, стачечными комитетами. Хватит жертв. И без того много пролито крови невинных людей. Он говорил о том, что подлинные социал-демократы не имеют права участвовать в революционном правительстве, это дело буржуазии, так как это ее революция.
Тут завязался жаркий спор о власти. О государственной власти. Человечек на трибуне гипнотизировал толпу своими бесцветными, словно наполненными мутной влагой глазами.
Неожиданно к нему приблизился один из рабочих, схватил за плечо, исступленно крикнул:
– Братцы! Так это ж помощник попа Гапона, который подвел нас под царские пули...
Его не поняли:
– Какой еще помощник? Он – социал-демократ. Не трожь его, пусть говорит. Нельзя оскорблять человека!
– А я и не оскорбляю. Это же он заявился к нам на завод, подговаривал идти к царю. Бурдин его фамилия. Секретарь Гапона. Хватайте его, братцы!.. Я его очень даже хорошо знаю. Подлый провокатор!..
Но Бурдин не терял даром времени. Он юркнул в толпу – и был таков.
Второй раз разоблачать его пришлось уже Куйбышеву здесь, в Омске...
В книге «Что делать?» Ленин говорил об особой политической партии, которая могла бы противостоять всем старым партиям, созданным имущими классами. Эта партия, вооруженная передовой революционной теорией, будет выполнять роль передового борца. «Вопрос стоит только так: буржуазная или социалистическая идеология, – читал Куйбышев. – Середины тут нет... Поэтому всякое умаление социалистической идеологии, всякое отстранение от нее означает тем самым усиление идеологии буржуазной».
Середины тут нет... Или – или. И когда такие, как Слонимцев, пытаются скрестить буржуазную идеологию с социалистической, они тем самым предают рабочих...
На конференции они крепко схватились. Ведь Валериан в пух и прах разбил меньшевистскую идею «рабочего съезда». И какой восторг охватил Валериана, когда делегаты приветствовали его стоя. А он, по сути, лишь повторил ленинскую мысль:
– Дайте нам организацию революционеров – и мы перевернем Россию!
И еще:
– Мы, сторонники Ленина, будем вести борьбу против раздробленности и кустарничества в рабочем движении! Ибо у пролетариата нет иного оружия в борьбе за власть, кроме организации! Да, организация – наше главное оружие. Идея «рабочего съезда» – предательская идея....
Вот как он разделался тогда с лживыми доводами Слонимцева. И казалось: после подобной публичной отповеди Слонимцев не посмеет открыть рта.
Но Слонимцев оказался наглым и неугомонным. Они после ареста очутились в одной камере и теперь схватываются почти каждый день. А товарищи жадно прислушиваются к каждому их слову.
Слонимцеву далеко за тридцать. Он – тертый калач, лично знаком с именитыми меньшевиками Мартовым, Мартыновым, Даном и даже с самим Плехановым. Бывал в Женеве на конференции меньшевиков, которую они устроили в противовес III съезду РСДРП, где Ленин говорил о подготовке вооруженного восстания и руководстве им.
Чтобы поставить на место «шпану», «политических недорослей», «галерку», «чернь», то есть молодежь, поддерживающую Куйбышева, Слонимцев охотно рассказывал о встрече с Жоржем, то есть с Плехановым, о том, как был обласкан его женой, добрейшей Розой Марковной, и его дочерью, о том, как сам Мартов водил его, Слонимцева, по Rue de Carouge. Оказывается, они земляки с Мартовым...
До недавнего времени Слонимцев со снисходительной улыбкой встречал атаки восемнадцатилетнего Куйбышева. Но теперь он улыбается все меньше и меньше. Симпатии заключенных целиком на стороне Куйбышева. Они избрали его старостой. Слонимцев стал как бы выдыхаться.
Вчера разыгралась безобразная сцена. Слонимцев перешел на крик. Он обозвал Куйбышева «советником Ивановым» и заявил, что «дворянская косточка» никогда не вызывала у него полного доверия. Тем самым хотел сказать рабочим, сидевшим тут же на арестантских нарах: Куйбышев – потомственный дворянин, окончил кадетский корпус, и ему не стоит доверять.
Но Валериан только и ждал этого. Он укоризненно покачал головой.