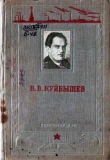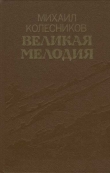Текст книги "С открытым забралом"
Автор книги: Михаил Колесников
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 27 страниц)
– Расскажи о жене Владимира Ильича, – просит она.
– Но я никогда не встречался с Надеждой Константиновной. Я знаком с матерью и сестрами Ленина. От них кое-что слышал. Надежда Константиновна пошла за ним в Шушенское, хотя отбывала срок в Уфе. Административно-ссыльная. У них уговор: совместная жизнь должна строиться на взаимном доверии.
– Я тоже так считаю, хоть и не собираюсь замуж.
– А я собираюсь жениться.
– На ком?
– Там видно будет. На девушке, которую полюблю.
– Такие, как ты, не влюбляются.
– Почему?
– Глаза у тебя очень уж озорные. С тобой о чувствах, по-моему, и говорить нельзя: засмеешь.
– Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо. Мне всегда казалось, что любовь должна быть большой, очень большой: без рабства и тирании. Мещане любят играть в любовь, облекают ее в красивые слова. А я уверен: не в словах она выражает себя, а в поступках. В молчаливых поступках. Любовь не требует награды. Она сама награда.
Ветер с Невы трепал ее волосы, и Паня никак не могла справиться с ними. И в то же время боялась пропустить хотя бы одно его слово. Она с самого начала отметила в нем что-то необычное. Обо всем он говорил вроде бы простыми словами, но эти слова накрепко застревали в памяти, они были как острые гвозди. Даже о любви он рассуждал не так, как другие.
Ей нравилось некое неуловимое выражение его сжатых губ.
Паня была начитанной, но как-то неохотно раскрывала себя, словно бы стеснялась. Но в оценке прочитанного она всякий раз поражала его своей точкой зрения, а вернее, тонким пониманием. Он мог поддразнивать ее сколько душе угодно – Паня не сердилась.
Как-то она сказала:
– Когда рассуждают о литературе, то, по-моему, всегда выбрасывают что-то самое главное.
– Что именно? – заинтересовался он.
– Не знаю. Но после диспутов на литературные темы книги читать уже не хочется. Я так думаю: у великого писателя с нами всегда тайный разговор. Достоевский ли, Толстой ли, Гаршин, даже насмешливый Чехов. Чехов, как мне кажется, хочет, чтобы люди стыдились своего ничтожества, старались не казаться смешными и глупыми.
– А ты, Паня, философ!
– Можешь смеяться. А если о любви, то любить – значит жить жизнью того, кого любишь.
Он был изумлен:
– Это же здорово сказано!
– Согласна. Но не мной, а Львом Толстым. Когда умер Толстой, мы устроили сходку. Один студент произнес эти слова.
– Жить жизнью того, кого любишь... – повторил он. – Хочешь, я буду жить твоей жизнью?
– Работать в больничной кассе?
– Ну не только, а вообще.
– Живут жизнью любимого человека не потому, что хотят этого, а потому что не могут по-другому. А ты вроде бы хочешь кинуть мне подачку. Живи лучше своей жизнью и не объясняйся мне в любви. Давай лучше поговорим о больничном страховании.
Они едва не разругались. Он натолкнулся на такое чувство собственного достоинства, что даже растерялся. Она не признавала в любви ни победителей, ни побежденных и как будто бы оценивала каждое его пылкое слово откуда-то издалека, спокойно, чуть иронично. Она была из крестьян, и эта крестьянская привычка требовать от всего, даже от чувств, крепости, суровой простоты казалась ему холодностью. В партию большевиков она вступила еще в восьмом году, и ее здесь ценили за твердость, неподкупность, за умение на людях едко высмеивать меньшевиков, всякого рода ликвидаторов. Ее робкой полудетской улыбки они прямо-таки боялись, зная, что за ней кроется беспощадный сарказм.
Во внешнем облике Валериана и Пани было что-то общее, и их принимали за брата и сестру, что их очень забавляло.
– Ну малыш, придется тебе менять фамилию на мою, – говорил он.
– Ну с такой безукоризненной фамилией, как у тебя, в Питере долго не продержишься. Куйбышев! Небось во всей России, если не считать твоих родственников, другой такой нет.
– Стяжкина – тоже хорошо запоминается. А моя фамилия берет начало от одуванчика.
Когда она уходила домой, он еще долго бродил по опустевшим улицам.
Потом на Петербург навалились белые ночи. И, как в прошлые годы, они принесли с собой томление духа, философское настроение. Казалось, самые высокие материи сейчас легко постижимы. Он набросился на книги по философии, будто увидев в ней высший смысл всего. Он жил этой лихорадочной духовной жизнью, находя в высоких абстракциях философов нечто сокровенное, имеющее прямое отношение к существованию не только всего мира, вселенной, но и к собственному существованию. Когда он вычитал у Фихте, что действительное и воображаемое одинаково реальны, то, словно бы не замечая идеалистической подоплеки афоризма, подумал о сложности человеческих отношений, в которых многое определяется тем, что было, и тем, что должно быть, тем, что еще не наступило, а для многих, кто не щадит себя в борьбе, может и не наступить. Он открывал в каждой фразе мудрецов как бы многоэтажный смысл, и это увлекало необычайно. Его поражала гибкость мышления, и он пытался свести его к мышлению творческому во всех областях человеческой деятельности и вдруг понял, что создание партии – это величайшее творчество, политика тоже творчество. Из «Правил для руководства ума» Декарта он понял, что различие между интуицией как неким таинственным способом непосредственного знания и рассудочным познанием, опирающимся на логический аппарат, в том‑де, что интуиция – высшая форма познания, своеобразное интеллектуальное видение. Валериан долго бился над этой проблемой, в чем-то не доверяя Декарту, прочел добрую сотню книг, но ответа так и не нашел. Гегель исследовал «теоретический дух», «практический дух», «свободный дух». Различные области общественной жизни есть проявления объективного духа, который в своем движении проходит три ступени: абстрактное право, мораль, нравственность. Нравственность вбирает в себя семью, гражданское общество и государство. Пройдя через государственное право, объективный дух поднимается на стадию всемирной истории.
После марксистской теории общественного развития все это гегелевское построение казалось искусственным, так как все стороны общественных отношений людей Гегель представлял в виде саморазвития этого самого объективного духа. Но через подобные идеалистические заблуждения прошла человеческая мысль. Мудрец рассуждает о свободе. Для него это абстрактная категория, проявляющаяся в праве. Поэтому‑де право есть наличное бытие свободы. Куйбышев на своей спине испытал соотношение этих двух категорий и понял: увы, от самодержавного права и не пахло никогда свободой, право – это воля господствующего класса. Только так. Воля господствующего класса, возведенная в закон. И если пролетариат победит, он свою волю тоже сделает законом.
Валериан скоро убедился: больше всего в философии его привлекает исследование человеческой деятельности. Как способ существования человека. Что есть человек, каково его место в мире? Ведь он, этот абстрактный человек, принадлежит одновременно природе и обществу. Но главное в нем, как кажется Валериану, активность. Деятельность деятельности – рознь. В своей деятельности человек должен быть активным..
У него перед глазами были сотни и тысячи примеров активности. Она стала законом жизни партии. «Все возникает через борьбу», – говорил еще древний грек. Борьба, по словам Белинского, есть условие жизни: жизнь умирает, когда оканчивается борьба. И суровый Чернышевский, указуя железным перстом, отмечал тот непреложный факт, что история до сих пор не представила ни одного примера, когда успех получался бы без борьбы. Но какая глубокая ирония скрыта в словах Маркса: творить мировую историю было бы, конечно, очень удобно, если бы борьба предпринималась только при непогрешимо благоприятных шансах...
Окутанный светлым маревом белых ночей, он бродил и бродил по улицам и набережным Невы, думая о том, что творить историю трудно, очень трудно.
Теперь, когда он близко познакомился с депутатами Государственной думы – большевиками, он понял всю мизерность уловок отзовистов, стремящихся отозвать этих мужественных людей из Думы. На виду у всех они совершали большевистский подвиг. В любое время дня и ночи, несмотря на депутатскую неприкосновенность, каждого из них провокаторы могли убить из-за угла, а царское правительство конечно же готовило для них тюрьмы, кандалы, самую тяжелую ссылку.
Конституционная комедия и висельная действительность – так определяют депутаты столыпинский режим, от которого царь не хочет отказаться даже после убийства Столыпина. Большевики с думской трибуны на весь мир изобличают русскую буржуазию, которая из-за страха перед пролетариатом добровольно идет на ограничение своих политических прав. Все эти милюковы, гучковы, корчащие из себя в Думе оппозиционеров, – самые злобные враги рабочих и всего народа. На обеде у лорд-мэра Лондона Милюков заявил открыто, что русская оппозиция останется оппозицией его величества, а не его величеству. Умри – лучше не скажешь!
Теперь на смену Столыпину пришел некто Маклаков, черниговский губернатор, «сильный кулак», которому черносотенцы говорят: «Ваше назначение было последней судорогой изувеченного проклятыми началами 1905 года нашего родного величавого самодержавия».
Этот Маклаков рвется разогнать Думу, заверяет царя, что следующая Дума будет правая.
Маклаковы продолжают чувствовать себя хозяевами положения, но Валериан знает: они – живые политические трупы, во главе с царем. Им осталось размахивать нагаечками совсем немного: идет незримая разрушительная работа, и Куйбышев деятельный участник ее.
Он, конечно, не может назвать точные сроки: мол, через три года вас уже не будет в помине – буйствуйте, рычите, угрожайте напоследок!.. А Маклаков продолжает стучать своим «сильным» кулаком:
– Если поднимется буря и боевое настроение перекинется далеко за стены Таврического дворца – администрация сумеет подавить волнения, но для этого необходимы будут две меры: роспуск Думы и немедленное объявление столицы на положении чрезвычайной охраны!
Царский пес чует приближение бури.
Она будет, она неотвратима. Петербург охвачен забастовками, и большевики с думской трибуны призывают к новым.
Правые члены Думы – кадеты в растерянности спрашивают:
– Почему министр внутренних дел господин Маклаков не привлекает депутатов крайней левой фракции к ответственности за произнесение ими возмутительных речей? Они, эти социал-демократы, открыто заявляют, что говорят не для Думы, а – через голову Думы – для рабочих!
Маклаков и рад бы, но все не так просто. Родзянко, также обеспокоенный митинговым характером речей большевистских депутатов, тут как тут. Он предлагает создать в Думе особый дисциплинарный суд: такой суд за злоупотребление свободой депутатского слова будет исключать из Думы с утратой депутатских полномочий на срок или навсегда.
Но заткнуть рот депутатам-большевикам угрозами не удалось.
Григорий Иванович Петровский с думской трибуны заявил, что посягательство на свободу депутатского слова есть только звено в длинной цепи покушений правительства на все народные свободы и оно стоит в прямой связи с подъемом народного движения.
– Мы, социал-демократы, не отдадим без решительного боя свободы депутатского слова. И мы уверены, что в этой борьбе нас поддержит весь народ. Никакие преследования не остановят нас от пропаганды с думской трибуны своих республиканских убеждений!
Председательствующий лишил Григория Ивановича слова. Но вслед за ним выступили другие большевики, и их тоже пришлось лишать слова.
Создалась острая ситуация. Маклаков требовал привлечь Петровского и всю фракцию социал-демократов к суду. Но правительство на этот шаг не отважилось.
Валериан выполнял поручения Петровского, был связным между ним и Петербургским комитетом партии.
В июле Григорий Иванович уехал якобы в отпуск.
– Вернусь, все расскажу, – пообещал он Валериану.
Откуда было знать Куйбышеву, что председатель большевистской парламентской группы тайно отправился в Поронин, к Ленину. Петровский рассказал Владимиру Ильичу о Валериане Куйбышеве: о тюрьмах, ссылке, работе в Петербургском комитете партии, о его революционном накале.
– Куйбышев... – задумчиво повторил Ильич. – Оживают и собираются лучшие силы нашей партии.
Когда Григорий Иванович вернулся в Петербург, провокатор, приставленный к нему, немедленно сообщил главе департамента полиции: «Член Государственной думы социал-демократ Петровский, вернувшись недавно из-за границы, где он был у известного Ленина, передал членам думской социал-демократической рабочей фракции («шестерке») следующие, выработанные Лениным, предложения о дальнейшем направлении партийной деятельности...»
Предатели, провокаторы, повсюду провокаторы. Они тесным кольцом сомкнулись вокруг легальной ленинской «Правды». К ней близко стоят провокаторы Малиновский, Черномазов, Шурканов.
А Куйбышев в эти июльские дни проводит митинг на Путиловском заводе.
Весь заводской двор запружен рабочими. Каждое слово оратора Куйбышева находит отклик в их сердцах. Кажется, начинается... В Баку гремят выстрелы. Но здесь, в Петербурге, власти напуганы, не посмеют. Здесь – Государственная дума...
На митинге решили: материально и морально поддержать забастовавших бакинцев.
Но Маклаков не дремлет.
На дворе появляется конный отряд городовых. Пристав кричит свое обычное:
– Разойдись!
Куйбышев стоит на железной бочке, скрестив руки.
– Почему мы должны разойтись? Митинг никто не может запретить. Это не забастовка, не стачка: поминки по тем, кого полиция расстреляла в Баку.
– Разойдись!
– Товарищи! Расходитесь!
Но полицейский явился сюда не за тем, чтобы спокойно наблюдать, как расходятся рабочие. Городовые спешились, бросились на них, стали избивать нагайками, выкручивать руки.
– Эй вы, остановитесь! Это провокация!..
Грянул залп. Первые пять человек, обливаясь кровью, свалились на землю. А выстрелы гремели и гремели. Вот уже полсотни лежат в лужах крови.
– К воротам!
Но заводские ворота уже закрыты городовыми.
– Бей их, братцы!
Летят камни, куски железа, шарахаются кони, падают городовые.
– Бей, бей извергов! Долой проклятое самодержавие! Бей, лупи чем попало!...
– Мерзавцы, сволочи, псы!..
Он швырял и швырял увесистые булыжники, до тех пор пока его не приперли к воротам. Но кто-то все же открыл их, и, увлекаемый толпой, он выбежал на улицу.
А наутро тысячные толпы с красными флагами потекли по улицам Петербурга. Они шли к зданию Думы, и полицейские уступали им дорогу. В этот же день Валериан присутствовал на заседании Петербургского комитета большевиков. Решили провести трехдневную всеобщую забастовку и политическую демонстрацию.
Начинается, начинается...
Упоение борьбой. А рядом Паня Стяжкина. В Петербург едет президент Франции Пуанкаре. «Пуанкаре – это война!», «Долой войну!».
На Выборгской стороне строили баррикады: опрокидывали трамвайные вагоны, валили в кучу телеграфные столбы. В полицейских палили из револьверов.
Валериану казалось, что революция пришла. Снова он был опьянен призраком свободы. На этот раз все будет доведено до конца...
Но, пока Куйбышев и его товарищи готовили революцию, на другом полюсе готовились к войне, которая должна задушить любую революцию. Тут вели тайную подготовку две международные силы: австро-германский блок и Антанта. Подготовка велась с заглядыванием в карты превентивного противника. Впрочем, заглядывали главным образом немцы. За несколько дней до начала войны статс-секретарь ведомства иностранных дел Германии Ягов писал послу в Лондоне: «Россия сейчас к войне не готова. Франция и Англия также не захотят сейчас войны. Через несколько лет, по всем компетентным предположениям, Россия уже будет боеспособна. Тогда она задавит нас количеством своих солдат»...
Войну немцы спровоцировали. К тому же Вилли весьма ловко провел за нос своего кузена Никки: накануне объявления войны кайзер попросил царя отменить указ о всеобщей мобилизации – и Николай II согласился. Когда министры Сазонов, Сухомлинов и генерал Янушкевич попытались переубедить его, он не стал с ними разговаривать. Но и после этого Сазонов битый час доказывал Николаю, что война все равно неизбежна, поскольку Германия задумала ее развязать, и что мешкать с всеобщей мобилизацией крайне опасно.
Николай всегда соглашался с тем, кто говорил с ним последний. Согласился он и на этот раз. На другой день германский посол граф Пурталес пришел к Сазонову и вручил ему ноту с объявлением войны.
Когда крупный капиталист Баллин спросил канцлера: «Почему, собственно, ваше превосходительство так страшно торопится с объявлением войны России?» – канцлер Бетман ответил: «Иначе я не заполучу социал-демократов».
Каких социал-демократов он имел в виду? Конечно же Каутского и других предателей рабочего класса. «Каутский и К° прямо-таки обманывают рабочих, повторяя корыстную ложь буржуазии всех стран, стремящейся из всех сил эту империалистскую, колониальную, грабительскую войну изобразить народной, оборонительной (для кого бы то ни было) войной, и подыскивая оправдания для нее из области исторических примеров не империалистских войн», – писал Ленин, разоблачая предательскую сущность вождей II Интернационала.
Эмиль Вандервельде, председатель Международного социалистического бюро II Интернационала, после начала войны немедленно вошел в состав королевского правительства. Во Франции социалисты в парламенте голосовали за военные кредиты, за строжайшую цензуру. Лидеры Бельгийской рабочей партии призвали трудящихся взяться за оружие для «защиты отечества».
Плеханов произнес в Париже напутственную речь перед уходящими на фронт русскими эмигрантами.
Все маски сброшены. Социал-предатели...
Ильич развенчивает Плеханова и Каутского в докладе, прочитанном в Цюрихе, в переполненном зале «Айнтрахт». Конечно же и Троцкий тут как тут, выступает оппонентом, берет под защиту своего учителя Каутского: «Сначала победа, а потом революция!» Очень воинственный оппонент.
Валериан на квартире у Петровского. Григорий Иванович показывает новенькие ботинки, присланные ему из-за границы. Ботинки как ботинки. Григорий Иванович срывает с каблуков набойки и вытаскивает два экземпляра номера «Социал-демократа» с манифестом ЦК РСДРП «Война и российская социал-демократия».
Срочное совещание. Валериан ничего о нем не знает. Собрались депутаты: Самойлов, Шагов, Бадаев, Муранов. Читают манифест, чтобы с думской трибуны провозгласить лозунг превращения империалистической войны в гражданскую.
Чтобы арестовать их вопреки закону, приехал жандармский генерал с жандармами.
Не подозревая об этом событии, которому суждено всколыхнуть всю Россию, Валериан через три дня идет к Петровскому.
Конечно же здесь ждут всех, кто ходил раньше к большевистскому депутату. У дверей полицейский.
– Ни с места!
Валериан пожимает плечами:
– Что-нибудь случилось?
– Узнаешь, что случилось.
Его обыскивают и, не найдя ничего, кроме гаечного ключа, спрашивают:
– Зачем пришел?
– Вызывали насчет водопровода... А я все не мог: сестра приехала. Говорят, к депутату, будь вежливее, не матерись.
Полицейский смерил его презрительным взглядом.
– Пшел вон!
Куйбышев неопределенно пожал плечами, отобрал у полицейского гаечный ключ и стал неторопливо спускаться с лестницы.
Значит, арестован...
1 декабря 1914 года появляется официальное правительственное сообщение об аресте депутатов-большевиков. В этот же день Куйбышева избирают членом Петроградского комитета РСДРП, поручив ему руководство пропагандой. Да, он зарекомендовал себя. Эти восемь месяцев петроградской жизни были наполнены борьбой, скрытой, почти ювелирной по своей тонкости: он продолжал воевать с меньшевиками, которые захватили руководство рабочими больничными кассами, впились, словно клопы, в рабочее тело, и выковырять их из каждой щели стоило немалого труда.
Эти больничные кассы постепенно превратились в легальные политические массовые организации. По сути, общение большевиков, передача нелегальной литературы и директив партийного центра осуществлялись через кассы. Здесь устраивали тайные заседания и совещания, явки, снабжали паспортами, железнодорожными билетами, укрывали от полиции и жандармов.
С началом войны, когда воцарился жесточайший режим, когда были аннулированы все свободы, легальные организации стали опорными пунктами большевиков.
Фабрике «Треугольник» требовался секретарь больничной кассы. На должность хотел пробраться Слонимцев, которого Валериан неожиданно встретил в Петрограде.
– Связал нас бог одной веревочкой!.. – шутливо произнес Слонимцев, встретив Куйбышева в конторе фабрики. – Вы теперь какого цвета?
Встреча была не особенно приятной, но Валериан даже не подал вида.
– Я отошел от политики, – сказал он. – Хочу жениться. А вы?
– Я оборонец. Впрочем, это никому, кроме меня, не нужно.
– Ах, Слонимцев, Слонимцев! Вечно вы с обновкой: то ликвидатор, то центрист, то оборонец, то троцкист...
Слонимцев приложил палец к губам.
– Слонимцев – это мой псевдоним, но все в прошлом, – сказал он. – Забудьте. Теперь я ношу свою подлинную фамилию: Сапожков-Соловьев.
– Все равно на «с»: Слонимцев, Сапожков-Соловьев. А потом окажется, что вы Сухомлинов, или Столыпин, или же Сикст Бурбонский.
– Вы все такой же весельчак! А где служите?
– В рессорной мастерской. Рессоры делаю.
– Это в каком же смысле?
– В самом прямом: я рабочий.
Слонимцев не поверил:
– Шутите?
– Нет, не шучу. А куда деваться? Война. В солдаты не берут.
– Почему?
– Очередь не дошла. Дойдет – забреют. А вы?
– Вот предлагают секретарем больничной кассы.
Валериан рассмеялся.
– Чему вы смеетесь?
– Вы опоздали, Сапожков-Соловьев. Правление кассы еще месяц назад предложило мне стать секретарем.
Сапожков-Соловьев был неприятно поражен.
– Но это же неправильно!
– Почему?
– Один из моих друзей, входящий в правление, пригласил меня.
– Очень сожалею. Я ведь собираюсь жениться, а вы?
Он ничего не ответил. Лишь бросил на Валериана тяжелый взгляд.
Куйбышев стал секретарем больничной кассы вместо недавно арестованного Шалвы Элиавы. Сразу же решил наладить тесную связь между рабочими – правленцами всех подобных касс Петрограда. Это была сложная, кропотливая работа. Незаметно рабочие очистили кассы от меньшевиков, была создана, по сути, единая сильная организация из одних большевиков.
Когда правительство объявило подписку на военный заем, Валериан оказал Пане Стяжкиной, партийцам-большевикам Плетневу, Егорову, Остриенко-Остроуховой, Реброву:
– Ни гроша для военной славы! Подписку на заем нужно сорвать.
Принялись за работу. Как сорвать подписку? Все должно произойти словно бы само собой.
Куйбышев сразу же натолкнулся на трудность в лице все того же Слонимцева – Сапожкова-Соловьева. Нет, он не исчез бесследно, не растворился подобно адскому духу. Он был тут, в больничной кассе. Ее не выборным, а назначенным администрацией фабрики членом. Он-то знал, что в кассе лежит до десяти тысяч рублей.
– Я – оборонец и считаю: каждый должен быть оборонцем в эту годину испытаний для родины. На все эти деньги мы купим облигации военного займа. Смерть немцам!
– Смерть так смерть! – согласился Куйбышев. – Легко оборонять родину, сидя в Петрограде.
– Вы тоже уклоняетесь от фронта, отсиживаясь в столице.
– Почему тоже?
Слонимцев смешался.
– Я, Слонимцев, и рад бы, да никак не могу накопить денег на лошадь. А дворян берут на фронт только со своей лошадью. А вы можете катить туда хоть на велосипеде.
Чтобы решить вопрос с займом, следовало собрать уполномоченных. Пусть выскажутся. Но Валериан и его товарищи понимали: пускать дело на самотек нельзя. Слонимцева следует забить аргументами, склонить на свою сторону рабочих, увлечь за собой. Пусть выступают большевики.
Когда уполномоченные сошлись, Куйбышев сделал вид, будто хочет беспристрастно выслушать каждого.
– Решайте, господа уполномоченные! Поможем царю-батюшке и отощавшему Сухомлинову?
Рабочие рассмеялись. Военный министр Сухомлинов, непомерно дородный, лысый старик с воинственно закрученными усами, слыл великим казнокрадом: больше всего он пекся не о победах армии, а о процветании и благополучии Екатерины Викторовны, которую умыкнул у молодого мужа – богатого помещика. Разразился большой скандал. О скандале знали все: не только в России, но и во Франции, и в Германии. Сухомлинова вслух называли Азором – по имени любимого пса Екатерины Викторовны.
Как бы то ни было, но Куйбышев сразу задал тон собранию уполномоченных.
– Но при чем здесь Сухомлинов?! – истерично закричал Слонимцев. – Речь идет о помощи родине, на которую вероломно напали немцы.
– А откуда вы знаете, что эти наши трудовые денежки, политые потом, не пойдут на наряды жене Сухомлинова? – спросил рабочий Ребров. – Не лучше ли увеличить сумму пособий больным рабочим и их семьям, чем покупать облигации?
– В то время как родина обливается кровью... – начал было Слонимцев, но другой рабочий перебил его:
– В то время как родина обливается кровью, военный министр обворовывает казну. И не он один.
– Все это ложь! – запальчиво ответил Слонимцев.
Валериан укоризненно покачал головой:
– Зря горячитесь, Сапожков-Соловьев. Сухомлинов в самом деле вор: его сняли с поста военного министра и, возможно, предадут суду.
Слонимцев не поверил.
– Вы отвечаете за свои слова! – пригрозил он.
– Отвечаю, отвечаю. Только что звонили по телефону.
Уполномоченные-назначенцы находились в полнейшей растерянности.
– Кто против займа – поднимите руки! – сказал Куйбышев.
Подписка провалилась. С треском.
– Все это подстроено вами, – сказал Слонимцев, поймав Валериана в коридоре. – Вы были и остались большевиком. Я знаю.
– Что подстроено мною? Снятие Сухомлинова с поста военного министра?
Слонимцев не нашелся, что ответить.
Весть о том, что на «Треугольнике» отказались подписываться на военный заем, каким-то чудом сразу же распространилась по всем фабрикам и заводам. Началась кампания: «Ни гроша на войну!»
Странная война. На фронте не хватает снарядов, винтовок... и сапог. Никки бранится: «Все мерзавцы кругом! Сапог нет, ружей нет, наступать надо, а наступать нельзя». И не за казнокрадство сняли Сухомлинова, а за то, что обозвал Распутина скотиной. Скотина забодала казнокрада. Царь отправил Сухомлинову трогательное послание: «Благодарю вас сердечно за вашу работу и те силы, которые вы положили на пользу и устройство русской армии».
А потом Сухомлинова упрятали в Петропавловскую крепость. Фарс.
В томах иллюстрированной хроники, посвященных войне, печатаются крупным планом портреты кайзера: Вильгельм II, император Германии; шесть сыновей императора Вильгельма – Оскар, Август-Вильгельм, Адальберт, кронпринц Вильгельм, Эйтель-Фридрих и Иоахим; император Вильгельм на охоте – этакий добродушный усач в шляпе и охотничьей куртке. Тут же рядом портреты военного и морского министров Германии, начальника штаба фон Мольтке, фельдмаршала Гинденбурга. А на обороте – речь председателя Государственной думы Родзянко: «Дерзайте, Государь! Русский народ с Вами и, твердо уповая на милость Божию, не остановится ни перед какими жертвами, пока враг не будет сломлен... Государю Императору «Ура!»
– Мразь! – говорит Валериан вслух. – На милость боженьки уповает.
– Кто? – допытывается Паня.
– Тот самый, что помогал жандармам выкручивать руки нашим депутатам. А знаешь, меня тянет в окопы.
Она удивленно взглянула на него:
– Крестик получить хочешь?
– Среди солдат агитацию вести нужно. Это люди смертью и кровью разагитированные, у них винтовки в руках. А винтовки можно повернуть штыками на царя и на Родзянко.
– Разве в столице работы мало?
Он рассеянно улыбнулся:
– Хватает. Но очень уж злость меня берет. Мне ведь, когда приехал сюда, казалось: революция вот-вот грянет. Знаешь, что я надумал: объединить всех, кто против войны, и чтобы тон задавали мы, ленинцы. Мы должны уметь руководить не только пролетарской, но и широкой непролетарской массой. Мы обязаны влиять на них, использовать всякий протест. Даже революционеров-шовинистов от случая к случаю нужно использовать. Вот что я задумал. Соглашение для борьбы.
– Я всегда с тобой.
Это была целая программа.
...И снова белые ночи просвечивали Питер насквозь, и казалось, конца им не будет.
Белые ночи... Когда он приехал в Питер, тоже начинались белые ночи. Прошло немногим более года, а кажется, будто пронеслась целая жизнь. Валериан утвердился здесь, почувствовал почву под ногами, стал частицей мощного революционного потока, остановить который царское правительство уже не в силах.
А сколько случилось всего за этот удивительный год!
С началом войны функции Бюро ЦК были возложены на большевистскую фракцию Государственной думы. Теперь депутаты большевики Петровский, Бадаев, Муранов, Самойлов, Шагов осуждены и сосланы в Сибирь. Обязанности партийного центра, по сути, взял на себя Петроградский комитет партии, где Куйбышев занял видное место. Говорят, Ильич высоко оценивает деятельность Петроградского комитета, считая его поистине образцом работы для всех большевистских организаций России и для всего Интернационала во время реакционной войны, при самых трудных условиях. Все основные вопросы руководства борьбой пролетариата решаются на заседаниях комитета, он связан с большевиками Москвы, Харькова, Иваново-Вознесенска, Киева, Нижнего Новгорода, Екатеринослава, Екатеринбурга, Самары, Саратова, Царицына, Перми, Ревеля, Нарвы, Твери, Тулы, Кавказа.
А меньшевики и бундовцы продолжают творить свое черное дело. Одни из них вдруг превратились в ура-патриотов, в оборонцев. Сидя в Петрограде, призывают рабочих драться на фронтах до полной победы. Другие, наподобие меньшевистских лидеров Дана, Аксельрода и лидера Бунда Либера, стали германофильскими шовинистами: они за поражение России в войне и полностью оправдывают немецких социал-шовинистов, которые голосовали за военные кредиты. Прыгают, резвятся, строят уморительные рожи. А Троцкий перещеголял всех – выдвинул лозунг: «Ни побед, ни поражений». Понимай как хочешь. Золотая середина.
А на фронтах льется кровь, на фронтах полный развал. Полтора миллиона убитых и раненых. И причина развала не в окопах, а в царском дворце. В стране разруха, надвигается жесточайший голод. Недавно в Москве, на Красной площади, собралась огромная толпа. Ораторы поднимались на лобное место, выкрикивали:
– Требуем отречения царя! Царицу постричь в монахини! Распутина – на виселицу!
Полиция стреляла в ораторов из револьверов.
...Белая ночь – ни укрыться, ни уйти. Весь город пронизан незримым призрачным светом насквозь. Он словно бы купается в прозрачном мареве. Дома спят, и странен этот неестественный сон.
Куйбышев возвращался к себе домой с конспиративной квартиры. Вернее, в саму квартиру сегодня ему помешали попасть. Пришлось заметать следы. Это была постоянная конспиративная квартира Петроградского комитета, находилась она на Невском проспекте, неподалеку от Николаевского вокзала. Сюда приходили представители от различных районов, заводов, фабрик, служащие больничных касс. Отсюда осуществлялась связь с заграницей. Отсюда отправляли агитационную литературу в другие города России. Здесь заседал комитет. Пробирались сюда с оглядкой. Уходили задними дворами. Белые ночи не способствовали конспирации – пустынный проспект и пустынные дворы просматривались очень хорошо.