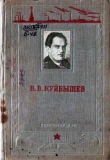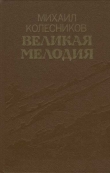Текст книги "С открытым забралом"
Автор книги: Михаил Колесников
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 27 страниц)
– Мне очень жаль вас, Слонимцев, – сказал он почти искренне. – Я в самом деле принадлежу к дворянскому роду – и все здесь это хорошо знают. Вы мне не доверяете? Почему же в таком случае вы доверяете Георгию Валентиновичу Плеханову? Ведь он – тамбовский помещик!
Удар был неожиданным: Слонимцев смешался. Потом крикнул:
– Это недозволенный прием! Да, да, он дворянин, помещик. Но не вам чета. Он – великий марксист, и вы не смеете... У Аксельрода в Цюрихе свое кефирное заведение, но это ровным счетом ничего не значит: Аксельрод – святой человек, выдающийся марксист. Каждый волен добывать хлеб свой... И Мартов – святой человек.
– С удовольствием попил бы сейчас кефирцу, – сказал рабочий Шапошников, – но ты, Куйбышев, то бишь Касаткин, хоть и потомственный дворянин, а беднее Аксельрода: у тебя нет даже кефирного заведения.
Все расхохотались, а Слонимцев разозлился еще пуще.
– Вы идеализируете Мартова, Слонимцев, – сказал лежавший на нарах портной Абрамович. – Вы читали вот эту брошюру Л. Цедербаума? – И он показал всем книжечку в серой обложке. – Это брошюра Мартова. И, как видите, он счел нужным подписать ее своей настоящей фамилией. Почему? Потому что, окажись Мартов в России, жандармы не станут преследовать его за это сочинение. Книжечка полна грязненьких, клеветнических выпадов против Ленина. И знаете, что сказал Ильич, познакомившись с этой брошюркой? Он сказал: «Отныне – карантин. Ни в какую полемику я с Мартовым больше не вступаю». И, отбросив брошюру, вымыл руки с мылом.
Для Мартова в споре все средства хороши. Он, видите ли, изучал «Эристику» Шопенгауэра и разделяет его взгляды: в споре можно лгать, клеветать, быть нечистоплотным. Да, пожалуй, в меньшевистском болоте все лягушки одного цвета...
Заключенные с удивлением слушали этого портного Абрамовича. И никто, кроме Куйбышева и пожилого большевика Попова, не знал, что под псевдонимом «Абрамович» скрывается видный революционер Виргилий Шанцер, которого называют российским Маратом. У этого человека – француза по матери и австрийца по отцу – была необыкновенная, яркая биография. Вдохновитель декабрьского вооруженного восстания, он дрался на баррикадах беззаветно, до последней возможности. Это Ленин назвал его Маратом. Он только что бежал из енисейской ссылки и снова угодил в тюрьму. По образованию – юрист, легко разбирается в юридическом крючкотворстве и наставляет молодых, как вести себя на суде. Самому лет сорок, а то и больше.
Этот высокий, сухощавый человек, заросший черной бородой, неудержимо влечет к себе Валериана. Вот он, настоящий революционер!.. Взгляд острый, огненный, каждое слово веское, отточенное. Председатель Московского комитета большевиков... Почему он, сын крупного инженера-технолога, стал революционером? Да потому же, что и Валериан Куйбышев... Чаша до краев полна... Настал момент, когда каждый должен отдать себя настоящему делу. Отдать без остатка, не задумываясь об опасностях. И такое дело сегодня: построить, создать из раздавленных Столыпиным организаций единую, крепкую партию...
И сейчас, поглядывая на далекую звезду сквозь тюремную решетку, Валериан думал, что строительство централизованной марксистской партии, завоевание рабочих масс – дело очень сложное, требующее огромных знаний и огромного опыта борьбы с врагами как открытыми, так и с теми, кто маскируется под друзей рабочего класса. Особенно сложна борьба именно с врагами, прикрывающими свое предательское нутро пышной революционной фразеологией. Враги ведь тоже знают, что между буржуазной и социалистической идеологиями середины нет и не может быть. Потому-то и маскируются бессовестно под социалистическую идеологию. Важен результат.
Врагам нельзя уступать, когда речь идет об идеологии. Вон небезызвестный марксист Плеханов пошел на уступки меньшевикам «ради примирения», а теперь сам превратился в ярого меньшевика, отошел от марксизма, поет свою унылую песню: «Не надо было браться за оружие». Как теперь начинал понимать Валериан, Плеханов еще до начала революции выдохся как марксист-теоретик, не понимал и не знал реальной обстановки в России.
Валериан и его товарищи находились в бедственном положении, ждали суда, и все же он испытывал непонятный подъем, думал о том, как интересно жить, благодарил судьбу за то, что нашел свой единственный путь, с которого он уже не свернет никогда. Он обрел учителя: Ленина. Очень важно найти своего учителя. И не столь уж важно, что он, учитель, не подозревает о существовании своего ученика. Важна сама радость открытия и приобщения.
Все мы пылинки, беспорядочно мечущиеся в беспредельности веков. Сперва через древнюю историю мы приобщаем себя к судьбам человечества, но она, древняя история, больше напоминает красивый и в то же время жестокий миф. И к сожалению, не всякий вызревает до понимания своей причастности к истории мира современного, до понимания того, что беспартийным в этой жизни быть нельзя, что человек обязан включить в себя партию, прямо и открыто стать на точку зрения определенной общественной группы. И тогда он перестает быть пылинкой, а превращается в определенную личность, в сознательного исторического деятеля.
Эти мысли были отзвуком ожесточенного вечернего спора все с тем же Слонимцевым. В последнее время Валериан, собственно, спорил не со своим оппонентом, а скорее с самим собой, чтобы уточнить свои воззрения и заразить этим духом товарищей по камере. Все, чему он успел научиться у других революционеров, он торопился высказать здесь, в камере, и откровенно радовался, когда рабочие его слушали. Если даже они не поймут всего, то поймут хотя бы то, как изворотлива человеческая мысль и с какой осторожностью нужно принимать ее на веру, особенно когда мелкобуржуазная революционность старается выдать себя за марксизм.
Валериан знал пока не так уж много. Просто он был грамотнее своих товарищей и легко усваивал политические идеи. Его радовало то, что за каких-нибудь три года он стал словно бы другим человеком, освободился от глупенького субъективизма в оценке событий, окреп духовно. У него появилась ненасытная жажда к знаниям, и здесь, на жестких тюремных нарах, Валериан с увлечением изучал математику и формальную логику, пытаясь разгадать сокровенный смысл этих наук, которым до того не придавал особого значения. Он читал все, что можно было достать через сестер, живущих в Омске, по политической экономии.
Иногда он начинал чувствовать себя круглым невеждой, и это было мучительно. Он словно бы понял, что отныне ему заказан путь в университеты и другие высшие учебные заведения и придется овладевать науками вот таким образом: на тюремных нарах. Валериан судорожно учился и мало думал о суде, о том, где очутится после суда.
Он думал о Ленине, но не представлял, где он находится. Но должен же он быть где-то? Возможно, в Петербурге, или в Москве, или же за границей. Кому-то, возможно тому же Попову или Марату, известна дорога к Ленину, а возможно, и они не знают, где вождь...
У таких особенных людей, как Ленин, должна быть устроенная, безопасная жизнь, так как они руководят сотнями разбросанных по всей стране организаций.
...Валериан очнулся от глубокой задумчивости только тогда, когда небо посерело. Утро!..
Он улегся на нары среди товарищей и забылся тяжелым сном. Но его разбудили:
– Куйбышев! В камеру свиданий. Отец приехал!..
Надзиратель произнес это таким многозначительным тоном, что Валериан сразу понял: отец пожаловал при полном параде, с крестами, в погонах.
И неожиданно ощутил слабость в ногах.
Не то чтобы он страшился этой встречи, которая рано или поздно должна была произойти. Нет. Ему не хотелось сейчас видеть больного, полуслепого отца, не хотелось, чтобы товарищи слышали, как этот высокий человек в мундире будет читать нотацию, ему, осознавшему себя зрелым революционером. Он вынужден будет или молчать или отвечать. Но ни того, ни другого ему делать не хотелось. Зачем все, если возврата нет?.. Но отец этого не поймет. Он будет страдать, наталкиваясь на равнодушие сына. Может быть, заговорит о семейном горе, о смерти Миши, об отчаянии матери.
Он назовет Валериана черствым, бездушным эгоистом, будет умолять покаяться перед жандармами и полицейскими, мало задумываясь о том, что его сын будет выглядеть очень некрасиво перед товарищами. В ушах Валериана все еще звучали его слова: «Мы не должны заниматься политикой. Мы – дворяне...» И ничего-то Валериан не сможет ему доказать. Да он и не станет доказывать. Даже если бы всей его семье угрожала смертельная опасность, он не отказался бы от выбранного пути. В крайнем случае лучше пулю в лоб, как дед... Это и есть, папа, та самая честь человеческая, о которой ты всегда толковал нам. И это больше, нежели честь. Это долг...
Он смело вошел в камеру свиданий. И сразу же увидел отца. Отец сидел на табурете, мирно разговаривал с рабочим Шапошниковым, сопроцессником Валериана, и весело смеялся. Валериан даже растерялся, не понимая, что здесь происходит. Увидев сына, Владимир Яковлевич вскочил, бросился к нему навстречу, крепко обнял:
– Жив! Жив!..
– Пап а, в чем дело, чему вы так рады?
– Чему я рад? Выпороть бы Женьку, которая перепутала военно-полевой суд с военно-окружным. Вот я и кинулся сломя голову.
Теперь и Валериан улыбнулся, сообразив, что произошло: сестра сообщила отцу телеграммой, что Валериан арестован и предан военно-полевому суду. Ошибка могла кончиться трагично для отца. Но он вынес и это. Он с любовью смотрел на сына и все не верил, что ему не угрожает смертная казнь. Каторга, ссылка... пусть. Лишь бы не смерть, не тугая веревка на этой вот по-юношески нежной шее... На шее его любимого сына...
Пусть будет проклят царь! Пусть будут прокляты враги сына, все до единого! Отныне он станет помогать сыну во всем. Он объявит войну алчным ищейкам...
Он прижимал Валериана к груди, а черные очки скрывали его заплаканные глаза.
3
Тачка была тяжелая, вязла в песке, и стоило больших усилий вытащить ее из карьера. На воспаленных ладонях у него вздулись кровавые пузыри. Рукавиц чернорабочим не выдавали, приходилось обвязывать руки тряпками.
Лето установилось сухое, знойное, и ветерок с Невы не приносил облегчения. Бесконечные, томительные дни... Во имя чего?..
Он отшвырнул тачку, обессиленно опустился на песок, вытер рукавом грязной рубахи потное лицо. Сильная боль вертела суставы. Он весь дрожал от недавнего напряжения, рубаха взмокла. Скорей бы садилось солнце!.. Карьер был узкий и глубокий, рабочие брали здесь песок на строительство дома. Платили мало, кормили плохо, но Валериану выбирать было не из чего.
– Тебе повезло, – говорил ему подрядчик Максим Спиридонович, – сейчас от вашего брата отбою нет. Сам-то откуда будешь? Из Челябинска? Далековато. Эк принесла тебя нелегкая! Из благородных?
– Да не так чтоб очень и не то чтоб совсем... Учиться хочу. До осени продержаться нужно, потом в институт поступлю. В технологический.
– А если не поступишь?
– А мне деваться некуда. Разругался с родными – и в Петербург. Они хотели меня по военной линии пристроить. А зачем? Война-то кончилась. Да и не по мне это.
– Да, дело твое швах. А квартируешь где?
– Да нигде. Денег-то нет, чтоб за квартиру платить. Вот и шалаюсь, ночую где придется. Здесь, в парке, на скамейке часто ночую.
– Эк горемычный. А парень, видать, сильный.
– Бог не обидел.
– Черной работой не побрезгуешь?
– Голод не тетка.
– Правду говоришь. Возьму тебя в карьер, песок возить. Сперва тяжело будет, потом пообвыкнешь.
– Пообвыкну. Нужда и за заплаткой грош найдет.
Максим Спиридонович усмехнулся:
– А ты весельчак, парень. У нас говорят: нужда скачет, нужда пляшет, нужда песенки поет. Так и быть: живи у меня. Хоромов, конечно, нет, а так, чердачная компатенка. Не обессудь, мил человек. Готовить на тебя будет моя Марфа Кирилловна. Чем богаты, тем и рады. Приглянулся ты мне: вроде смирный, послушный. А нынче молодежь пошла ненадежная – все больше политикой да политикой занимается. А ты, видать, из благонадежных.
– Да где уж мне политикой заниматься! Мне бы до экзаменов дожить.
Валериан готов был расцеловать этого добрейшего человека. Даже когда выяснилось, что весь заработок будет уходить на уплату за квартиру и за еду, он не очень опечалился.
Максим Спиридонович появился перед Куйбышевым в самую трагичную для него минуту, когда он, вконец обессиленный недоеданием, сидел на скамейке в парке и не знал, что делать дальше: хоть топись!
Когда весной прошлого года после суда его выслали в Каинск, Валериан бежал. Скрывался в Томске, стал членом Томского комитета РСДРП. Ему поручили создать военную организацию и руководить ею. Военную организацию он создал. Но пришлось бежать от полиции в Петропавловск. Здесь стал редактором и издателем большевистской газеты «Степная жизнь». Успел выпустить четыре номера. Газету прихлопнули. До осени скрывался в Томске, но полицейские ищейки напали-таки на след. Решил на зиму податься в Петербург, где надеялся встретить товарищей, которых знал по 1905 году: Андрея Бубнова, Агату Яковлеву и других.
Самое страшное для человека – одиночество: будь то в безводной пустыне или же в большом промышленном городе. Всю глубину одиночества Валериан испытал именно в Петербурге. Он был один, один в огромном, промерзшем насквозь, словно дымящемся от холодов каменном городе, отогревался в подъездах домов и на вокзалах, вбирал голову в плечи при встрече с каждым полицейским. С чужим паспортом на руках, без денег, в ветхом осеннем пальто и картузике, он чувствовал себя приниженным и беспомощным. Все его товарищи были арестованы, брошены в тюрьмы, ниточки с подпольем оборвались. Бубнов и Агата куда-то уехали. Его здесь не знали, ему боялись довериться, так как Петербург был наводнен шпионами, провокаторами. Никого вокруг... Даже денег на обратный билет не было. Каждый день с минуты на минуту он ждал ареста. Враждебность таилась во всем: в дворнике, в городовом, в угрюмых серых домах, где ему не было места.
Расползались сапоги, и Валериан придумал обвертывать зябнущие ноги газетами. Под пальто, под ветхий пиджачок тоже прокладывал газеты, старые афиши, всякое тряпье. Если бы не его привычка к лютым сибирским морозам, он, наверное, не перенес бы эту зиму, замерз бы в каком-нибудь каменном подъезде.
Терзал голод. Проходя мимо булочных, он пьянел от одного запаха свежевыпеченного хлеба и пышных французских булок с подрумяненной корочкой. Чесночный запах колбасы из немецких лавок доводил до исступления.
Но самым мучительным было ощущение собственной ненужности, бесполезности своих мытарств. Зачем все?.. Будет ли этому конец?.. Когда он наступит, конец?..
И даже теперь, устроившись в песчаный карьер чернорабочим, обзаведясь чердачной комнатой, Валериан не видел конца своему одиночеству, своей бесполезности.
Иногда прохаживался у заводских ворот: авось мелькнет знакомое лицо. Или же шел по Невскому из конца в конец, толкался в общественных местах. Он искал. Сейчас он исчез для других, словно бы выпал из партийных рядов и списков. Казалось: даже когда сидел в общей камере – и то был счастливее. Нужно жить, действовать во имя великой идеи, которая целиком овладела им и требовала непрерывного действия, борьбы...
Куйбышев знал, что свыше двадцати тысяч революционно настроенных рабочих отправлены в тюрьмы и на каторгу, тысячи казнены. Он видел в Челябинске пересыльную тюрьму, куда каждый день прибывали все новые и новые партии революционеров, а потом их угоняли в глубь Сибири.
Но это не устрашило его, а только ожесточило. Рабочая печать задушена, профсоюзы разгромлены, активных рабочих убивают из-за угла...
Изредка Валериан переписывался с сестрами и знал, что возвращаться в родные края опасно. О нем еще не забыли там, полицейские то и дело наведываются на квартиру. Папу переводят в Каинск. Мама тоскует по Валериану, тревожится...
Как далеко он был от семьи, от дома!..
Белые ночи Петербурга... Жизнь на улицах города не замирает. И есть в этих ночах что-то такое, что будоражит, делает человека уверенным, сильным.
И только Валериан по-прежнему ощущал пустоту вокруг, приходил на Петровскую набережную, сидел здесь, томимый белесым сумраком, и ему казалось, будто на том берегу, возле Летнего сада, стоит кто-то большой и озорной, иронично-насмешливый, беспрестанно следит за каждым его шагом и ради потехи строит всякие каверзы, чтобы свести Куйбышева на нет или просто позабавиться над его мучениями.
Если бы ему сказали, что пройдет много лет и та улица, которой он только что прошел, будет называться его именем, Куйбышев расхохотался бы. А рядом будет улица Чапаева, о существовании которого Валериан даже не подозревает, проспект Максима Горького, книгами которого он зачитывается, и Кировский проспект... Того самого Кирова, о котором он уже наслышан как о Кострикове...
Но все эти чудеса за плотной завесой времени. А сейчас на руках чужой паспорт. И никакого просвета впереди...
И все-таки с необыкновенными людьми всегда приключается что-то из ряда вон выходящее, чему нет логического объяснения. Куйбышев словно бы носил в себе эту странную необыкновенность.
Пуще глаза берег он паспорт на чужое имя. Паспорт был «железный», надежный. Если бы Куйбышев лишился паспорта, он вообще оказался бы вычеркнутым из жизни. Оставалось бы одно: сдаться на милость полиции, и его, конечно, сразу же отправили бы к месту ссылки, в Каинск, и там он встретил бы и сестер, и братьев, и мать, и отца. А возможно, его снова судили бы за побег и отправили бы на каторгу.
Был уже вечер, когда Валериан, усталый, измученный работой, плелся домой. Идти каждый раз приходилось через парк, и всегда он присаживался на ту самую скамейку, на которой подобрал его Максим Спиридонович.
Но сегодня на его скамейке кто-то сидел. Валериан опустился рядом.
– Закурить есть? – спросил сосед.
– Не курю.
– Я тоже не курю. А тут вдруг захотелось.
Парень был как парень, в косоворотке под ремень, в картузике, в брюках, заправленных в сапоги. Но лицо его показалось Валериану знакомым. Он вздрогнул. Так это же!... Как его звали?.. Ах да, Ермолай... Газета в Петропавловске... А потом Ермолай исчез. Арестовали. Теперь вот опять на воле. Такой же беглец, как и Валериан...
Заметив его пристальный взгляд, парень беспокойно заерзал на скамейке.
– Чего разглядываешь? Аль признал?
– Признал. Ермошка!
– Как то есть? – парень даже привскочил от неожиданности.
– А ты разве не признал?
Парень всмотрелся в перепачканное глиной и песком лицо Валериана и ахнул:
– Так это ж ты!
– Я.
– И давно?
– Да как тебя упекли, я и смотался. Газету-то нашу тю-тю...
– А я свое отсидел в Оренбурге. За отсутствием улик... На днях вот паспорт получил. На законном основании. Ну и чем ты тут занимаешься? Своих нашел?
– Нет, не нашел. С прошлой зимы ищу – и все зря. Чуть с голодухи не подох. А намерзся – страсть.
– Тогда твоя фамилия была Касаткин. А теперь?
– Соколов.
Парень покрутил головой, усмехнулся:
– Чудно как-то: я ведь тоже Соколов. А зовут тебя как?
– Андреем.
– Вот так штука! Я ведь тоже Андрей. Ермолай – это так, для конспирации. Ну а отчество?
– Степанович.
Парень резко оттолкнул Куйбышева, сдавленным голосом спросил, озираясь по сторонам:
– Где ты раздобыл мой паспорт? Это же мой паспорт. Мой!
– В Челябинске снабдили, когда направлялся сюда. Сказали – железный. Я ведь не знал, чей он. И твою фамилию не знал.
Парень сидел бледный, испуганный.
– Ну а вот если сейчас, в эту самую минуту, полиция нас накроет? Что тогда? А? Соображаешь? Два Соколовых Андрея Степановича одного года рождения и одной волости! Соображаешь? Я же Соколов!
Валериан почувствовал, как у него дрожат пальцы.
– Что же теперь делать? – спросил он упавшим голосом, – Я ведь не нарочно...
– Знаю. Одному из нас нужно немедленно улепетывать из Петербурга. Решай сам кому.
Валериан слабо улыбнулся, вынул из нагрудного кармана паспорт, протянул Соколову:
– Бери. Ты законный владелец. Улепетывать придется мне. Только не знаю куда. Первый же полицейский отведет меня в часть как беспачпортного бродягу.
Соколов нахмурился, призадумался. Потом приободрился:
– Ладно. На сегодня мой паспорт пока оставь при себе: пусть еще на несколько часов в Петербурге будет два Андрея Соколовых. Бог не выдаст – свинья не съест. А завтра что-нибудь придумаем. Приходи в это же время на эту же скамейку. Жди. Прощай!..
Он ушел. А Валериан все не мог прийти в себя от потрясения и некоего оцепенения. Идти домой расхотелось.
Вот так встреча! И в романах ничего подобного не вычитаешь. Дикая игра случая, и разум бессилен объяснить подобное стечение обстоятельств. Куда деваться? Идти на квартиру? Очень опасно. А впрочем, не следует преувеличивать расторопность полиции. Он так устал сегодня, ныли натруженные плечи, ломило спину. Хотелось прилечь, отдохнуть.
Завидев дом, где он снимал чердачную комнатку, Валериан замедлил шаг. Осмотрелся. Ничего подозрительного. В самом деле, пуганая ворона и куста боится.
Он вошел в дом. Навстречу выбежала хозяйка. Лицо у нее было испуганное, глаза округлившиеся – и он сразу понял: засада! Но не подал вида. Теперь все равно не убежишь.
– Что случилось, Марфа Кирилловна?
– У вас гость. В вашей комнате.
– Кто это пожаловал в мои хоромы? – спросил он деланно-безразличным голосом.
– Такой важный господин, военный, с крестами.
Валериан прислонился к косяку двери, ему сделалось нехорошо: и от мучительной пустоты в желудке, и от недавней встречи с Андреем Соколовым, и вот от этого известия. Значит, там, наверху, в комнате, идет обыск... Но он подавил в себе слабость и спросил с издевкой:
– А он не сказал, этот военный господин, что ему нужно от такого важного лица, как я? – Он насмешливым взглядом окинул свои рваные брюки, стоптанные сапоги.
Но хозяйка даже не улыбнулась.
– Он сказал, что разыскивает сына, Соколова Андрея. Он думает, что вы и есть его сын.
Валериан совсем оторопел, не веря в свою догадку.
– Папа!
Единым рывком поднялся по крутой деревянной лестнице, распахнул дверь в свою комнату и увидел отца.
– Родной ты мой... Родной ты мой... В каком ты виде! Исхудал – кожа да кости, – приговаривал Владимир Яковлевич, прижимая сына к груди. – Насилу тебя разыскал. Теперь буду жить с тобой, здесь... Не уйду, если даже будешь прогонять. Взял отпуск.
– Здесь?
– Да.
– Здесь нельзя, папа.
– Почему?
– Я на нелегальном положении и живу под чужой фамилией. Подполковник не может жить на чердаке в одной комнате с обыкновенным рабочим. Возможно, шпики уже заинтересовались, почему подполковник приехал на рабочую окраину.
Владимир Яковлевич резко поднялся со стула.
– Ты прав, мой дорогой! Мы не можем оставаться здесь ни минуты. Вот деньги, рассчитайся с хозяйкой, купи приличную одежду – и не мешкай. Выбирайся незаметно, а я пока побуду здесь. Черт бы побрал мою слепоту!.. Сегодня же вечером уедем в Каинск, куда мы перебрались всей семьей. Встретимся на Николаевском вокзале у кассы.
– Сегодня, папа, я не могу уехать. И завтра – тоже. У меня встреча. Очень важная.
– Хорошо. Сниму номер в гостинице, буду ждать столько, сколько потребуется. Согласен?
– Я не знаю, сколько потребуется. Вам лучше всего было бы вернуться в Каинск.
Но Владимир Яковлевич и слышать ничего не хотел.
– Я тебя не отпущу. – Он почти силой сунул Валериану в карман деньги. – Приоденься, а то глядеть на тебя горестно. Сын мой, сын... Если бы могла тебя видеть мама... У нее сердце разрывается.
– Папа, прошу вас... Я не могу вернуться. Это все равно что отказаться от самого себя. Папа, если вы не хотите погубить меня, нам лучше не встречаться. Нельзя.
Владимир Яковлевич опустил голову.
– Ладно, – наконец проговорил он. – Ты волен сам распоряжаться собой. И ты прав по-своему. Но не прогоняй меня сейчас. Я хочу побыть с тобой. Хоть немножко.
– Нельзя, папа. Я даже проводить вас не могу. Пусть считают, будто вы забрели сюда случайно... Разыскали однофамильца вашего сына. А теперь прошу вас: идите и не сердитесь...
Владимир Яковлевич тяжело поднялся, ноги не слушались, оперся на палку.
Он смотрел и смотрел на сына, сняв темные очки, вглядывался в его лицо, такое исхудавшее, прекрасное и дорогое. Ему казалось, что это их последняя встреча: он знал, что скоро умрет. Да, предсмертная тоска заставила его, больного, полуослепшего, отправиться в этот далекий, трудный путь. Увидеть... хоть в последний раз увидеть...
Он слабо обнял Валериана и беззвучно заплакал:
– Прощай, Воля...
Он не сказал ничего о жестокости жизни, не упрекал его больше, а сгорбившись, стал спускаться по крутой лестнице.
– Не надо, Воля. Не надо. Я сам. Береги себя.
...Когда на другой день приодетый, в хорошем костюме, но безмерно печальный Валериан встретился с Андреем Соколовым, тот его сначала не признал. А когда признал, не сдержал восторга:
– Эге! Да ты одет по последней парижской моде. Шикарный господин. Осанка, галстук, кепи...
– А ты бывал в Париже?
– Нет, не успел. Вместо меня в Париж поедешь ты! – выпалил он.
– Как понимать?
Соколов рассмеялся:
– А вот так: получай заграничный паспорт – и чтоб через два дня духу твоего не было в Петербурге. На связь с Владимиром Ильичем поедешь. Задание получишь завтра-послезавтра. Перед самым отъездом.
Это было уж чересчур. Валериан в полном изнеможении упал на скамейку. Он поедет к Ленину! И не в далеком будущем, а завтра-послезавтра. Заграничный паспорт!.. Поездка, о которой даже не смел мечтать. Он, разумеется, не знал и не мог пока знать, где находится Ленин. Но в этом ли суть? Соколов туманно намекнул, что Куйбышеву, возможно, придется отправиться к Максиму Горькому на Капри, а может быть, в Париж – в самый большой эмигрантский центр. Через день-два все прояснится. Главное – продержаться эти два дня... Продержаться. Со старой квартиры уходить не следует, чтобы не вызвать подозрения у полиции.
Заграничный паспорт... Вот он. На имя некого Георгия Петровича Макалинского. Студент отправляется в Германию, в Йену. Не все ли равно, куда он отправляется, этот студент? Лишь бы вырваться из Российской империи, укрыться от полицейских...
Завтра начнется новая жизнь, будут встречи с выдающимися революционерами, важные поручения от Центрального Комитета партии, он познакомится с Лениным...
Куйбышев мало задумывался над тем, на какие средства будет существовать там, не то в Женеве, не то в Лондоне, не то на Капри. Другие живут – и он проживет как-нибудь. А если говорить откровенно, то он и не собирался надолго оставаться за границей: получит важное задание – и в Россию!
Хозяину и хозяйке сказал, будто собирается проведать родных, в песчаный карьер не пошел, даже расчет брать не стал: мол, вернусь скоро! Уложил свое нехитрое имущество, состоящее в основном из книг, в чемодан.
Печаль от встречи с отцом все не проходила. Но по-другому нельзя... Никак нельзя. Бедный, бедный папа... И все же Валериан был счастлив. Чем бы все кончилось, если бы не эта невероятная встреча с Андреем Соколовым?.. Он, Куйбышев, внесен в розыскной по империи список, и рано или поздно жандармы добрались бы до него...
Он договорился встретиться с Андреем на Стрелке. Но когда на другой день спозаранку Соколов пришел к нему на квартиру, Валериан удивился и встревожился:
– Зачем ты пришел сюда? Небось хвост привел за собой? Разве так можно? Конспиратор...
Но Соколов не стал извиняться. Он был словно не в себе.
– Некогда по-другому! – быстро и резко сказал он. – Я пробирался с оглядкой, так что хвоста нет. Тут такое дело... – Он замялся, как-то странно, вроде бы тревожно поглядел на Валериана.
– Ну?..
– Решай, конечно, сам.
– Что решать-то? – Валериан начинал терять терпение.
– Затем и пришел. Времени у нас нет на разговоры: смерть стоит за плечами!
– У кого за плечами? У меня?
Соколов разозлился:
– Да нет же! Тут один наш товарищ... Его приговорили к смертной казни. Бежал. Сегодня приехал из Москвы и должен сегодня же, сейчас, пока не напали на след жандармы, исчезнуть. Мы никак не можем найти для него заграничный паспорт... Нет у нас пока другого!
Наконец-то Валериан начал понимать, зачем пришел Соколов, презрев всякую опасность и конспирацию.
Где-то тут неподалеку прячется бежавший из камеры смертников товарищ, приговоренный за участие в Декабрьском восстании пятого года в Москве к повешению, и каждая минута промедления грозит ему смертью... Это и есть невероятные повороты судьбы...
Прощай Женева!.. Валериан вынул из нагрудного кармана заграничный паспорт, повертел его, протянул Соколову:
– На! Поторопись... В Женеву поеду в другой раз.
Соколов бросился его обнимать. Даже прослезился.
– Да ты что? Ты что? – возмутился Валериан. – Выбирайся дворами... Встретимся вечером на Стрелке – все расскажешь.
Соколов ушел.
Куйбышев уселся на кровать, отшвырнул ногой чемодан. Опять без паспорта... Только бы не схватили Соколова. Только бы не схватили... Тогда все пропало.
Он осторожно выглянул в раскрытое чердачное окно, чтобы проследить за Соколовым, и обмер: во дворе их дома стоял полицейский и держал Андрея за плечо. У полицейского было большое мясистое лицо, Валериан хорошо его знал, да и полицейский Гаврилов его – тоже. Они каждый раз при встрече обменивались шутливыми приветствиями: Гаврилов грозил Валериану пальцем и щурил глаз, а Валериан делал ему козу. Сейчас Андрей что-то говорил полицейскому, но тот и не слушал его вовсе: он созывал свистком других полицейских.
Не мешкая, Куйбышев скатился с лестницы, выбежал во двор, с налета сильным рывком вклинился между полицейским и Андреем.
– Почему вы задержали этого молодого человека? – закричал он. – Что случилось?
Полицейский словно бы обрадовался появлению Валериана:
– А, господин Соколов! У этого хлюста паспорт на ваше имя. Вот я его и задержал: думаю, у вас похитил. Вышел из вашего дома. Но паспорт ваш и не ваш – вот загвоздка! Позже выдан.
– Ну и что же?
– А то самое: Соколов-то вы? Паспорт на ваше имя, господин Соколов! Дайте свой паспорт, сличим кое-какие записи.
Валериан криво усмехнулся, все оттесняя и оттесняя Соколова от полицейского.
– Не надо сличать, господин Гаврилов. Отпустите этого молодого человека: он и есть настоящий Андрей Степанович Соколов. Он пришел ко мне с претензиями, хотел заявить на меня в жандармерию как на похитителя его паспорта. Пришлось вернуть паспорт законному владельцу – только и всего. Он ни в чем не виноват. Отпустите!..
От неожиданности у полицейского глаза полезли из орбит, надменное выражение мигом сползло с лица. Ов прямо-таки повис на Куйбышеве, обхватил его толстыми руками.
– Ни с места! Вы арестованы...