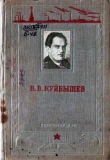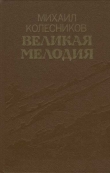Текст книги "С открытым забралом"
Автор книги: Михаил Колесников
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 27 страниц)
– Видал. Благодарим‑с. Революция вас не забудет.
– До революции еще насидишься, мил человек. Не бранись с тюрьмой да с приказной избой.
Штернберга в Нарыме не было: по всей видимости, вернулся в Москву, как и советовал Валериан. Но оставалась его жена, и Куйбышев считал, что ей нужно бежать немедленно.
Партийную школу и библиотеку они восстановили. В школе читал лекции по истории партии Свердлов. Куйбышев – общую историю и обучал слушателей фехтованию. Еще в кадетском корпусе он увлекался фехтованием, и теперь это пригодилось. Революционер должен уметь защищаться, обязан владеть оружием, иметь представление об уличном бое. Фехтовали на палках. Этим делом можно было заниматься даже на глазах у полицейских, устраивая нечто вроде потехи, игры. Двое рабочих затевали шутливую дуэль, а полицейские всячески их подстрекали, так как развлечений в Нарыме мало, а полицейский, он тоже подвержен скуке.
Занятия по партийным документам, по истории партии обычно проводили во время массовых выездов на охоту.
Особенно легко стало работать, когда на Нарым навалилась эпидемия инфлюэнцы. Имелись даже смертные случаи. Обыватель наглухо закрылся, отгородился от остального мира. Полицейские тоже не хотели рисковать по-пустому, и в дома, где квартировали ссыльные, заходили неохотно.
Бесновался вьюжный февраль, свирепствовала эпидемия. Валериан считал, что лучшего момента для побега Яковлевой может не представиться в ближайшее время.
Куйбышев, Иван Жилин и Косарев поднялись в комнату Яковлевой.
– Мы разработали план, Варвара Николаевна, – сказал Куйбышев. – Он немного авантюрный, но выбирать не из чего. Вы готовы к побегу?
– Я всегда готова.
Вскоре распространился слух: ссыльная Варвара Яковлева подхватила инфлюэнцу, у девушки высокая температура, и даже хозяйка боится заходить к ней в комнату. Теперь стражники справлялись о Варваре Яковлевой у хозяйки Пушкаревой, которая подробно сообщала о ходе болезни: «Как бы не умерла, бедняжка...» Стражник пулей вылетал из дома и в следующий раз старался обходить его стороной.
Ночью Куйбышев, Жилин и Косарев укутали Яковлеву в тулуп, вывели на улицу. Здесь дымила пурга. В трех шагах ничего нельзя было разглядеть. Тихо подкатили сани. В них усадили Варю. А потом сани исчезли в белой мгле.
Все так просто.
Но это было не так-то просто: полицейские могли хватиться ссыльной в любой момент.
– Вот что, Иван, – сказал Куйбышев Жилину, – кого ты играл, когда мы ставили «На дне»? Ах да, вспомнил: у тебя была женская роль. Не ошибаюсь?
– Нет, не ошибаешься. Я играл Квашню, торговку пельменями под сорок лет.
– Да, да. Как это у тебя здорово получилось: «Ах жители вы мои милые! На дворе-то, на дворе-то! Холод, слякоть... Бутошник мой здесь? Бутарь!» Ты подлинный артист, Щепкин!
– А я и есть артист. Актер-профессионал.
– Разве? Я это как-то сразу понял.
– Куда клонишь-то, говори?
– Придется тебя в больницу отправить.
– Зачем? Я ж здоров как бык. Кто меня возьмет?
– Мы отправим тебя вместо Яковлевой. Вроде бы в больницу. Прокатишься вокруг Канска – и домой. Ведь даже хозяйка не знает, что Варя бежала.
– А из тебя, Валериан, неплохой режиссер получился бы! Ловко придумано! Как говорил чеховский Дядин: «Сюжет, достойный кисти Айвазовского». Пошли!
Наутро Валериан и Косарев обрядили Жилина в тулуп, укутали в шаль и на виду у хозяйки и стражника, который забежал справиться о Яковлевой, вывели на улицу, усадили в дровни.
– Н-но, милая! В больницу...
Жилин был низкоросл и строен – даже у хозяйки никаких подозрений не возникло: «Увезли бедняжку... Только бы не померла».
Стражник, разумеется, обо всем доложил приставу.
– А ты все-таки наведайся для порядка в больницу, – сказал Овсянников. – Ссыльного без надзора оставлять нельзя, ежели он даже при смерти. А эта особа закамуристая, из курсисток, из тех, что рабочих подстрекали строить баррикады. Из Москвы. Не зря сюда упекли. С этими бабами всегда хлопот не оберешься.
Стражник Кулагин особой исполнительностью не отличался. Он подумал, что соваться в больницу сейчас – последнее дело: все они там заразные. Возьмешься за дверную ручку – а к вечеру температура. У Кулагина двое детей – не хватало, чтоб еще к ним зараза пристала.
В больницу он наведался только на четвертые сутки. И обнаружил: Яковлева в больнице не зарегистрирована! Не было таковой.
И врач к ней не наведывался.
Обнаружив обман, Кулагин побежал в дом Пушкаревой, накинулся на Куйбышева и Жилина:
– Ваших рук дело!
– Полицейский глаз зорок – не надо сорок. Конечно же мы спрятали ее в Колином бору, – насмешливо ответил Валериан. – Если убежала Яковлева, то почему не убежали мы? В санях и на троих места хватило бы. Я, к примеру, не стал бы раздумывать – осточертело.
Кулагин был обескуражен.
– Улизнула, чертова баба! Но ведь я собственными глазами видел, как вы ее с Косаревым выводили.
– Наверное, возница спутал дорогу: вместо больницы повез в Томск или в Омск. Наше дело вывести, а там пусть едет, куда захочет.
Поняв, что над ним издеваются, Кулагин удалился.
– Как говаривал горьковский Медведев, полицейский пятидесяти лет: «Участок у меня невелик... хоть хуже всякого большого...» – сострил Жилин. – Сейчас начнется переполох и нас, бедных, затаскают.
– Пусть, не жалко. Наша первая ласточка. Будут и другие – дай только срок.
В Нарым прибывали все новые и новые ссыльные; они привозили известия о стачках и политических демонстрациях в Москве и Петербурге.
В январе 1912 года в Праге состоялась Всероссийская конференция РСДРП, та самая, которую в Нарыме ждали с огромным нетерпением. Ведь именно на ней намечалось очистить партию от оппортунистов всех мастей. И это произошло: ликвидаторов из партии исключили. Изгнали.
Курс – на демократическую революцию в России!
Плеханов отказался участвовать в работе конференции, хотя его и пригласили.
– Вот видите, Плеханов не захотел, – сказал Куйбышеву при встрече Слонимцев. – А почему не захотел? Да потому что неправильная она, ваша конференция. Мы созовем свою. Правильную. Уже есть организационный комитет. Мы построим новую партию, в корне отличную от вашей.
– Слышал. И другое слышал: Плеханов-то отказался участвовать и в вашей ликвидаторской конференции.
Слонимцев был смущен.
– Это враки! – резко сказал он.
– Нет, не враки. И вы знаете тоже, что не враки. Плеханов не хочет, чтоб его числили в ликвидаторах. Ваша ликвидаторская песенка спета. «Что такое глава примиренцев Троцкий? Сей муж... под видом партийной нелегальной литературы, под сурдинку, контрабандой провозил в среду русских рабочих ликвидаторство. Нужно было вскрыть это. Необходимо было указать и на тех, кто вольно или невольно играет на руку Троцкому... Сейчас ведется борьба не на живот, а на смерть...» – вот как обстоит дело, Слонимцев.
– Сильно сказано: не на живот, а на смерть... Вы верно уловили тенденцию, кадет.
– Это сказал Ленин на Всероссийской конференции в Праге. Так сказать, пригвоздил.
– А вы откуда знаете, что он сказал на конференции?
– Во всяком случае, не из того источника, откуда вы черпаете сведения о ликвидаторских делах вашего организационного комитета.
Слонимцев прикусил язык. А Куйбышев снова подумал: он донес или не он?.. Поймать бы с поличным...
Теперь, после Всероссийской конференции, которая закрепила победу большевиков, нужно было одобрить ее решения, поддержать выбранные ею партийные центры на своей местной краевой конференции.
Конференция была созвана. Продолжалась она всего один день, вернее, одну ночь, а наутро делегаты разъехались по местам. Решили провести первомайскую демонстрацию в Колином бору, неподалеку от Нарыма. Дерзкое предприятие... Тут уж каторга наверняка обеспечена. Проводить митинги и демонстрации ссыльным категорически запрещено. 3 мая кончался ерок ссылки Куйбышева. Но если в Колин бор нагрянет полиция...
И все же демонстрация должна состояться. С красными флагами, с речами. И он, Куйбышев, бросит призыв готовить силы к новой революции.
Сибирь велика, необъятна, но в чем-то она единое целое. И когда в Восточной Сибири на Ленских приисках в апреле 1912 года раздались залпы, вся Сибирь загудела. Загудела Россия. Эти выстрелы по безоружным рабочим, шедшим на переговоры с администрацией, отозвались в каждом честном сердце. Негодяй жандармский офицер приказал стрелять. Убито и ранено свыше пятисот человек!
И снова, как в пятом году, массовые стачки, митинги, демонстрации.
В вихревые дни революционер не думает о том, что нужно беречь себя, потому что срок ссылки кончается.
4 апреля прогремели залпы на Лене, а 18‑го того же месяца двести ссыльных по одному пробрались рано утром в Колин бор. Заполыхали костры. Затрепетали на ветру красные флаги.
Куйбышев стоит на поваленной сосне. О чем говорит он? О пролитой крови на Лене, о стачках в России. О грядущей революции. О классовой солидарности в рабочих массах. О борьбе не на живот, а на смерть, во главе которой Ленин...
На память пришли стихи из детства. Те самые, которые любил читать отец. И Валериан прочитал их притихшим демонстрантам:
Бывают времена постыдного разврата,
Победы дерзкой зла над правдой и добром.
Все честное молчит, как будто бы объято
Тупым, тяжелым сном...
Такие времена позорные не вечны.
Проходит ночь... Встает заря на небесах...
Когда он закончил чтение и окинул собравшихся взглядом, то увидел пристава Овсянникова и его стражников.
– Что ж вы остановились? Продолжайте! – сказал Овсянников. – Я люблю стихи и песни. Почитайте свое, господин Куйбышев. Ну то:
По приказам жандармерии
Из обширнейшей империи,
Что Россией называется... —
Пристав запнулся. Но кто-то из толпы выкрикнул:
– И кретином управляется!
– Молчать!
– Уже лучше, – сказал Валериан. – А вот эта песня вам нравится, господин пристав?
И он запел «Смело, товарищи, в ногу». Песню подхватили. Она зазвучала мощно и сурово, все набирала и набирала силу, гремела над Протокой.
Стражники стояли в растерянности, а Овсянников никакой команды не подавал: он торопливо переписывал демонстрантов, чтобы возбудить большое дело. Хватит либеральничать! Пора на Куйбышева надеть кандалы...
Когда весть о демонстрации в Нарыме дошла до подполковника Лукина, он потер руки:
– Куйбышева немедленно доставить в томскую тюрьму.
Овсянников ответил, что срок ссылки Куйбышева кончился, он получил проходное свидетельство и выехал в Омск, к своей бабушке.
– Разыскать, арестовать и доставить в Томск!
Теперь-то у Лукина были все основания заковать Куйбышева в кандалы.
...Он наслаждался свободой. Неторопливо бродил по улицам двухэтажного Омска, даже не обращая внимания на встречных полицейских: они для него просто не существовали.
Высокий, ярко-красивый, с короной волнистых пышных волос, он привлекал внимание девушек – они оборачивались и долго смотрели ему вслед. Ему вернули студенческую форму. Она очень шла ему, и весь его вид вызывал у прохожих доброе чувство: молодой человек на отдыхе, лицо веселое, глаза чуть озорные, на губах беспрестанная улыбка, лоб открытый, высокий. Из таких выходят Лобачевские, Пироговы, Менделеевы...
Как-то Куйбышев пришел к давнему знакомому и пил с ним чай. Неожиданно в комнату вбежала девушка.
– Люба Яцина!..
И сразу припомнился первый арест. Та самая Люба, которая загораживала его от полицейских, давая возможность уйти. Она ничуть не изменилась за эти последние шесть лет разлуки: цыганская смуглота, глазищи в пол-лица, большие круглые серьги.
– Вам нужно отсюда уходить...
Квартал оцеплен жандармами: ловят Куйбышева. Погоня.
– Ни с места, вы арестованы!
Ведут в знакомую омскую тюрьму, где сидели вместе с Шанцером – Маратом, Константином Поповым и Шапошниковым.
Здесь, в камере свиданий, они с отцом поняли друга.
«...Меня втиснули в общую уголовную камеру.
Назавтра утром меня вызывают в контору. Ничего не подозревая, иду в контору, где мне предъявляют требование остричь волосы и одеться в арестантскую одежду. Я уже три раза перед этим сидел в тюрьме, а этого никогда не бывало. Вообще политические пользовались этим минимумом привилегий: быть в своей одежде и не стричь голову.
Я заявляю протест: на каком основании, почему?
– Ах ты рассуждать! – И хлоп меня по щеке кулаком.
Я бросился на тюремщика. Меня схватили сзади за руки и начали бить. Избили до полусмерти. В полубессознательном состоянии меня переодели в арестантскую одежду, обрили и втиснули в камеру уголовных. Пять дней я пролежал с перебитыми ребрами, разбитой физиономией, весь в синяках. Потом меня отправили в томскую тюрьму...
Но до этих воспоминаний далеко, очень далеко. Они придут сквозь дымку грусти к человеку зрелого возраста, известному во всем мире государственному деятелю, озабоченному преобразованием Сибири, реконструкцией народного хозяйства огромной социалистической державы и многими другими делами большого масштаба. И он слабо улыбнется, увидев себя двадцатичетырехлетним юношей, лежащим на полу тюремной камеры без всяких надежд вырваться на свободу.
6
Но он вырвался, вырвался. Томский суд, придерживающийся французской системы, и на этот раз оправдал его. Прокурор протестовал, жандармский подполковник Лукин метал молнии, требовал для Куйбышева каторги. Его целый год продержали в тюрьме. Но он все-таки вырвался...
Куйбышева влечет к Ленину. Где сейчас Ильич?.. Еще в томской тюрьме он слышал от Владимира Косарева, с которым они тут встречались в общей камере: в Вологду сослана сестра Владимира Ильича.
Вологда... Где это? Как туда добраться?
...Он идет по улицам с деревянными тротуарами. Вымощенная булыжником большая площадь.
Куйбышев с бьющимся сердцем смотрит на двухэтажный флигель, стоящий в глубине двора. Это здесь!..
Какая она, сестра Ленина?
Преодолевая робость, поднимается по деревянной лестнице на второй этаж. Постучал.
Открыла старая вся седая женщина с добрыми морщинками у глаз, на ней было черное платье со стоячим воротником, застегнутым наглухо. Не спросила, кто ему нужен, а плавным жестом пригласила в комнату.
– Мне Марию Ильиничну, – сказал он, почему-то весь напрягаясь и уже догадываясь, что перед ним мать Ленина.
– Вам придется немного подождать, – ответила женщина и таким же плавным жестом указала на стул. Куйбышев присел, испытывая неловкость и не зная, о чем говорить с матерью Ленина. Он был просто в растерянности. Она, по-видимому, поняла его состояние, улыбнулась и сказала:
– Меня зовут Мария Александровна. Я мама Марии Ильиничны.
Он поднялся со стула и, не зная, как вести себя в таких случаях, выпалил:
– Я Куйбышев. Валериан. Из томской тюрьмы. Вернее, суд меня оправдал. А до этого был в Нарыме, в ссылке. Теперь удрал от полицейского надзора. Мне очень нужно повидать Марию Ильиничну.
На ее лице отразилась тревога:
– Здесь вы снова можете попасть под надзор полиции. Этот дом, во всяком случае, под строжайшим надзором.
– Я знаю. Но никто не видел, как я вошел. Постараюсь уйти задворками.
– Будем надеяться, что все обойдется, – успокоила она. – Как вам нравится Вологда?
– Не успел еще рассмотреть. Вроде бы уютный городок. Церквей и колоколов много.
Она снова улыбнулась:
– Нам здесь нравится. Много зелени. Вечерами ходим к реке. Речка тоже Вологда. Тут есть даже купальня.
– Обязательно схожу.
О матери Владимира Ильича Валериан слышал все от того же Косарева, о трагичной и удивительной судьбе ее, но никогда не думал, что вот так запросто будет разговаривать с ней. Ему казалось, будто сейчас он прикоснулся к вечности. Эти минуты войдут в его жизнь навсегда... Он смотрел на нее с удивлением и восторгом. Эта простая на вид старушка, такая по-домашнему уютная, – мать Ленина! Но в ней угадывалось нечто, отличающее ее от других матерей, – может быть, эта горькая и жесткая складка у губ. И руки у нее были сухие, жесткие. Металлический отсвет белых волос словно бы освещал ее лицо, и оно напоминало одно из тех лиц, какие бывают на старинных полотнах великих мастеров. Спокойное достоинство было в каждом ее жесте, в каждом негромко сказанном слове, и думалось, что жизненные бури не властны над ней, такой хрупкой и старой, но гордой и непреклонной.
В комнату резко вошла женщина лет тридцати пяти в полосатой блузке и черной юбке. Во всем ее облике – в гордом взгляде, изломе бровей, зачесанных назад волосах, коротко подстриженных, – было что-то мальчишеское, задорное. Красивой ее назвать было нельзя, но ее обаяние было выше банального понятия о красоте. Он сразу догадался, что это и есть она, Мария Ильинична, хотя уже знал, что здесь, в этом доме, живет и другая сестра Ильича – Анна Ильинична.
Она быстро взглянула на него, протянула руку. Он с чувством пожал эту маленькую руку:
– Валериан. Куйбышев. Из Томска.
Мария Александровна вышла. Они остались вдвоем. Он рассказал о себе все. Мария Ильинична слушала его внимательно, не перебивала.
– Вы знаете Бубнова и Варвару Яковлеву? – наконец спросила она. – Вам придется погостить немного в здешних местах. На глаза полиции лучше не показываться. А сейчас будем пить чай. Если соскучились по газетам, возьмите вон там, на сундуке.
Здесь был целый ворох газет. Большевистская «Правда», которая легально печаталась в Петербурге. Ее часто конфисковывали, и все же она жила, разлеталась по России. Была тут шведская «Политикен» и немецкая «Нейе цейт». Валериан немецким владел в совершенстве и просмотрел несколько номеров «Нейе цейт».
Он поселился за городом и все лето жил среди лугов и васильков. Потом, уже к осени, осмелел настолько, что перебрался в Вологду. Они встречались часто. Куйбышев стал своим человеком в доме Марии Ильиничны. Сюда в гости приходили Вацлав Воровский, Исидор Любимов и другие политические ссыльные. Он со всеми перезнакомился. Когда очень просили, Мария Александровна играла на пианино Вагнера или Грига. И тогда флигель словно раскачивался в могучих звуках.
Анна Ильинична настойчиво расспрашивала Валериана о Сибири, особенно интересовал ее Омск. Вначале он не мог понять, чем привлекает ее этот далекий городок, где тюремщики избили его до полусмерти. Потом узнал: по сибирским и уральским дорогам совершал инспекционные разъезды муж Анны Ильиничны, Марк Тимофеевич Елизаров, звал к себе.
Как-то Мария Ильинична сказала Валериану:
– Нужно находить легальные каналы для партийного проникновения.
Она устроила его в местное общество «Просвещение», которое устраивало для рабочих лекции, спектакли. Валериан проводил конспиративные собрания, беседы в рабочих кружках. Он нанялся репетитором в одну в семью и зажил в общем-то безбедно.
Даже стал пописывать рассказы и печатать их в «Вологодском листке». Рассказы о революционерах. Этого ему, пожалуй, не следовало бы делать. Рассказы получились яркие, с такими деталями, которые не могли не обратить на себя внимание жандармов.
В холодный осенний день Мария Ильинична сказала ему:
– Околоточный надзиратель приказал вычеркнуть вашу фамилию из списков «Просвещения». По-видимому, к вам приглядываются. Поезжайте в Харьков. Там найдете Варвару Николаевну Яковлеву. Она свяжет вас с Бубновым. Они скажут, что делать дальше.
Варю Яковлеву он разыскал без особого труда. Она была удивлена и обрадована. Когда Валериан рассказал, как Иван Жилин изображал ее, Варя и ее брат Кока, Николай, долго смеялись.
– А Павел Карлович?
Оказывается, Варе в Москве показываться опасно, и Штернберг под всякими предлогами часто наезжает в Харьков. И ей и Валериану нарымская ссылка казалась далекой, почти нереальной. С этим покончено раз и навсегда. И опять Варя смеется. Она снова веселая и такая же волевая, начиненная порохом, как в дни баррикадных боев в Москве и там, в ссылке.
Не знала она, что жандармы уже напали на ее след и что скоро, очень скоро ее схватят и вновь сошлют в Нарым.
Но сейчас они заряжены безудержным весельем молодости.
Пришел Бубнов. Тонколицый интеллигент, изящный, в белой рубашке с галстуком, в шляпе. Но, завидев Валериана, швырнул шляпу в угол, обхватил его.
– Неужто ты?! Да сколько же годов мы не видались? Мать ты моя родная – восемь! Рассказывай все по порядку.
Валериан рассказал. Бубнов был задумчив. О себе он не стал рассказывать. Не сказал, что был на Всероссийской конференции в Праге, что избран кандидатом в члены ЦК; упомянул лишь мимоходом, что связан с «Правдой», и спросил, продолжает ли Валериан сочинять стихи. Он был хорошим конспиратором. Оснований не доверять Куйбышеву у него не было, но он хотел все же проверить его в деле. И уж тогда...
Зато охотно говорил Бубнов о проделках ликвидаторов, о провале ликвидаторской конференции Троцкого. Ликвидаторский организационный комитет не смог привлечь ни одной крупной организации. В «Извещении» Бунда говорилось, что на августовской конференции был представлен пролетариат таких крупных городов, как Бутень, Скадель, Крынки, Свислочь.
– Скадель и Свислочь, разумеется, важные центры российского рабочего движения, – иронизировал Бубнов. – А про Петербург и Москву, про Урал и Харьков совсем забыли. Старое мошенничество. Очки втирают европейским социал-демократам, чтобы казаться значительными. И представь себе, помогло: Каутский, Гильфердинг, Носке предоставили свои печатные органы Троцкому для клеветнических нападок на нас. Был августовский блок, а остался шерсти клок. Были народники, были «легальные марксисты», были экономисты... И если вдуматься, то ликвидаторство, собственно, с них и началось. Но сейчас, как мне представляется, мы столкнулись с наиболее живучей разновидностью ликвидаторства. Оно приобрело мировой характер: Каутский, Вандервельде, австрийские социал-демократы, лидеры Бельгийской рабочей партии, вожди британских тред-юнионов. Русские ликвидаторы скатываются до роли либеральных буржуазных политиков. Августовский антипартийный блок, созданный Троцким, бундовцем Либером и ликвидаторами типа Аксельрода и Мартова, начал разваливаться во время самой их конференции. Ее решения не признаны ни одной организацией. Сейчас роман меньшевиков с бундовцами в самом разгаре – одного поля ягоды.
Бубнов знал расстановку сил. Он знал людей. Когда Валериан рассказал о партийной школе в Нарыме, Бубнов воскликнул:
– Чугурина, сормовского кровельщика, и московского кожевника Присягина знаю! Дельные ребята. Предал их некто Икрянистов, который вместе с ними слушал лекции в Лонжюмо. Вот так. Школа была законспирирована. Ездили туда на паровом трамвае. Обыкновенный каменный сарай. Ильич снимал комнаты у рабочего-кожевника. Тут Присягин и нашел себе друга – оба кожевники.
Бубнов обо всем говорил так, словно сам слушал лекции в том каменном сарайчике.
– Ты был в Лонжюмо?
– Нет, не был. Был в Праге, на конференции. Видел Ильича.
– Давай рассказывай все по порядку... О чем говорил Ильич? Я хочу уяснить главное. Решения, разумеется, знаю.
– О построении и задачах партии. О том, что задача завоевания власти пролетариатом, ведущим за собой крестьянство, остается по-прежнему задачей демократического переворота в России...
Бубнов обрадовался, когда узнал о намерении Валериана остаться в Харькове для партийной работы.
Но задержался Куйбышев здесь всего на полгода – Бубнов поручил ему железнодорожные мастерские. Организация мастерских особенно пострадала во время столыпинщины. Железнодорожников Валериан знал, с них, собственно, и началась его революционная деятельность еще в Сибири. Харьковская большевистская организация становилась на ноги, и он с головой окунулся в ее дела. Рабочих до сих пор волновали события на Лене, он рассказывал им о «Ленском золотопромышленном товариществе», акционерами которого состоят высшие сановники, министры и мать царя – императрица Мария Федоровна. Вот кто приказал открыть огонь по трехтысячной толпе. Убито почти триста человек, столько же ранено.
После Ленского расстрела произошло примерно то же, что и после расстрела 9 января 1905 года. И грозный вал стачек и забастовок в стране все растет и растет. Куйбышев повсюду ощущал этот новый революционный подъем, и от счастья и радости трепетала душа. А рядом были Варя и ее брат Кока, Бубнов. Приезжал сюда Штернберг, уговаривал перебраться в Москву. Валериан отказался.
Ему нравился южный город. Рабочие сразу признали в Куйбышеве вожака. Он в открытую схватывался с ликвидаторами, которые нагло утверждали, что надежд на революцию нет, а рабочие-де охвачены стачечным азартом. Он стремился «развивать сознание масс», как требовал Ленин.
Как далеко был он от Нарыма сейчас! Та жизнь вспоминалась в дымке законченных раз и навсегда испытаний. Казалось: он утвердился в Харькове прочно и, может быть, навсегда.
Ближе к весне стали готовить первомайскую демонстрацию. Не такое простое дело, как может показаться сначала, поднять пятнадцать – двадцать тысяч рабочих.
Но их подняли. И они, как в былые времена октября пятого года, сошлись у железнодорожных мастерских. Рабочие несли красные знамена. На митинге Куйбышев произнес пылкую речь с призывом копить силы для грядущей революции.
А вечером Бубнов сказал!
– Ты от горя за реку, а оно уж стоит на берегу: жандармы напали на твой след. Уезжай немедленно, сейчас же! Вот билет на поезд до Питера. Тебе помогут устроиться в рессорную мастерскую Мохова. Свяжись с Петровским. Адрес записывать не надо. Запомни...
Григорий Иванович Петровский!.. Депутат Государственной думы... Адрес его конечно же известен и жандармам и полицейским. Но жандармы не должны знать, что адрес знает и Куйбышев.
...Он с независимым видом прогуливается по Невскому, где знаком каждый дом, каждый камень, каждое дерево.
Санкт-Петербург, Питер! Начинается какая-то новая полоса в жизни. Он чувствует: необыкновенная полоса. Отчего так легко и радостно на душе? И все кажется возможным, достижимым. Весна, весна... От нее сладко кружится голова. Острые девичьи взгляды – и ответная улыбка на его губах. Ах, эти взгляды!.. Весной все девушки кажутся красивыми, таинственными...
Придет или не придет? Они договорились встретиться у памятника Екатерине II. Вот она, царственная фрау, в окружении своих фаворитов...
Он присел в сквере на скамеечку, задумался. День был наполнен большими событиями. Рано утром, когда у полицейских притупляется бдительность, он вошел в подъезд дома, где квартировал депутат Государственной думы от Екатеринославской рабочей курии.
Петровский был уже одет. Он не носил галстуков. Темная косоворотка, пиджачок. Бородатый мужчина с густыми бровями. Резкие залысины, упрямый нос. А в глазах сразу и не поймешь что: строгость или скрытая работа мысли, может быть, настороженность. Ему тридцать шесть, но кажется намного старше. Приход молодого человека ничуть не удивил его. Валериан представился, передал письмо Бубнова.
Григорий Иванович лишь скользнул взглядом по письму и отложил его. О Куйбышеве ему до этого слышать не приходилось. Кто он? Свой? Провокатор? Вот так прямо прийти на квартиру и заявить, что бежал из Харькова от жандармов... Возможно, привел за собой хвост. Петровский был членом ЦК партии и соблюдал крайнюю осторожность. Даже письмо Бубнова не могло служить гарантией.
Но лицо Куйбышева понравилось. Что-то веселое и бесшабашное в этом угловатом, словно бы граненом лице. И в то же время он застенчив, интеллигентен. Это чувствуется в каждом его жесте, слове, в манере держаться. Сразу все выложил о себе. Сын подполковника, дворянин, тюрьмы, ссылка..
– Значит, в нарымской ссылке? – переспросил Григорий Иванович безразличным голосом. – А кто еще отбывал с вами?
Валериан назвал.
Петровский оживился.
– Со Свердловым хорошо знакомы?
– Да, когда я отбыл срок, он еще оставался в Нарыме.
– А где он сейчас?
– Не знаю.
Григорий Иванович нахмурился, с каким-то странным удивлением взглянул на Куйбышева.
– Совсем недавно он сидел вот в этом кресле, где сейчас вы. Его арестовали. Именно здесь, в этой комнате! – сказал он жестко.
Все было так неожиданно, что Валериан ощутил что-то вроде удушья, чуть качнулся в кресле.
– Его отправили в Сибирь, – помолчав, добавил Петровский. – В Туруханск. В тот самый день, когда из Нарыма в Петербург вернулась его жена с сыном. Вы встречались с его женой в Нарыме?
– Ее там не было. Я ведь из Нарыма выехал весной двенадцатого. А она, наверное, приехала позже.
– По всей видимости, все так и случилось, – проговорил Григорий Иванович.
Теперь он не сомневался больше: Куйбышев тот, за кого себя выдает.
– Поди еще не завтракали? – сказал Григорий Иванович уже потеплевшим голосом. И, не дожидаясь ответа, повеселев, сказал: – Будем завтракать!
Во время завтрака он расспрашивал о харьковской демонстрации, о Бубнове и Яковлевой, а узнав, что Валериан лето и осень жил в Вологде, близко знаком с семьей Ульяновых, оживился еще больше.
– Обо всем нужно было сказать сразу, – упрекнул он, – а то играем тут в бирюльки. Ну и что вы намерены делать в Питере?
– Пока что работаю в рессорной мастерской Мохова. Добрые люди помогли устроиться.
– Должность высокая?
– Очень даже: рабочий.
Оба рассмеялись.
– Да, сейчас это в самом деле самая высокая должность. А чем я могу помочь вам? Как депутат?
– Как депутат – ничем. Помогите мне, Григорий Иванович, стать ближе к работе нашего ЦК, Петербургского комитета партии. Располагайте мной... Готов выполнять любую работу.
Такой разговор состоялся утром. Кажется, удалось обмануть бдительность шпиков, уйти от Петровского незамеченным.
Когда в сквере появилась невысокая девушка с пышными вьющимися волосами, в простеньком белом в горошину ситцевом платье, Валериан поднялся, бросился к ней навстречу:
– Ах, Паня, Паня! Совсем заждался. Городовой уж стал ко мне приглядываться: мол, сидит парень час, сидит два – уж не беспаспортный ли?
Он взял ее под руку, и они, петляя по улицам и переулкам, вышли к Неве. Повеяло свежестью.
– Ну докладывай, – сказал он негромко, – что у вас там?
– Сейчас, ваше благородие, доложу. Ты все-таки избавлялся бы от военных словечек.
– Да не такое уж оно и военное. Ну да ладно, все равно докладывай!
Паня Стяжкина работала в больничной кассе завода «Гейслер», там же состояла на учете в подпольной партийной ячейке. Но Валериан, едва устроившись в мастерскую, сразу стал нащупывать партийную почву на других заводах, устанавливать связи. Вот тут-то они и познакомились.
Поэт Куйбышев как-то не заметил, что пришло оно, то самое... Это случилось как-то само собой, незаметно зрело, зрело, и теперь он с удивлением прислушивался к стуку собственного сердца, еще не веря самому себе.
Он стал ждать этих встреч с нетерпением, хотя и сопротивлялся незнакомому чувству. И теперь, взяв ее за плечи, он смотрел в ее блестящие, расширенные глаза. Паня не улыбалась, ничего не говорила, и он молчал. Впрочем, выражение ее лица было очень изменчиво, не менялась только улыбка – не то веселая, не то печальная. Она почти не сходила с ее лица, и это сбивало с толку. В Пане угадывалась воля, хотя в обращении она была очень мягкой, ласковой, казалась совсем беззащитной, словно девочка. Но он знал: все это обманчиво. У Стяжкиной – характер. Твердый, непреклонный. Совсем мужской. Ей всегда уступают. Она бесстрашна, как ребенок. Не боится полицейских; у них под самым носом переправляет на завод нелегальную литературу, не опасаясь доносчиков; наставляет рабочих, как бороться за свои права. И когда Паня говорит, то от нее исходит безудержное веселье.