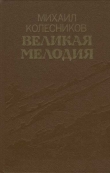Текст книги "Право выбора"
Автор книги: Михаил Колесников
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 33 страниц)
Подымахов ходит тучей. Во мне бурлит ярость.
– Они всегда стараются навязать нам пустопорожние провокационные дискуссии в самое трудное время для нас, – говорит Подымахов. – Но в конце концов мы все равно их скрутим…
Цапкин встречает меня, будто ничего не случилось.
– Позлись, позлись, старик. Вы – нас, а мы – вас. Холодная война. Хочу послушать, как будешь доказывать, что ты не верблюд.
Он сует руку, но я прохожу мимо, не удостаивая наглеца взглядом. Дать бы ему по физиономии, да не оберешься потом хлопот: оскорбление действием и прочее из процессуальной терминологии.
За столом в привычной позе Храпченко. Он словно и не уходил из Комитета. Невозмутимо окидывает всех взглядом. Вид такой, будто оторвали от важного дела и он должен объективно разобраться, восстановить справедливость. Бочаров примостился чуть ли не у дверей, сидит опустив голову. Трудно понять, волнуется ли он.
Подымахов открывает заседание, зачитывает кляузу Цапкина. Нудная, тошнотворная ложь. Но приходится слушать, держать нервы в узде.
– Пусть Бочаров объяснит, как его обворовали! – бросает Храпченко.
Бочаров поднимает голову. Сжатые до синевы губы. Острый взгляд. Он продолжает сидеть, хотя следовало бы перед высоким собранием встать.
– Я испытываю чувство отвращения к таким людям, как Цапкин, – наконец произносит он. – А совсем недавно я вынужден был уважать его. Вы решили ошельмовать всех нас. Но вы зря тратите время. На кого вы пытаетесь вылить ушат грязи?
– Отвечайте по существу вопроса! – подает голос Храпченко.
– А вы меня не допрашивайте. Это вас нужно допрашивать. Как вы посмели возводить клевету на меня, на мою жену, на профессора Коростылева? Вы хотите знать, кто меня обокрал? Систематически обкрадывал меня Цапкин. Он обкрадывал весь наш сектор. Это мы готовили за него доклады, а он потом публиковал их в научных журналах под своей фамилией.
– А доказательства?
– Не беспокойтесь: черновики сохранились. Да и свидетелей много. Можно вернуться к фактам и затеять разбирательство.
– Почему же вы не возмущались тогда?
– Нам некогда было заводить тяжбы. Мы великодушны, не в пример вам. Мы работали, а вы кормились.
– Я протестую!
– Протестуйте сколько угодно, а за клевету я привлеку вас к судебной ответственности. Я знаю, как обращаться с такими махровыми зубрами от начетничества и аллилуйщины. Мы сюда пришли не оправдываться перед вами.
– В такой обстановке нельзя нормально работать. Хулиганство. Товарищ председатель, я требую…
– А вы не требуйте. Пришли со своими склоками да еще требуете, – говорит Подымахов. – Ясно вам? И на мышиную возню, которую вы называете работой, тратить время не будем. Можете жаловаться куда угодно. Говорите спасибо, что отпустили вас с миром. А то мы ведь тоже можем затеять канитель. Да уж по-настоящему!.. Кстати, кто вас сюда приглашал, Храпченко?
– Мой долг…
– Вот что: уходите! Без вас разберемся.
– Ну хорошо. Вы, товарищ Подымахов, еще пожалеете о своих словах.
– Хватит корчить из себя начальника, – почти ласково говорит Подымахов. – Всё видали: и вежливое хамство, и доносы, и подкопы. А вот пользы от вас государству пока не видели…
Еще одна маленькая человеческая комедия. Что нужно Цапкину, Храпченко? Или они всерьез надеялись скомпрометировать нашего Носорога? За спиной каждого стоят его дела. Логика фактов. Такие, как Храпченко, хотели бы, чтобы люди веселились, закрывшись на все замки да с оглядкой на большое начальство, к категории которого они причисляют себя, чтобы человек трепетал, был зависим, был как бы заговорщиком низшей категории, услужливо распахивал дверцы и подносил удочки с наживкой, приписывал таким вот Храпченко несуществующие заслуги, а короче говоря, чтобы процветало лакейство. Но, кажется, их песенка в самом деле спета. Время требует дел.
13
Моя работа, посвященная пульсации поля мирового тяготения и геологическим циклам, опубликована в научном журнале. Редактор отнесся к ней скептически. Дескать, что-то подобное уже было, – возможно, не так фундаментально. А кроме того, следовало бы упростить математический аппарат. И вообще подобные теории носят спекулятивный характер и нынче они не в моде.
Я ему не поверил. Ведь в работу вложена часть моей души. В таком случае любую теорию можно назвать спекулятивной. Редактора подкупили данные радиоактивной проверки, и он отважился рискнуть. Разумеется, под рубрикой «Обсуждаем». Он своей бестрепетной рукой вычеркнул добрую половину вычислений и едва не смахнул главную формулу, ради которой, собственно, и написана работа.
– Вы слишком мало отвели места саморазвитию Земли, – сказал редактор. – Самодвижение – борьба противоположностей. Ваша теория однобока.
– Просто не стал повторять тривиальные вещи. О самодвижении или саморазвитии Земли написаны тома. Я ссылаюсь на источники.
– Пеняйте тогда на себя.
Я готов был расцеловать редактора, забуревшего в грудах научной информации.
– А вы в самом деле верите во все это? – спросил он напоследок. – Помните, когда Вересаев, отличный врач, пришел к Льву Толстому, чтобы проверить пульс, больной Толстой подмигнул и сказал: «Э, бросьте, батенька! Мы-то с вами знаем, что пульса не существует».
Я оставил на редакторском столе свое искалеченное дитя и ушел с большой тревогой: как бы где-нибудь в верстке не слизнули все-таки основную формулу! Тревога не покидала все месяцы, пока рукопись проходила через редакционные жернова.
Сейчас журнал передо мной. Все в порядке. Да и кто бы еще, кроме корректоров, отважился перечитать рукопись? Кое-где досадные опечатки – явление почти закономерное в научных журналах. На последней обложке листок с поправками. А в поправках новые ошибки. Поправок к поправкам почему-то не дали. Но основная мысль уцелела. Если бы Эйнштейн ничего не дал, кроме знаменитой формулы, то и то он прославился бы навеки. Хотя известно, что закономерность первым открыл Хэвисайд.
Жду, с какой стороны обрушится слава. Проходят томительные дни, недели, но в печати – ни звука. Может быть, «пульса» в самом деле не существует? Может быть, Ньютоны и Коперники в наше время невозможны?
Самым близким человеком стал для меня Арсений Петрович Подымахов. Мы заняты по горло, но все же иногда урываем полчасика, сидим, говорим о вещах, не имеющих отношения к работе. Оказывается, у Арсения Петровича два сына: одному под сорок, другому тридцать восемь. Первый – художник, второй – офицер. Жена умерла лет двадцать тому назад. Так и не женился второй раз. «Замотала наука». Мы никогда не вспоминаем Цапкина и Храпченко. Мошки есть мошки. Они мешали нашему делу, путались в ногах – и Подымахов вымел их.
– Силы стали не те, – говорит он. – Я, бывало, мог неделями шастать по тайге. Помню, припасли тридцать килограммов дроби, двадцать – пороха, в проводники взяли «братского»…
Он вспоминает годы молодости, гражданскую войну, своего знаменитого комиссара Кравченко, под началом которого служил тогда. И я вдруг спохватываюсь: Арсению Петровичу семьдесят лет! Да, да, для него все позади. Тогда мир был полон красок. Тогда все полыхало: и зелень тайги, и знамена, и кавалерийские шашки, и растрепанные гривы коней. В словах тоска о тех днях, которые не вернутся никогда. А ведь, наверное, и тогда были свои храпченки и цапкины, только они дрожали под взмахом сабли карающего класса и не произносили наглых сентенций.
Но так думаю только я, приписываю старику совсем ему не свойственное: для него мир по-прежнему ярок и так же, как в первые годы Советской власти и в годы первых пятилеток, наполнен боевой романтикой. Ведь все, что творилось и совершилось, все, что совершается и будет совершено, – наш единый жизненный процесс. У каждого времени своя окраска – только и всего. Основная сила нашей стройки – молодежь, «комсомолята». Признаться, я как-то не придавал значения этому факту. Ведь повсюду на стройках молодежь. У них там свое: кто-то отвечает за воспитание коллектива, кто-то наставляет, кто-то разбирает конфликты. Ведь каждый отвечает за порученное дело, установилась как бы строгая «специализация». Я, например, отвечаю за научную работу и несу в себе сознание партийной ответственности за нее.
Однажды Подымахов сказал мне:
– Сегодня у монтажников комсомольское собрание.
Я пожал плечами. Мне-то какое дело? Мало ли бывает всяких собраний и заседаний!..
– Нужно быть.
– Мне?
– И вам и мне.
– Но ведь монтажники – не мой участок.
Он насупился. Потом спросил с плохо скрытой иронией:
– Ну, а на своем участке вы бываете на комсомольских собраниях?
– Раза два присутствовал. Тут от производственных совещаний голова кругом идет…
– Присутствовал… – повторил он, будто взвешивая на ладони это пустое слово. – Отсутствие всякого присутствия, как говорили в старину чиновники.
И, наливаясь неподдельным гневом, добавил:
– Быть, а не присутствовать! Работать. Ленин находил время для работы с молодежью, а Коростылев – сверхзанятый человек. Он, видите ли, несет ответственность за науку. Я советую вам, Коростылев, почитать стихи Маяковского: есть у него такое, называется «Гимн ученому». Очень хорошо там сказано про ученого, отгородившегося от жизни. «Зато он может ежесекундно извлекать квадратный корень…»
Головомойка продолжалась с полчаса. В конце концов я поплелся за Арсением Петровичем к монтажникам. Думалось: блажит старик – положено идти в гущу, вот и идет. Но все обернулось для меня весьма неожиданной стороной. Собрание проходило на «территории», в главном зале. Мы немного запоздали. Да, возможно, нас здесь и не ждали вовсе. Парни и девчушки говорили о том, что давно пора объявить стройку комсомольской и что такое звание ко многому обязывает. «Ну что ж, может быть, в этом есть резон…» – рассеянно думал я. А в общем-то все, что говорили пылкие ораторы, шло как-то мимо меня. И тут я по инерции продолжал размышлять о своей заоблачной теории. Но вот кто-то назвал мое имя. В связи с чем? Ах, вон оно что: товарищ Коростылев отгородил институт каменной стеной от молодежи, занятой на стройке. Несмотря на неоднократные просьбы комсомольцев стройки, сотрудники института не провели ни одной научно-популярной лекции. Только холодным равнодушием можно объяснить подобное отношение. Парадоксально, но факт: институт находится в трех шагах от стройки, но комсомольцам до сих пор не удалось установить контакт с молодыми учеными; а именно они в первую голову обязаны взять шефство над монтажниками. Видел ли кто-нибудь когда-нибудь товарища Коростылева в общежитии рабочих? Не было такого. А вот товарищ Подымахов, как известно занятый по горло, находит время и для популярных лекций, и для общения с молодежью, знает, кто готовится на дневной, кто на заочный, хлопочет за каждого.
К сожалению, культурно-массовая работа до сих пор организована плохо, а отсюда – утечка кадров. Не одной зарплатой жив человек. Товарищ Коростылев, по-видимому, считает, что его хата с краю…
Нет, это был несчастный день в моей жизни. Подымахов лукаво поглядывал на меня и посмеивался в кулак. Я разозлился не на шутку. Чего они от меня хотят? Есть же еще кто-то, кто обязан отвечать?.. Какое отношение имею я к комсомольской работе? Есть секретари, бюро, наконец, партийная организация, которая должна…
Я вглядывался в курносые лица, и злость постепенно проходила. Ого, черт возьми, я совсем забыл, что, кроме разделенных функций, есть еще одна, общая, обязательная для всех нас: воспитание! Мы возмущаемся, если кто-то молодой и сильный не защитил девушку от хулиганов. А этот молодой и сильный рассуждает: пусть хулиганами занимается милиция, моя хата с краю. Формалистом становишься незаметно. Осознаешь себя борцом, даже любуешься иногда собой: вот какой я непримиримый, принципиальный! А эта принципиальность, если приглядеться внимательно, лишь для самого себя, она мало заражает других, потому что тех других как-то сбрасываешь со счета. Ведь все, что ты делаешь, нужно для других, и ты как руководитель не принадлежишь только себе, хочешь или не хочешь, но ты обязан быть примером, и сила твоя – в опоре на коллектив. Изъяв себя из коллектива, служа лишь своим высоким целям, превращаешься в жалкого индивидуалиста-интеллектуала. В подобной роли невозможно представить Подымахова. Он-то все эти истины вынес на себе с самого начала, у него обостренная чуткость к микробу формализма. Он приходит на такие вот собрания не для того, чтобы «поприсутствовать», украсить своей знаменитой особой еще одно мероприятие. Он хочет знать. Хочет знать, чем живет молодежь (его «внуки»), хочет всегда видеть все как бы изнутри. В нем неподдельный хозяйский интерес к подобным вещам. Я слышал, как он разговаривает с молодежью. Тут нет патриархальной умиленности новым умным поколением, пришедшим, так сказать, нам на смену. Есть суровая озабоченность неполадками, уродливыми явлениями в молодежном быту. Кто-то где-то что-то проглядел, и вот неизвестно откуда выныривает этакий «нигилист» двадцати лет от роду, начинает цинично, во всеуслышанье глумиться над всем, что добыто нашим трудом и кровью. «Нигилиста» Подымахов берет под особое наблюдение, не жалеет на этого паршивца дорогого времени. Я бы так, наверное, не смог. А для Арсения Петровича люди не делятся на больших и маленьких.
– В любом человеке заложено очень много, – произносит он задумчиво, поддавшись философскому настроению. – Человек, увы, не строительный материал, не кирпичик, это прежде всего скрытая индивидуальность, склад взрывчатого материала. Молодые – все принцы, и ни одного нищего. Вот мы стремимся овладеть атомной энергией, управлять ею. А ведь во сто крат важнее взять под свой контроль людскую энергию, направить ее в разумное русло. Окостенение мозгов наступает тогда, когда мы забываем о таких вещах, превращаемся в своеобразных декадентов от науки.
Мне пришлось тогда, на комсомольском собрании, выступить. Я не стал оправдываться и приводить убедительные доводы. Я безропотно принял критику в свой адрес и под аплодисменты пообещал «исправиться».
– Ну и как? – спросил Арсений Петрович.
– Освежает и заряжает.
– То-то и оно. Без них скучно было бы на свете. И наша с вами наука утратила бы свою прелесть. Эк какие горластые да ершистые! У них больше претензий к жизни, чем было у нас. И это закономерно, хорошо.
Мечты Подымахова – мечты хозяина.
– Вот мы создаем установки, реакторы, атомные станции, – произносит он. – А ведь настанет время, когда все это покажется диким примитивом. Я согласен с Кларком: деление ядер – самый грязный и самый неприятный способ высвобождения энергии из всех когда-либо открытых человеком. Но стадию, эпоху в науке не обойдешь. Мы можем сложа руки ждать эпохи ядерного синтеза. Подобная инертность была бы преступлением перед человечеством.
Я никогда не говорил Арсению Петровичу о своей теории, опубликованной в журнале. Подымахов в журналы не заглядывает – некогда! Дорог каждый час жизни. Успеть бы соорудить уникальную установку, а потом еще установку… создать своеобразный центр, комбинат, Атомград в полном значении этого слова. Мы будем поставлять все исходные данные для всех запланированных атомных станций, для разветвленной атомной промышленности, для медицинских институтов и сельского хозяйства, где без нашей продукции уже не обойтись. В конце концов установится полная централизация. Единые проекты, наши стандарты, заводы, выполняющие наши заказы, филиалы, лаборатории в разных концах страны. Атомная промышленность, атомная индустрия…
Вот какие замыслы в голове у старика. Будто намерен прожить еще столько же.
– А что это за теорию вы опубликовали в журнальчике? – огорошивает он меня вопросом.
Я смущен.
– Да так. Плоды долгих раздумий. Помесь космологии с геологией. Одним словом, залез в чужую область.
– Почему же в чужую? Для ученого чужих областей не существует. Энциклопедисты еще проявят себя на высшей ступени. Человек никогда не удовлетворится узкой специализацией. Если ученый будет замыкаться в своей узкой области, он быстро оскудеет.
– Откуда вам известно о моей статье?
– Вот Бочаров принес газету. Он ведь газеты читает, не то что я, грешный. Тут новоявленные Греч и Булгарин ополчились на вас. Я-то думал, что вы в курсе.
Газета самая обычная, к науке никакого отношения не имеющая. Рецензия подписана Храпченко и Цапкиным. Наконец-то дождался отклика! Стиль знакомый. Оказывается, налицо научный плагиат: идею пульсации мирового поля тяготения я взял напрокат у таких-то и таких-то ученых, которые выдвинули ее в качестве маловероятного предположения. Дальше как по маслу. Проницательный редактор будто в воду глядел. Доктор Коростылев забыл о борьбе противоположностей, составляющей основу развития материальной системы. Вместо того чтобы сконцентрировать мысль на саморазвитии Земли, автор удалился в надзвездные высоты. Этак можно докатиться и до идеализма, до утверждения, что звезды оказывают влияние на судьбы людей.
Нацепив на меня дурацкий колпак, Храпченко и Цапкин пустили в ход испытанное оружие – всяческие «измы». О главной формуле, таблицах, о результатах радиоактивной проверки – ни слова. Обстрел ведется в основном по опечаткам. По принципу: если мизинец на левой ноге кривой, то и весь человек урод и глупец. Украл чужую мысль, а обосновать не сумел. Да и вообще нечего было заводить разговор о галактиках, о поле мирового тяготения. Тоже выискался Ньютон! Следовало написать о том, что всем известно. А в результате: нет пророка в своем отечестве и не может быть.
– Принесите журнальчик, – говорит Подымахов. – Ваша теория меня заинтересовала.
Понимаю: вежливость. Чтобы подбодрить. Старику не до теорий. Ладно, принесу.
Писать опровержение? Цапкину и Храпченко только того и надо. Небось потирают руки от предвкушения.
Меня поражает активность Храпченко и Цапкина. Их изгнали – и, казалось бы, все кончено. Подыщи новое место, трудись, осмысливай промахи, будь тише воды, ниже травы. Когда меня несправедливо обижают, я замыкаюсь в себе. Стыдно тратить время на сведение личных счетов. Значит, где-то промазал, чего-то не учел. А те двое как оголтелые. Или не знают, чем занять праздный ум? Или таковы уж заповеди цапкиных – травить, наносить булавочные уколы, смердеть по всякому мелкому поводу. Они энергичны, предприимчивы, мстительны. Дать бы им отпор… да некогда, жаль времени, противно заниматься самозащитой.
– Все-таки вам не мешало бы выяснить сам механизм клеветы, – советует Подымахов. – Поглядите, что за человек редактирует газету. Из каких соображений напечатана заушательская рецензия Храпченко и Цапкина? Может быть, глупая случайность. А возможно…
Я в редакции.
Ласково-пренебрежительно улыбаюсь секретарше, кладу шоколадку на стол.
– Григорий Иванович у себя? Я от Саввы Порфирьевича Храпченко.
– Как о вас доложить?
Ого, здесь как в воинском подразделении – доложить!
– Кеплер. Иоганн Кеплер.
– Вы из Чехословакии?
– В некотором роде. Из Тюбингена.
– Я сразу догадалась. Почему?
Редактор, пожилой лысый мужчина в очках, встречает с распростертыми объятиями:
– А, товарищ Кеплер! Савва Порфирьевич говорил о вас. Присаживайтесь в кресло.
– Ничего. Я на край стола.
– Как вам угодно. Савву Порфирьевича давно встречали?
– Только сейчас от него.
– Ну как он?
– Собирается на Крайний Север.
– Что так?
– Видите ли, там организовали заповедник… для мизонеистов. Ну, его директором. Заповедник – это фигурально.
– Понимаю, понимаю. Испытания, пи-мезоны, бизоны, кулоны. Да, наука далеко шагнула вперед. Не угнаться. Мне вот на шестой десяток, а интереса к научным достижениям не утратил. Век атома и космоса… Мы ведь, журналисты, обязаны быть на переднем крае. Левый край, правый край…
– Меня, признаться, всегда интересовала работа журналистов. Особая порода людей. А вот вы как старый опытный журналист скажите по секрету, в чем основная обязанность журналиста?
Он чешет карандашом лысину.
– Журналист следит, чтобы не было извращения наших советских законов, сопереживает, стоит на страже истины, выражаясь высокопарным стилем.
– А вы лично никогда не нарушали эти законы?
Он снисходительно улыбается:
– Закон что дышло… В старину умели точно определять мысль. Зина, чаю мне и товарищу!
– Я не оторвал вас от важного дела?
– Ну что вы, гостям всегда рады.
– А вы с Саввой, по-видимому, добрые друзья?
– Слава богу, лет семнадцать знакомы. Он, конечно, человек ученый, не мне чета. Но все же иногда и я полезен бываю. Кеплер… Ах, вспомнил! Вы, наверное, принесли отрывок из новой пьесы? Или стихи? Я, например, считаю, что не все, кто любит стихи, – психопаты. Поэт всегда куда-нибудь зовет. Правда, не всегда понятно, куда именно.
– Те-те-те… Я – астроном. Иоганн Кеплер. Может быть, доводилось слышать о моих работах? Законы, обращения планет…
– Так это вы?! Я почему-то представлял вас гораздо старше.
– Режим. Гимнастика, кефир. Я ведь па утрам ничего, кроме кефира с антифризом, не пью.
– Новый препарат?
– Разумеется. Привез из Мексики.
– М…да. Сходное название. У нас ведь антифриз – совсем другое. Впрочем, бензол, бензоиды. И долго были в Мексике, если не тайна?
– Наблюдали затмение Крабовидной туманности. Есть там такой островок Ньюфаундленд. По имени одной собаки назван. Там-то мы с моим приятелем Гершелем и набрели на любопытную идею. Затем, собственно, и пожаловал к вам. Савва Порфирьевич порекомендовал. Может быть, изложить вкратце?
– Да, послушаю с удовольствием.
– Вы с Гершелем знакомы?
– Не приходилось.
– Жаль. Прелюбопытнейший человек. Мне до нега далека, У него все «на кончике пера». Скажем, идет вопрос о границах солнечной системы. Интереснейшая проблема! Раньше ведь думали, что вся система укладывается в диаметр орбиты Плутона. Гершель подошел к решению проблемы своеобразно. Он выдвинул гипотезу, согласно которой существует Трансплутон. И представьте себе, доказал! Математически. Речь идет не о наблюдаемых, а о динамических границах солнечной системы. Поясню коротко на примерах… Что вы думаете о разбегании галактик?
– Как-то не приходилось задумываться.
– Никакого разбегания нет. Просто вся метагалактика вращается вокруг некоего центра. Потому-то и кажется, что отдаленные галактики удаляются с субсветовыми скоростями. Представьте себе диск…
Он ерзает в кресле, но я не даю раскрыть рта этому невежде, морю его целый час выкладками. Главное – довести до осоловения глаз. В конце концов он рявкает:
– Чем могу быть полезен?
– Мы с Гершелем решили опубликовать в вашей газете отрывок из большой работы…
Он вытирает запотевшую лысину рукавом.
– Уф… Передайте вашему товарищу, что мы – газета, далекая от науки. Не можем напечатать. С чего это только Храпченко взял?
Григорий Иванович сердится. Но я методичен.
– Понимаете, какое дело: я устроил Савву Порфирьевича в тот самый заповедник. Ну он, так сказать, в порядке…
– Понимаю. А я-то тут при чем?
– Хотя бы под рубрикой: «Наука против религии»… Еще древнегреческий мыслитель Перепил из Фермопил утверждал…
– Не могу. Храпченко и так впутал нас в историю. Из-за его интриг надавали по горбу. В вашей ученой тарабарщине сам черт не разберется.
– Зачем же так?.. Друзья обязаны… Кстати, сегодня у нас астрономический банкет в узком кругу. Иностранные гости, дамы. Я просил бы вас на правах друга…
– Не могу!
– Ну хотя бы рецензию на работу. Три-четыре абзаца с объективной оценкой: выдающаяся работа известных астрономов…
– Никаких рецензий. Мне за рецензию-то и влетело. Храпченко с Цапкиным вздумали тут одному выскочке мозги вправить. Ну, вправили. А все вышло наоборот. У Коростылева, будь он неладен, нашлись защитники в верхах.
– Кто, если не секрет?
– В том-то и дело, что не говорят. Дескать, вместо объективной оценки бездоказательное заушательство. Астрономией мы больше не занимаемся. Так что пусть товарищ Гершель не обижается…
– Хорошо. Не настаиваем. Кстати, я знаком с рецензией Храпченко и Цапкина. Как специалист, должен сказать: в самом деле заушательская штука. Вас компрометирует. Мы могли бы с Гершелем помочь… Да, да… Выгородить вас. Ну, свободная дискуссия. Мы берем под защиту работу Коростылева, а заодно и вас. Платон мне друг, но истина дороже. Нокаут – Храпченко на земле. Ему ведь все равно – он за Полярным кругом. Экзотика, торосы, эскимосы, белые медведи, аз, буки, веди…
Он глядит на меня, как на сумасшедшего:
– Вы это всерьез?
– Разумеется.
– Но ведь Храпченко – ваш друг. С чего бы вам становиться адвокатом Коростылева?..
– Вы, Григорий Иванович, лучше объясните, почему вас в журналистских кругах называют скорпионом?
Наконец он начинает соображать.
– А может быть, вас специально подослали? Может быть, тот же Коростылев? А я откровенничаю, выслушиваю вашу абракадабру.
– Я и есть доктор Коростылев!..
Этой сцены, разумеется, не было. Я ее выдумал. Мы всегда мысленно расправляемся с нашими недругами, оглупляя их до гротеска. А на поверку они не так уж примитивны, если сумели насолить вам. Просто у них иная форма мышления. Если бы люди были глупы до такой степени, как это иногда выгодно представлять, они не просуществовали бы и одного дня. Даже какую-нибудь неразумную тварь, волка, ворону, голыми руками не возьмешь. А человек борется осознанно.
Нет, я никогда не пойду в редакцию искать правды. Ведь жизненные коллизии определяются обстоятельствами и мерой твердости характера каждого. Я умею утверждать себя лишь своей работой. Мне противно доказывать, что я не то самое двугорбое. Вот если бы засучив рукава, по-честному, чтобы кровь из носа, – тут бы я еще мог потягаться. А Храпченко и Цапкина никакой истиной, никакой идеологией не проймешь – идеология входит в их кожу не глубже чем на миллиметр.
Почему же все-таки моя теория не находит отклика в умах?
…Эпикур, как всегда, нашептывает:
«У тебя нет особых причин расстраиваться. Ведь ты знаешь цену всем этим цапкиным и храпченко. Банальные фигуры. Ты и сам никогда не верил в их силу. Ведь поэтов все-таки больше, нежели крыс. Если бы было не так, то не было бы ни прогресса, ни революций. А ведь наука только за последние двадцать лет сделала больше, чем за всю предшествующую историю. Тут что-то есть. Победителем оказался человек, первым добывший огонь, а не тот, кто наступил на первый костерик. Ты обескуражен тем, что твою гениальную теорию не расхваливают. Что ж… Появилось столько теорий и гипотез, одна гениальнее другой, что глаза разбегаются. Не кроется ли за твоим разочарованием чисто потребительское отношение – слава, успех, продвижение? Ты, кажется, всегда был противником потребительского отношения к обществу, к своим друзьям и товарищам. Конечно, конечно. Всякий труд должен быть оценен по достоинству. Но ведь научные идеи берут на вооружение тогда, когда в них появляется потребность. Значит, твоя теория, как бы изящна и внутренне совершенна она ни была, никому не нужна, никого не затронула. Вспомни Лобачевского, Римана. Да и Декарт не исчерпан еще полностью… А возможно, твоя теория содержит крупные изъяны. Как знать. Никогда не самообольщайся. Ты высказал несколько предположений, попытался их обосновать. Почему же все сразу должны встречать тебя фанфарами? Ведь ты трудился для истины… Поверь мне, ни одна гениальная идея не остается в забвении. Правда, признание приходит иногда слишком поздно. Но что из того? Значит, мыслитель заглянул за грань своего времени. Только-то. Сколько их осталось в тени, по-настоящему талантливых! Их всегда заслоняет густая, длинная тень великих. Вспомни хотя бы Гука, которого историки пытаются представить этаким сварливым пигмеем-интриганом. А ведь именно Гуку, а не Ньютону первому пришла в голову великолепная мысль о всемирном тяготении. У Гука просто не хватило ума справиться со своей гениальной гипотезой. Дарвин заслонил Уоллеса и Северцова. Лобачевский заслонил Больяи, Эйнштейн заслонил плеяду блестящих ученых, стоявших на пороге открытия теории относительности. Хэвисайд – величайший ум, выше Эйнштейна. Но кто знает о нем? Примерам несть числа. Может быть, и твоя теория послужит лишь отправной ступенькой для истинного гения, некоего всеобъемлющего ума.
На что ты жалуешься? Ты знал радость любви, ты знал высшее счастье – радость творчества… Одиночество?.. Ты смутно представляешь, что такое одиночество. Когда выжившего из ума, дряхлого Гамсуна использовали фашисты, народ отвернулся от него. Со всех концов Норвегии каждый день на имя Гамсуна стали приходить грузы, ящики его книг. Народ отказался от его творений. Народу нужны наставники-борцы. С чем сравнить то одиночество, которое испытал умирающий в богадельне Гамсун? Служащий народу никогда не бывает одинок. Мелкие флуктуации бытового порядка нельзя принимать за одиночество…»
Тебе, Эпикур, хотелось бы сделать из меня подвижника во имя истины. О черт, я и так всю жизнь тер затылок за цапкиных. Радость любви? Где она? Ведь каждый – продукт своего времени. Возвыситься до равнодушного созерцателя, не желающего лично для себя ничего, я не могу. Не догмами жив человек. Да, да, аскетическая пошлость изжила себя. Человек не подстилка для более проворных. Он хочет все для себя.