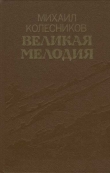Текст книги "Право выбора"
Автор книги: Михаил Колесников
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 33 страниц)
3
На следующее утро мы направились в отдел кадров. Перешли через путепровод. Навстречу попадались рабочие в пропыленных одеждах. С некоторыми Терюшин заговаривал или обменивался коротким приветствием. Я пытливо вглядывался во все, что попадалось на пути. Да, здесь была своя жизнь, мне совсем незнакомая. И снова непонятно почему сделалось тоскливо на душе.
Удивительное дело! Вот было глухое, почти безлюдное место… Я знал здесь каждый увал, каждую тропку, бродил с ружьишком в непролазной чаще. И все, все, как по колдовству, пропало.
Будто ступени широкой лестницы, тянутся уступы карьера. А на уступах и на дне глубокой железной чаши, над которой день и ночь клубится красноватая пыль, сотни совсем незнакомых людей, приехавших сюда со всех концов. Они вжились в тайгу, в рудник, считают этот край своим. А я – чужак. Для них я – чужак, новичок.
Отдел кадров размещался в трехэтажном здании рудоуправления. Аркадий Андреевич провел меня к инструктору отдела, пожилому человеку с гладко зачесанными белыми волосами. Он сидел, положив локти на стол; костлявые плечи поднимались почти вровень с ушами. На нем был темно-синий китель с потускневшими металлическими пуговицами. Мне не понравился прямой, рассекающий взгляд кадровика, как у следователя, его тонкий острый нос, мягкая, слегка снисходительная улыбка. Он ощупал меня зоркими глазами с ног до головы, кивнул на стул.
Я уселся, а кадровик, нацепив на нос очки в железной оправе, стал неторопливо изучать мои документы. Наконец он вернул документы, стеклышки очков уставились на меня, вопросительно поблескивая:
– Чем могу быть полезен?
– Видите ли, я когда-то работал на вашем руднике, был машинистом экскаватора..
– Так.
– Вот вернулся и хочу снова работать.
Кадровик закурил папиросу, выпустил тонкую голубую струйку дыма изо рта, задумался.
– Значит, работать у нас?
– Да.
Он снова задумался, сощурил глаза. Это был бесстрастный человек, холодный, как айсберг. Сразу стало легко, свободно: я уже знавал подобных людей. Вот сейчас за его высоким бледным лбом заработала счетная машина, и он с точностью счетной машины определит мое место в огромном коллективе рудника, мою судьбу. Прошлое? Главное – то, что я не был ни под судом, ни под следствием, не бежал из заключения. В противном случае начались бы дополнительные расспросы.
Но на этот раз счетная машина не сработала. Кадровик улыбнулся широко, по-человечески просто, обнажив два ряда крепких белых зубов, сказал сокрушенно:
– Ума не приложу, куда же вас пристроить! Может быть, в управление? Но не станете же вы переписывать скучные бумажки, заполнять графики?
– Хотелось бы что-нибудь попроще. Грузить. Камни таскать, что ли. Физический труд. От бумажек у меня заскок в голове. За должностью не гонюсь. Грузить, таскать. Да я ничего другого и не умею. Техника-то у вас новая.
– Понимаю. Дело хозяйское, неволить не станем. Так куда же вас все-таки определить?..
Выручил Аркадий Андреевич.
– У Бакаева на «Уральце» нет помощника.
Кадровик наморщил лоб. Он не спешил ухватиться за предложение Терюшина, – видно, у него были свои соображения на этот счет.
– Бакаев пока справляется и сам, – сказал он сердито. – А вот если на отвальный плуг… Чуть-чуть получиться. Да там и учиться нечего. Человек вы грамотный, разберетесь быстро.
– Это на место того, который ушел вчера? – полюбопытствовал я. – Встретился с ним на перевале…
Кадровик безнадежно махнул рукой:
– А, Сенька Пигарев! Рвач, каких мало… Ну, как насчет отвального плуга?
Мне было все равно. Отвальный плуг так отвальный плуг! Но опять вмешался Аркадий Андреевич.
– Тебе, Парамон Ильич, только бы человеко-единицу в графу поставить, – заговорил он горячо. – Выбыла человеко-единица, прибыла человеко-единица. А этот парень машинистом экскаватора был. С месяц поработает помощником, а там и сам за рукоятки сядет. Прямой резон к Бакаеву его пристроить. Сам знаешь, с машинистами туго. На плуг и бабу поставить можно.
– А ты не горячись, Терюшин! – потерял выдержку кадровик. Очки взлетели на лоб. – Не учи, без твоих советов как-нибудь разберемся. Шумишь, как барышник на конном базаре.
Старики сцепились не на шутку. Они совсем забыли обо мне и не стеснялись в выражениях. Я не узнавал выдержанного, всегда немногословного Аркадия Андреевича. Ему во что бы то ни стало хотелось определить меня в бригаду неведомого Бакаева, а кадровик стоял на своем. Было ясно, что на руднике каждый человек в большой цене.
Не знаю, чем бы кончилась эта шумная сцена, если бы в кабинет не вошел молодой человек в сером костюме и белой рубашке с расстегнутым воротником. Он был розов и свеж, словно только что вышел из бани. Минуты две прислушивался к спору, затем сказал шутливо:
– Что за шум, а драки нет? Да это же все решить проще простого: на экскаватор? Пожалуйста! На внешний отвал? Милости просим! Степану Волынкину требуется помощник. Тупик номер три.
Спорщики смолкли. Однако Аркадий Андреевич не сдавался:
– В карьер бы его, товарищ начальник!
Молодой человек пообещал:
– Покажет себя в деле – переведем в карьер, «СЭ-3» дадим!
– Улита едет – когда-то будет! – проворчал Аркадий Андреевич. – Вы, товарищ Шуйских, вникните в суть: человек, можно сказать, был зачинателем всего нашего дела, одним из лучших машинистов рудника, премии получал, сызмальства, сыздавна на руднике. И тут вернулся, и пожалуйста – на задворки. Нескладно как-то получается.
Шуйских заинтересовался:
– Вы раньше работали на Солнечном?
– Да. Родился и вырос здесь.
– Ну, а сами не возражаете против того, чтобы работать в отвале?
– Не все ли равно?
Аркадий Андреевич бросил на меня сердитый взгляд, покачал головой, полез в карман за трубкой. Ему непонятна была моя сговорчивость. «Ну и глуп же ты, парень!» – по-видимому, хотелось ему сказать, но он молчал, шевелил бровями.
Молодой человек в сером костюме не стал долго размышлять:
– Собственно, из-за чего разгорелся сыр-бор? К Бакаеву или Волынкину – не вижу разницы. Идите к Бакаеву. Люди везде нужны. А насчет задворок, Аркадий Андреевич, – зря! Удивляюсь, как это вы, пробыв столько лет на руднике, можете столь пренебрежительно отзываться об отвальных работах! Не забывайте, что довольно значительный процент работ составляют именно отвальные.
– Погорячился, – смущенно отозвался Аркадий Андреевич. – Не в том дело. К руде пристроить земляка хочется.
– Так и порешим: к Бакаеву! Можете хоть сегодня приступать к своим обязанностям. Бумажки быстро оформим.
Уже очутившись на улице, я узнал от Терюшина, что участие в моей судьбе принял не кто иной, как сам начальник отдела кадров Шуйских.
– Ну вот, ядрена корень, закончилась баталия! – сказал Аркадий Андреевич. – Не вмешайся я, запихали бы в тупик, на задворки. А устраиваться нужно накрепко, к руде поближе. Руда, она, брат, есть руда, кормилица наша…
Аркадий Андреевич явно был доволен, что так ловко обстряпал это дельце. Он всегда участливо ко мне относился и хотел мне только добра.
А я еще не знал, радоваться или печалиться.
4
Рудник Солнечный… До сих пор я видел его только сверху, а теперь мы с Аркадием Андреевичем спускались все ниже и ниже по выщербленным каменным ступенькам. Легко было запутаться новому человеку в лабиринте ходов и выходов, но мой спутник шагал уверенно, и я едва поспевал за ним. На дне железной чаши воздух стоял неподвижно, жгло полуденное солнце. То там, то здесь сквозь багряную мглу проступали силуэты машин. Вздыбленные в небо стрелы экскаваторов с головными блоками, неясные очертания составов, частокол столбов и вишнево-красные груды взорванной породы… Справа громоздилась пышущая зноем стена-откос, слева был двенадцатиметровый обрыв. Мы пробирались по площадкам, спотыкались о рельсы и камни. Пот лил с меня в три ручья, горячий воздух обжигал легкие, запорошенные глаза слезились.
А Терюшин все шел и шел. Вот он ловко спрыгнул на площадку, сказал:
– Твой забой!
«Мой забой»! Сперва я не заметил людей. Покрытое густым слоем пыли туловище экскаватора занимало большую часть площадки. Машина показалась неправдоподобно огромной. И еще я увидел сверкающий зубастый ковш, повисший над вагоном: в забой только что подали состав.
– Вагоны Министерства путей сообщения, – пояснил Аркадий Андреевич, – богатая руда пошла. А куда отправляют ее – неведомо…
Это был мой забой. Из кабины выглянул сухощавый человек в засаленном комбинезоне и сдвинутой набок кепчонке, из-под которой торчали прямые, как иглы, рыжеватые волосы. Бросил злой, ястребиный взгляд сперва на Терюшина, потом на меня, скривил тонкие бесцветные губы.
– Привел помощника! – крикнул Аркадий Андреевич.
Человек в комбинезоне ругнулся и скрылся в кабине.
– Ерш, а не человек! – сказал Терюшин не то осуждающе, не то одобрительно. – Не любит, когда под руку затевают разговор. Ну ты, парень, бывай, а я пойду по своим делам…
Он нырнул в красный туман, а я остался один. Пока был рядом Аркадий Андреевич, все шло как-то само собой. Сейчас же я растерялся. Что делать дальше? Бакаев не обратил ровно никакого внимания на меня. Помощник…
Экскаватор с натужным воем вгрызался ковшом в груду породы, стрела безостановочно ходила от забоя к вагону. Бакаев работал без напряжения, не дергал рычаги, не напрягался. Ни единого лишнего движения! По всему угадывалось, что он хорошо «чувствует» машину. Я сразу разгадал его секрет: работу подъемом и напором при подаче ковша на выгрузку и при опускании в забой Бакаев стремился совмещать с операцией поворота.
Во мне проснулось, казалось бы, давно забытое. Я понимал все: знал, когда он подает рукоятку на себя, когда нажимает ногой на педаль. Копание, поворот, разгрузка, обратный поворот – все следовало друг за другом. Думалось, сядь я сейчас на место Бакаева, и все получится ничуть не хуже, чем у него. Я даже почувствовал зуд в ладонях, но скоро остыл.
Назначили помощником. Что такое помощник? Чем он должен заниматься? Почему стою в растерянности, жду какого-то особого приглашения? Если бы я хоть немного знал эту громоздкую машину!.. Ведь тогда приходилось иметь дело с дизельным экскаватором и никаких помощников у меня не было. Сумею ли быстро разобраться во всех узлах и механизмах?.. Как я знал понаслышке, главное в «Уральце» – электрооборудование. Генераторы постоянного тока, переменного тока, распределительные устройства, трансформатор… Неведомые, загадочные вещи. Шесть тысяч вольт, три тысячи вольт… Уж от одних только слов можно было прийти в трепет.
– Что раскрыл хлебало? Помоги ребятам!.. – это кричал Бакаев. Я не сразу догадался, что слова относятся ко мне. Машинист швырнул на землю брезентовые рукавицы.
Первые два вагона состава были загружены, и рабочие нижнего звена, вооружившись лопатами, разравнивали породу. И хотя в мои обязанности явно не входило разравнивание, я не стал спорить, схватил лопату и проворно забрался в загруженный вагон.
Большие глыбы приходилось переваливать руками. Через четверть часа я почувствовал, как дрожат колени. В горле першило от пыли. Спина покрылась липким потом. Снял свитер, бросил на камни. А солнце жгло по-прежнему.
Да, за двенадцать лет я изрядно обветшал… Мы переходили с вагона на вагон и снова остервенело ворочали ломами и лопатами угловатые куски породы.
Пот, горячий пот застилал глаза. В голове звенело не то от рычания экскаватора, не то от зноя. Иногда я обессиленно опускался на камни, потом, отдышавшись немного, снова хватался за лопату.
Но силы все-таки иссякли. Два последних вагона разравнивали без меня. Поезд отправился. А я сидел, прислонившись к красной глыбе. Кто-то подал цебарку с водой, и я жадно припал к ее краю воспаленными губами. Поднялся, покачиваясь направился к Бакаеву:
– Меня назначили к вам помощником…
Он покосился, вынул папироску, закурил, процедил сквозь зубы:
– Принимай инструмент!
Инструмент он сдал по описи и заставил расписаться.
– На «СЭ-3» работал?
– Нет.
– Ладно. Пока будешь следить за подшипниками, чтобы не перегревались. Ну, что касается смазки узлов, то покажу в ходе дела.
И совсем неожиданно добавил:
– Откуда только вас, чертей бесклепошних, присылают на мою голову!..
После сдачи смены мы направились в поселок. Позади шагали рабочие нижнего звена: паренек лет восемнадцати Юрий Ларенцов и угрюмый, молчаливый Ерофей Паутов – из нашенских, сибиряк. У этого Ерофея было такое лицо, что, казалось, нажми щеку пальцем – кровь брызнет.
– Ты где остановился? – спросил Бакаев.
– У Аркадия Андреевича.
– Ерунда. Идем к нам. Мы с Юркой вдвоем. Одна койка все равно пустует. Матрац, подушка. Простынок, правда, нет. Зато живем рядом с большим начальством: вон усадьба Кочергина! А вот наш терем.
Ерофей Паутов попрощался и зашагал дальше: он квартировал в поселке.
Небольшой аккуратный особняк мне сразу понравился. Он был обшит тесом, и гладко обструганные дощечки с натеками смолы светились на солнце. Поодаль стояли высокие сосны, а за ними крутой стеной вставал хребет.
Бакаев и Ларенцов занимали светлую, просторную комнату, изолированную от остальных капитальной стеной. Мы умылись, переоделись.
– Сбегал бы ты, Юрка, в ларек, – сказал Бакаев. – В столовую нынче не пойдем.
Ларенцов, не проронив ни слова, взял у машиниста деньги и скрылся за дверью. Вскоре он вернулся, держа в руках круг колбасы и буханку хлеба. Когда поужинали, Бакаев многозначительно произнес:
– Вот что, ребята. Раз теперь у нас бригада – полный комплект, то я думаю так: работать будем злее. Я, брат, сам злой на работу, Юрка не даст соврать, и тебе советую на поблажку не рассчитывать, хоть ты и помощник. А какой ты помощник, мы еще не знаем. Да и знать тут нечего. У себя в Кривом Роге я не взял бы такого помощника: на кой шут он мне нужен, ежели не знает, что к чему! Вот и мотай на ус: первейшим делом приглядывайся, без дела не стой. Дело всегда найдется. Ты вроде как бы начальник над рабочими нижнего звена, руководить должен. Опять же следи за передвижкой машины, не гнушайся кабель поднести, уложить на козлы. Ну, смазка и прочее. А послали ко мне не без умысла: помощники у Бакаева долго не держатся. Был такой Волынкин. Хоть он и Волынкин, а проработал у меня два месяца – и в дамки: поставили машинистом. Укладывает в отвал две тысячи шестьсот восемьдесят кубометров. Вот тебе и Волынкин! А ты где до этого работал?
– Здесь.
– Здесь? Что-то не примечал такого.
– Я давно работал. На кубовом. Вел проходку капитальной траншеи.
– Так за каким же чертом тебя прислали, раз ты сам машинист?! Стаж-то поболее моего…
Он явно был обескуражен, крякнул, сказал:
– Юрка, милок, сбегай за водкой.
Юрка рассмеялся:
– Что это на вас, дядя Тимоша, накатило?
– Эх, чудак человек, ничего не понимает. Молокосос. Не хочешь уважить, сам схожу.
– Ладно уж, сидите. Сбегаю…
Он скрылся за дверью, а мы продолжили разговор. Я объяснил Бакаеву, в чем дело. Он успокоился:
– Значит, потерял специальность. Теперь понимаю, почему послали ко мне. Хотят восстановить. И то резон. А я так рассуждаю: мы с тобой вдвоем, ежели засучим рукава, можем тут кое-кому нос утереть! И тебе есть смысл отличиться, чтобы скорее самому машину получить. Так и договоримся.
Вернулся Ларенцов с четвертинкой. Бакаев презрительно скривился, но ничего не сказал. Он молчал долго, потом неожиданно выпалил:
– Сукин сын, гнилая интеллигенция! Вот кто ты! Соображения в тебе нет ни на грош. Да мне эта чекушка, что бугаю красная тряпка!
Юрка захохотал, схватился за живот:
– Вы же слово дали Екатерине Иннокентьевне больше не пить! А то вот возьму да и скажу, что вы не хозяин своему слову.
Бакаев уставился на Юрия, добродушно сощурился:
– Не скрипи, злыдня, я же не зарекался совсем в рот не брать. Скорее кляузы разводить! Молодежь… Я, может, люблю тебя, стервеца, а ты сразу к Екатерине Иннокентьевне. Пить и выпивать – это две большие разницы, как говорил один одессит. Я и без твоей Екатерины Иннокентьевны знаю, что делать. У меня, может, цель определенная. А баба, она и есть баба.
Ларенцов ухмыльнулся:
– Слыхали. Цель определенная, но мелкая: зашибить деньжонок и махнуть обратно в Криворожье. Вот и вся цель.
Мне казалось, что Бакаев вспылит, но он вместо этого расхохотался:
– Правду говорит, подлец! Как в воду смотрит. А как же быть прикажете? В Кривом Роге у меня семья осталась: жена и двое детей. Такие малюсенькие девчушки… Я, может, оттого иногда и заливаю. Зелен ты еще, чтобы понимать подобную ситуацию. А я свое, брат, отработал, помотался по белу свету. Слыхал когда-нибудь про Саксагань? Речка такая. Там же Веселые Терны – моя родина. Вон куда меня занесло от родных мест! Красотища там у нас, не то что тут: продерешь утром глаза, глянешь в окно, и под ложечкой засосет – дикой край, лес да лес. А я к степу привычный. Тут и медведь запьет.
– А почему бы вам не перетащить семейство сюда? – полюбопытствовал я.
Он посмотрел на меня серьезно:
– Ерунда! Такого даже мыслить не могу. Не поедет моя Машутка сюда. У нее там полгородка родичи. Мечта есть: обосноваться на берегу Саксагани. Опять же детишки – родина ведь. А отсюда все равно тянуть будет. Все как будто не дома. Так-то… Дюже опостылела мне эта тайга!.. Да что толковать…
Я смотрел на его голый, как колено, подбородок, в его коричневые, подернутые пленкой глаза и думал, что у этого человека тоже своя замысловатая судьба и что все в жизни не так просто, как кажется с первого взгляда.
И когда мы улеглись на кровати, я все продолжал думать о Бакаеве, об его семье. Что-то было общее в словах Бакаева и Сеньки Пигарева, который повстречался мне вчера на перевале, и в то же время что-то глубоко различное.
Я лежал и глядел в окно на залитые лунным светом щетинистые верхушки сосен и все не верил, что снова очутился в своей тайге. Пытался представить себе Катю Ярцеву, но перед мысленным взором вставала тоненькая фигурка девушки с большими заплаканными глазами, смуглые босые ноги и струящаяся по ветру голубая косынка.
Прошлое… Иногда думается, что оно не властно над нами. Но бывают минуты, когда все то, что, казалось бы, ушло навсегда, начинает тревожить память, и ты будто заглянешь в какую-то щель во времени…
Может быть, эта история интересна только для меня. Но, без сомнения, она поучительна и для других, ищущих славы и признания.
Неподалеку отсюда, на берегу Кондуй-озера, некогда стояла бревенчатая избушка промыслового охотника Иннокентия Ярцева. Там прошло мое детство. Я остался сиротой четырех лет. Тогда-то и взял Иннокентий меня на воспитание. По сути, я мало видел материнской ласки. Катя, та вообще не знала матери. Мать, Марфа Петровна, умерла во время родов. Иннокентий ждал сына, но родилась дочь. Сперва это огорчило его: так хотелось мальца! А потом он полюбил дочурку всей своей суровой душой таежного скитальца. Так и росла Катя, как будто девчонка, а по замашкам – мальчишка-сорванец. Но Иннокентий все же мечтал о сыне, будущем помощнике в многотрудном промысле. Неизвестно почему он не женился вторично. Когда я лишился родителей, он взял меня в свою избушку. В детстве с Катей мы часто дрались – два замурзанных звереныша: она стремилась верховодить в играх, а я не поддавался. Правда, в трудные минуты я всегда становился главным, защитником, покровителем. Плел для нее корзиночки из прутьев, запекал в костре косача, доставал кедровые шишки.
Забылись имена людей, стерлись, потускнели события более поздних лет, но картины детства остались навсегда, как яркий цветистый сон.
…Трещат от лютой стужи кедры и сосны. Свет зимнего дня едва просачивается сквозь морозные узоры стекол. Что-то темное, страшное в углах избы. Мы лежим на сдвинутых лавках. Овчина сползла на пол, но вставать не хочется: боязно. Иннокентий еще вчера утром ушел куда-то на лыжах, закинув за плечи ружье. У порога свернулась клубком Найда. Иногда она настораживает короткие острые уши, угрожающе морщит верхнюю губу. Найда – угрюмая сибирская собака. Она никогда ни к кому не ластится, не виляет хвостом. Если во дворе появляются чужие, Найда скалит большие белые клыки, шерсть на ее спине встает дыбом, клокочущее хриплое ворчание выдает злость. Она признает лишь Иннокентия. Подойдет к нему, ткнется мордой в колени и замрет, ожидая, пока он погладит ее, потреплет по голове. К нам, детям, Найда относится снисходительно: позволяет дергать за хвост и уши. Иногда лизнет в нос в знак особого расположения. Найда – надежный сторож. И все же нам боязно. По тайге зимой и летом бродят недобрые люди; они страшнее волков и медведя. Лют недобрый человек – он не щадит ни старого, ни малого.
– Хепца… – тоненько пищит Катя. Но хлеба нет, и вообще ничего нет ни на полке, ни в огромном кованом сундуке, на котором обычно спит Иннокентий. Железная печка давно заглохла. Трут с кремнем и огнивом лежит на сундуке, у печки – ворох сушняка. Но я еще не научился пользоваться огнивом. Кроме овчины, мы укрываемся еще одеялом из разноцветных лоскутков. Оно до того рваное, что однажды Катя едва не удушилась, запутавшись в нем. Одеяло досталось мне от покойных родителей.
Стена избушки оклеена старыми газетами и плакатами. По плакатам я учусь читать. На одном нарисован мужик с лукошком – горстью разбрасывает семена. Внизу крупные зеленые буквы – призыв подписываться на заем. Иннокентий хранит в большом пустом сундуке вместе со свечками и мешочками с солью одну-единственную облигацию. Я уже знаю, что на эту бледно-зеленую бумажку можно выиграть целых сто рублей. А за сто рублей можно купить много пороху, дроби, соли, винчестер восемнадцатизарядный. С таким ружьем смело можно ходить на медведя. Выиграть эти сто рублей было заветной мечтой Иннокентия. По вечерам мы сидели у гудящей печки, глаза Иннокентия теплели, и он гадал, что купит на выигранные сто рублей. Мне – синий суконный картуз со светлым козырьком, голубую гарусную рубаху, а если хватит денег, то еще и тальянку (любит Иннокентий музыку!). Кате – два платья: розовое и зеленое, мониста, настоящие катанки. Обоим связку кренделей. Несбыточные мечты!.. Как-то по чугунке ездил Иннокентий в город, вернулся, привез нам два кренделя. Нежно-золотой, пряно пахнущий крендель… С тех лор, когда очень хотелось есть, перед глазами вставал этот крендель.
– Хепца… – опять пищит Катя.
Я готов зареветь от ее надоедливого пищания.
– Замолчи ты, постылая! – говорю я. – Если будешь канючить – услышит шишига и съест нас обоих.
Испуганная девочка притихает. Я сам побаиваюсь этой неведомой шишиги, которая забирает маленьких детей. Шишига скрывается и в темном углу, и за сундуком, бродит по сугробам вокруг избушки.
С другого порыжелого плаката в упор смотрит красноармеец. На шлеме у него красная звезда. У красноармейца сердитое лицо. Указательный палец направлен прямо на меня. Я не боюсь гневного взгляда красноармейца. Таким был мой батя. В гражданскую он вместе с Иннокентием служил у знаменитого партизана Щетинкина.
– Лют был твой родитель, упокойник, на расправу с белыми бандитами, – рассказывал Иннокентий. – Вот они опосля и припомнили ему: пихтой-то и придавили. Недаром Васька Кондырь, холуй семеновский, после того случая с лесоразработок скрылся…
…А сколько бывало веселья, когда начинался сезон белковья! Со всех сторон к нашей заимке сходились бородатые люди с ружьями и лайками. До света поднимались артельщики с немудреной постели из зеленых ветвей молодых елок. Один шел за водой к ближайшему ключу или озеру, другой подбрасывал в костер сушняк. За завтраком, приготовленным Катей, обсуждали, кому и куда идти, а потом разбредались в разные стороны.
Иннокентий сызмальства приучал меня к своему делу. Вот залаяла собака. Иннокентий подходит к старому кедру, обросшему, как бородой, густым мохом. Собака яростно лает. Значит, белка есть! Но нужен опытный, зоркий глаз охотника, чтобы отыскать ее в непроглядных ветвях. Иннокентий стучит обухом топора по стволу дерева. Вспугнутая белка меняет место. А я только и жду этого момента. Быстро воткнув в снег сошки и положив на них ружье, стреляю. Белка катится вниз, но на снег не падает: она застряла где-то на могучих лапах кедра. Иннокентий длинным шестом отыскивает зверька. Сизо-серая тушка падает на сугроб. Охотник ловко обрезает большим ножом зверьку лапки и бросает их лайке. И снова заливается собака, зовет на крутой гребень. К вечеру с богатой добычей возвращаемся мы к костру.
– Молодец! – хвалит Иннокентий. – Хорошо бил – в глаз, шкурок не попортил. Вырастешь, настоящим охотником станешь. Густо валит зверь в нонешнем году…
После удачливого сезона артельщики бражничали. Неизвестно откуда появлялась голосистая тальянка. Рябой артельщик Ерема со страшными, налитыми кровью глазами заводил гармонь на полный голос. Гудела тайга от частого перебора с переливами, со звонками, с подсвистом. Потом усаживались у чадного костра и пели могучие сибирские песни про Ермака, про славное море Байкал. Песни будоражили. В песнях наш сумной край выглядел сказочным. Где-то в тайге была зарыта ладья Ермака, полная доверху серебра…
У тех же чадных костров рассказывали истории. Удивительные истории-были и о повадках зверя, и о золоте, и о таинственных убийствах, о гражданской войне и партизанах. Таежные были до того запали в голову, что потом, много лет спустя, я почти дословно мог рассказать каждую. Это пригодилось, когда писал свою первую книгу.
…Кате исполнилось семь лет, и мы теперь уже вместе бегали на лыжах в школу, на полустанок. Мимо окон школы проносились поезда. Они выныривали из хвойной глубины, мелькали зеркальные окна, стучали колеса, а я мысленно уносился с этими поездами в незнакомые дали. Книги сделались страстью более сильной, чем охота и любовь к скитаниям. Я забирался в самые глухие места и читал, читал… Стихи поразили, как чудо. Слова были непонятные, но красивые. Никто из моих знакомых не говорил так:
Еще звенит в душе осколок
Былых и будущих времен…
Теперь я пытаюсь припомнить, с чего же все началось. Может быть, оно началось еще тогда, когда у чадных костров я жадно слушал необыкновенные истории и раздольные песни? А возможно, это случилось позже, когда захотелось рассказать о своей жизни так же красиво, как пишут в книжках.
Один известный писатель утверждает, что стремление к творчеству возникает в человеке как душевное состояние гораздо раньше, чем он начинает исписывать стопы бумаги. Возникает еще в юности, а может быть, и в детстве. А все потому, что в юности восприятие мира более острое, свежее, непосредственное. Юноша, дескать, ближе стоит к природе. Поэтическое восприятие жизни – величайший дар, доставшийся нам от детства.
Если человек не растеряет этот дар на протяжении долгих трезвых лет, то он поэт или писатель.
Величайший дар… Не знаю, возможно, в подобном объяснении и кроется зерно истины. А может быть, все гораздо сложнее, гораздо сложнее…
Да, в школьные годы я писал стихи, исписал четыре тетради. Потом охладел к этому занятию. Стихи писали и другие, и у них получалось не хуже, чем у меня. А к тому времени наша немая, безлюдная тайга стала оживать. Сперва появились неизвестные в городской одежде, в кожанках, в комбинезонах. Они были без накомарников. Привезли с собой диковинные инструменты. С платформ отгрузили автомашины и экскаваторы. Стали вырубать просеку от полустанка и чуть ли не до Кондуй-озера. Вскоре мы узнали: в наших местах будет рудник, станут добывать железную руду. Звенели электропилы, падали кедры и лиственницы. Бульдозеры срезали бугры. Там, где мы совсем недавно охотились, теперь день и ночь гремели взрывы. Мои сверстники, закончив семилетку, почти все ушли на стройку. Для каждого нашлось дело. Из артельщиков первым появился на строительстве рябой Ерема. За ним потянулись другие. Но людей все же не хватало. Иннокентий остался в своей избушке. Он все чаще и чаще жаловался на ломоту в пояснице, а весной, простудившись, тяжело занемог.
Костлявый, заросший лежал он на сундуке, и порой мне казалось, что смерть подошла к нему вплотную. Осенняя мокрядь держала дичину по сохранным местам, крупный зверь откочевал куда-то. Мы с Катей приходили почти каждый раз с пустыми руками, вымокшие, иззябшие и голодные.
Все же удалось закончить семь классов. А потом я ушел на рудник. В свои четырнадцать лет я был на редкость рослым и плечистым. Устроился землекопом. К лету Иннокентий встал на ноги.
– Поезжай в Читу, сдавай в техникум, – сказал он мне. – В ученые люди выбиваться надо, из темноты нашей вылезать. А мы с Катькой продержимся…
Но я не поехал: нужно было кормить семью. Иннокентий хоть и хорохорился, но был еще слаб. Катя училась в школе. Иннокентий привык к моему послушанию, и мы впервые крепко поссорились. Мне нравилась специальность экскаваторщика. А тут организовали курсы. На курсы сразу не приняли: не подходил по возрасту. Но позже я все-таки добился своего и стал машинистом.
…Весть о войне всколыхнула тайгу, нарушила наш уже ставший привычным уклад. Все реже теперь ухали взрывы, останавливались один за другим бульдозеры и экскаваторы: люди уходили на фронт. Мимо нашего полустанка проходили эшелоны с солдатами. На платформах стояли пушки, прикрытые брезентом. У столба с громкоговорителем по утрам и вечерам толпились рабочие – слушали сводки. Сперва думалось: жизнь на руднике постепенно замрет. Руда, железо… Но когда еще достанут ее, эту руду?.. А фронту нужны бойцы. И мне, прирожденному охотнику, казалось, что сейчас мое место там. Я мог бы быть снайпером. А нас держали здесь… Однако стоило лишь заговорить об этом с Иваном Матвеевичем, как он сердито отчитал меня:
– Эх ты, Аника-воин! По выработке в хвосте плетешься, а у нас тут свои траншеи… Вот если из-за таких работничков, как ты, не сдадим в срок капитальную траншею, будет с нами крутой разговор. Сейчас всюду военные порядки…
…В те грозовые годы было не до стихов, не до сочинительства. И все же подсознательно что-то жило во мне. Я тянулся к книгам. Те, что пишут книги, представлялись недосягаемо далекими, людьми особой породы. Разумеется, тогда я даже не смел мечтать, что могу сравниться с ними, что мои думы, затаенные желания смогут зазвенеть в печатных строчках. Читал для себя, иногда пытался писать, но все выходило плохо, бледно. Я искал каких-то особых слов, придумывал невероятные истории, а вокруг бурлила жизнь, простая, суровая, которая, по моему разумению, была слишком прозаичной и скучной, чтобы писать о ней. Разве она могла сравниться с вымыслами Хаггарда, Стивенсона, Конан Дойла? Здесь строили рудник, жили в палатках и жевали кашу из фасолевого концентрата. Профессия экскаваторщика не была опоэтизирована ни в одной книге. Это был просто тяжелый, изнуряющий труд. Ближе всего мне был Джек Лондон. Но под натиском бульдозеров и путеукладчиков джек-лондоновские герои – приискатели, добытчики-хищники – уходили в глубь тайги.