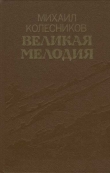Текст книги "Право выбора"
Автор книги: Михаил Колесников
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 33 страниц)
9
В бараке, куда нас недавно переселили из коттеджа, было большое оживление: суббота! У каждого нашелся приличный костюм, галстук. До блеска надраивали ботинки. Впервые я пожалел, что еще в Москве продал свой серый костюм. В свитере было жарко. Надел желтую футболку, погладил брюки, побрился. Поглядел в зеркало, остался доволен: лицо загорелое, кожа гладкая. Мешки под глазами пропали – свежий воздух сказывается!.. В Москве мне давали все сорок, а сейчас даже тридцати двух не дашь.
А в голове подспудно шевелилась мысль: может быть, встречу Катю… Да, мне хотелось снова встретить ее. Заговаривать не буду: еще вообразит, что навязываюсь, пользуясь тем, что были знакомы раньше. Нет, спокойно посмотрю и пойду дальше. Просто хочется убедиться: узнала или не узнала меня в тот раз? В конце концов, былое быльем поросло. Мы теперь совершенно чужие, и нам нет дела друг до друга. И неважно, что в семнадцать лет ее руки обвивали мою шею. Вряд ли она сейчас помнит все это. А березка с моими инициалами, вырезанными ее рукой, уже давно пошла на дрова. Просто любопытно через много лет вновь очутиться в знакомых местах, поглядеть на людей, которых знавал когда-то близко. Шумные города особенно меняют характер. Мне думается, что жизнь в городах намного сложнее, чем где бы то ни было, она требует железного здоровья, предельного напряжения всех сил ума, закаляет волю. Изо дня в день, из года в год студент высшего учебного заведения перегружает свою память фактами и фактиками, в течение пяти лет он прикован к столу, его лихорадит перед каждым зачетом, перед каждым экзаменом. Он почти не спит – некогда; посещение театров и музеев откладывает на будущее. Остается после института в Москве. Считает себя счастливчиком, если оставили, и тут снова попадает в плен бумажек и резолюций. А есть и такие: кладут все силы, чтобы остаться именно в столице, изворачиваются, пробивают дорогу с помощью дядюшек, папенек и добрых профессоров. Тут нужна воля, самоуничижение, дипломатия, гибкость. Всем нужно услужить, уметь изогнуться. Так мельчает человек, забывает, во имя чего все последние пять лет зубрил формулы, конспектировал тома, терпел лишения. Одним словом, железная воля, железный характер.
Мне нравится жизнь на руднике. Все, что представлялось в городе значительным, здесь как-то потеряло смысл. Не нужно любезно пожимать руки людям, к которым испытываешь антипатию; я обрел полную независимость, никому ничем не обязан. Здесь самое главное – это то, чтобы я хорошо делал свое дело, не был обузой. Здесь даже честолюбие приобретает совсем иные формы, постепенно превращается в самолюбие, в гордость за свою бригаду, за свой карьер.
Впрочем, все это философия. Важно, что снова вернулся ко всему интерес. Вот сейчас мы гурьбой отправимся в клуб слушать доклад столичного писателя. В Москве на такой доклад вряд ли удалось бы меня затащить: там это считалось бы напрасно потраченным временем. Что нам расскажет Трифон Камчадал, автор талантливой книги «Пылающие скалы»? Мог ли я предполагать, что все мои соседи по бараку проявят столь живой интерес к судьбам литературы?.. То, что это народ начитанный, можно было догадаться, послушав их рассуждения. Оказывается, экскаваторщик Волынкин знает много стихов Маяковского и Есенина, рабочий Ребров участвовал в любительской постановке пьесы Чехова «Дядя Ваня». Он даже разговаривает монологами. Впервые я узнал, что при нашем клубе существует литературный кружок.
И вот мы в рудничном Доме культуры. Вместительный зал набит до отказа. Ярко горела люстра. В проходах толкались празднично разодетые девушки и парни. Меня увидел Аркадий Андреевич, поманил пальцем. Работая локтями, протискался к нему, поздоровался с тетей Анютой. На ней было черное шелковое платье, на плечах цветной платок. Аркадий Андреевич то и дело расправлял лацкан темно-синего пиджака, подкручивал усы.
– Садись, места хватит, – пригласил он. Я уселся.
На сцене стоял стол, покрытый кумачом. За столом было пусто. Но вот появились люди. Сердце мое радостно дрогнуло: начальник рудника Иван Матвеевич Кочергин, чуть склонив седую голову, на ходу о чем-то переговаривался с высокой женщиной в строгом голубовато-сером костюме, – это была Катя Ярцева. За ними следовали другие. Привычно, без суеты уселись за стол. Катя едва приметным движением поправила пышные волосы, спокойно глянула в зал. Сейчас она казалась намного моложе, чем при первой нашей встрече. Не было сердитого, холодного выражения лица, начальственной складки губ. Красивая, очень женственная… Нежная белая блузка, черный бант у смуглой шеи… К ней наклонился толстяк с блестящей, будто натертый пятак, лысиной, что-то сказал, уселся рядом. Катя улыбнулась, и я увидел ее почти такой, какой она была много лет назад.
Я пытался встретиться с ней взглядом, однажды даже показалось, что она смотрит именно на меня, улыбается мне, но потом понял, что невозможно в людской массе разглядеть отдельные лица.
На сцену вышел сутуловатый мужчина в роговых очках, поднялся на кафедру, снял очки – и сразу значительность его лица исчезла. Подслеповато щурясь, обвел глазами полный зал, кашлянул. Гул постепенно стих.
Трифон Камчадал заговорил негромко, почти вплотную придвинулся к микрофону. Речь лилась естественно и непринужденно. По-видимому, писатель знал, как обращаться с многочисленной аудиторией. Иногда вынимал из карманов маленькие листочки и зачитывал цитаты. Рассказал о положении дел в московской писательской организации, осудил того, кто заслуживал осуждения, похвалил молодых, перечислил наиболее значительные произведения, вышедшие за последнее время.
– К сожалению, – говорил он, – наряду с высокохудожественными произведениями, проникнутыми глубокой любовью к народу и выдержанными в духе социалистического реализма, некоторыми московскими литераторами в нынешнем году были опубликованы идейно порочные, художественно слабые и ошибочные произведения, искаженно изображающие советскую жизнь и принижающие облик советского человека…
Все, что говорил Камчадал, было правильно, но я неожиданно поймал себя на том, что хочется зевнуть, подумал, что обо всем уже не раз читал в газетах. Камчадал не знал деталей, по-видимому, не имел своего четкого отношения к происходившему, торопился поскорее перейти к другим вопросам. Слушать его становилось просто скучно. Аркадий Андреевич, намаявшись за день, клевал носом. Тетя Аня сидела с широко раскрытыми глазами, ее круглое лицо не меняло выражения.
«В конце концов, писатель не эстрадный артист, чтобы веселить почтеннейшую публику…» – утешал я себя.
Голос Камчадала зазвучал более уверенно, когда он стал говорить о связи писателя с жизнью. Он не приводил себя в пример, но по всему выходило, что истинный писатель должен ехать на рудники, заводы, в колхозы, чтобы на месте изучать жизнь, путешествовать по родной стране. Ведь и Пушкин, и Лермонтов, Чехов, Гончаров, Горький, Маяковский не сидели на месте, а были великими очарованными странниками. Камчадал назвал несколько московских писателей. Один из них исходил за лето целую область, мок под дождями, жарился на солнце, заговаривал с прохожими и даже ночевал в колхозных избах. Другой устроился простым лесником и целое лето жил в лесу, не гнушался есть из одного котелка с простыми людьми и оставил по себе добрую память, – а был это довольно-таки известный писатель…
Да, да, писатель не должен отрываться от народа, его задача показывать жизнь такой, какова она есть. Кроме того, писатель должен вторгаться в жизнь.
Потом он читал отрывок из своей книги «Пылающие скалы». В огромном зале царила тишина, лица людей были серьезны: ведь большинство впервые слушало и видело настоящего писателя, приехавшего ради них из самой Москвы. Велика сила слова! Загрубелые экскаваторщики и бурильщики вздыхали, в глазах появлялось мечтательное выражение, остроты вызывали взрывы хохота. Затем снова наступала тишина.
Все шло, как говорится, чинно, благородно. Но неожиданно у дверей возник шум.
– Не пушшу, Сергей Ефремович!.. И не просите… – шипел на весь зал Сашка Мигунев, исполнявший обязанности контролера. – Не велено пушшать в таком виде…
Мигунев упирался руками в грудь рослого светловолосого человека в бежевом костюме. А тот, рослый, улыбался и легонько продвигался плечом вперед.
– Ну, ну, Сашок, посторонись, – говорил он добродушно. – Я в норме…
Я бросил взгляд на сцену и увидел, как нахмурился Кочергин, глаза его гневно сверкали. Катя была спокойна, по-прежнему на губах бродила легкая улыбка. Трифон Камчадал самозабвенно читал отрывок.
Шум у входа все усиливался. Аркадий Андреевич досадливо скривился:
– Опять, варначина, нажрался! Чтоб тебе лопнуть, дебошир треклятый..
– Кто это?
– Известно кто – Сережка Дементьев. Как нажрется, так начинает бузить. Прошлый раз с инженером Синицыным подрался: приревновал к Ярцевой. А что она ему, Сережке? Была жена, а теперь на порог не допускает. Прогнала в три шеи. И правильно сделала…
Аркадий Андреевич засопел, сердито шевельнул усами. А я стал следить за Дементьевым. Так, значит, это и есть тот самый Дементьев, которого на все лады расхваливал мне знатный машинист Паранин!
– Не пушшу! – надрывался Мигунев.
– Да иди ты к свиньям! – громко сказал Дементьев, отстранил контролера и шагнул в зал. Кто-то из рабочих уступил ему место. До конца выступления Камчадала Дементьев сидел смирно, и все успокоились. Но я успокоиться не мог. Неизвестно почему, меня неприятно взволновала новость, что Дементьев – муж Кати. Прогнала… Так ли это? И что вообще под всем этим кроется?.. Муж, муж… Она замужем…
И хотя в самом факте не было ничего необычного (почему бы Кате не быть замужней?), я ощущал непонятную горечь. А Катя по-прежнему с улыбкой смотрела в зал, такая близкая и такая бесконечно далекая. В детстве она носила серьги. Если бы вот сейчас подойти, наклониться, то можно было бы разглядеть в розовых мочках ушей маленькие дырочки. Впрочем, мне все равно, все равно…
Писатель захлопнул книжку. Рабочие бурно аплодировали.
– Прошу задавать вопросы, – сказал Камчадал. – Можно в устной и письменной форме.
Вопросов было много. Писатель, минуту поразмыслив, степенно на них отвечал.
Неожиданно поднялся Дементьев, по-ученически протянул руку:
– Разрешите?
Писатель кивнул головой. Зал притих. Аркадий Андреевич беспокойно заерзал на стуле, Кочергин подпер подбородок кулаком, с любопытством воззрился на Дементьева.
– Вот вы говорите, что писатель должен активно вмешиваться в жизнь… – начал Дементьев. – Двадцать лет назад я прочитал ваш роман «Пылающие скалы», и он произвел на меня большое впечатление. В нем есть романтика – то, что я люблю. Иногда молодой человек выбирает профессию под впечатлением хорошей книги. Я вам весьма обязан. Да. После я искал в библиотеках другие книги Камчадала. Но увы… Вот и хочется знать: что вы написали еще, кроме «Пылающих скал»? Ведь все-таки прошло двадцать лет!
Должно быть, Дементьев пустил отравленную стрелу, так как Трифон Камчадал быстро вынул платок и стал нервно протирать очки. Однако вскоре он справился с собой и ответил немного хриплым голосом:
– Вопрос законный. Но ответить на него затруднительно. По целому ряду обстоятельств я не мог написать еще что-либо. Правда, в газетах и журналах иногда появлялись мои статьи и очерки о живых людях. А вот сейчас я задумал писать большую вещь. От творческих планов до их осуществления, к сожалению, дистанция огромного размера. Нельзя требовать от писателя, чтобы он каждый год выдавал на-гора́ по роману. Как говорил Лев Толстой, писать нужно только тогда, когда не можешь не писать.
– Но ведь все-таки двадцать лет! – не унимался Дементьев. – Мы за более короткий срок построили рудник, и он каждый день выдает на-гора́ тысячи тонн руды. Тогда объясните, на какие средства вы жили все двадцать лет?
Это уже была бестактность. Кочергин налился кровью, расстегнул воротник рубашки. Только Катя была невозмутима, все так же чуть снисходительно улыбалась.
Камчадал помедлил с ответом, нацепил очки, произнес раздраженно:
– Вы, товарищ, разумеется, вправе требовать от нас отчета в творчестве. Но на какие средства я жил, думаю, вопрос сугубо личный и задерживать на нем внимание остальных товарищей нет смысла. Общеизвестно, что писатель издает свою книгу, совершенствует ее, переиздает, за что и получает вознаграждение. (Моя книга, например, выдержала сорок изданий.) Кроме того, писатель часто бывает в творческих командировках… Вас, по всей видимости, интересует не столько литература, сколько быт писателей. Но это особый разговор. Если располагаете временем, то заходите – потолкуем.
– Все ясно, – сказал Дементьев и сел.
Это был незначительный инцидент, но он произвел на всех неприятное впечатление. Что-то было оскорбительное во всем поведении Дементьева. Собственно говоря, кому какое дело, на какие средства живет писатель? Зачем ни за что ни про что обижать гостя? И этого грубияна, алкоголика любила Катя Ярцева!.. И как ловко отбрил его Трифон Камчадал…
И все же облик московского писателя после дурацкого вопроса Дементьева как-то потускнел. Писатель позволил допрашивать себя какому-то дебоширу и пьянице. Впечатление было такое, как будто вы повстречали на рынке Эмиля Золя с авоськой. Хорошее, приподнятое настроение, навеянное словами писателя, романтикой его книги, рассеялось. Лица сделались постными и злыми. Ведь сегодня все прикоснулись к чему-то необычному, приятно будоражившему, а Дементьев одной бестактной фразой разрушил все.
После кино я вышел из Дома культуры в дурном настроении. Ночь легла на тайгу прозрачная, синяя. Когда на луну набегало облачко, неясные тени скользили по склонам ближних сопок. Мохнатые сосны и лиственницы казались непомерно высокими. Мне захотелось остаться одному, и я простился с Аркадием Андреевичем и тетей Анютой.
Шел по просеке. На сердце была щемящая пустота. Почему-то на память пришли строки:
Мне,
чудотворцу всего, что празднично,
самому на праздник выйти не с кем…
Вернусь в свой барак, улягусь на койку, а завтра – снова то, что было и позавчера. Есть ли смысл в таком круговороте? Для меня лично? Другие чего-то ищут, добиваются, к чему-то стремятся. А я как щепка, подхваченная общим потоком. Я только и делаю, что убегаю от самого себя. Уехал из Москвы. Во имя чего? Решил навсегда остаться здесь. Но что ждет меня на руднике?. В чем смысл всего? Не потянет ли снова в город? Скорее в силу привычки, чем осмысленно, я вглядываюсь в окружающее, пытаюсь понять, чем живут мои новые друзья. И хотя здесь я всего-навсего рабочий, каких много, и внешне, по сути, ничем от них не отличаюсь, иногда все же горделивые мысли овладевают мной: я начинаю чувствовать себя посланцем странного племени писателей. И тогда пробуждается жгучий интерес ко всему. Я как бы заново, совсем по-другому начинаю видеть и Аркадия Андреевича, и Бакаева, и Паранина. Как разнятся один от другого эти люди! У каждого свои привычки, свой взгляд на вещи, даже говорят они по-разному. И все же угадывается нечто общее, связывающее всех. Иногда мне сдается, что литература и существует затем, чтобы разные народы разных стран воочию могли убеждаться, что в их стремлениях, мыслях, чувствах много общего. И никакая этнография не может лишить их этой общности. Вот так и на руднике. Нужно только уловить эту общность. Конфликты не только разъединяют людей, но и заставляют их вступать в тесные отношения, делают действующих лиц зависимыми друг от друга.
Почему не я говорил сегодня с трибуны? Прочитал бы отрывки из своих непризнанных книжек, порассуждал бы о путях литературы, и, может быть, Катя решила бы, что я человек необыкновенной судьбы. Разве я хуже этого Камчадала знаю, как раскачивается на ветру, словно маятник, осенний лист, как зарождается в сердце глубокое чувство любви, как сталкиваются характеры? Я мог бы рассказать о вещах, неведомых этому Камчадалу.
Как-то лет двадцать назад однажды на брезгу мы не смогли отбиться на стрежень и наш ветхий плот стало венчать по улову… Вот ведь иногда на каком языке говорят промеж себя сибиряки, и столичному ли писателю понять их?.. А я здесь свой. Я впитываю в себя каждое слово, брошенное мимоходом рудокопом. И это слово не выдумаешь нарочно, ибо оно рождено самой необходимостью.
Почему все же так трудно отрешиться от мелкого тщеславия? Когда рукоплескали Трифону Камчадалу, у меня в глубине души возникло чувство, которое можно было назвать завистью…
10
– Добрый вечер!
Я поднял глаза: рядом шла Катя. В лунном свете лицо ее казалось бледным, голубоватым. Она протянула руку, и я пожал тонкие, холодные пальцы. Оказывается, она не такая уж высокая: мне по плечо.
– Насилу догнала вас… Можно подумать, что вы умышленно избегаете встречи со мной.
– С чего вы взяли?
– А как прикажете расценивать ваше поведение: после многих лет возвращается домой, тихой сапой устраивается, работает и не кажет носа. Не бесстыдство ли? Ведь в свое время мы с вами были как брат и сестра…
Голос ласковый, мягкий. Сразу видно, что она рада этой встрече.
– Нет, я не избегал вас. Как бы объяснить это…
– Вы ждали приглашения?
– Нет. Мне просто показалось, что вы сильно изменились. Я не хотел навязываться. Былое быльем поросло. Тогда я обидел вас… Сильно обидел. А здесь произошли такие большие перемены… И в вашей жизни тоже. Вернулся домой… Вы же знаете, что у меня нет дома…
– Ну хорошо. Не будем об этом. Мы оба заслуживаем упрека. Ненужное, глупое кокетство между старыми друзьями. Лучше расскажите о себе, о Москве.
– Долго рассказывать. Да и ничего интересного.
– Удивительно! В Москве – и ничего интересного! Я никогда не бывала дальше Уральского хребта. А за хребтом целая Россия, совершенно незнакомая. Всю жизнь мечтаю съездить в Москву. Большой театр, Третьяковская галерея, метро… Это же страшно интересно!
– Вы правы. В первое время я мотался по музеям как угорелый. А за последние пять лет всего три раза был в театре.
– Как вам понравился Камчадал? О нем только и разговоров. Ведь вы тоже одно время занимались литературой! Помните рассказ в «Огоньке»? Все девушки на вас тогда заглядывались. Свой, рудничный писатель! Помню, журнал зачитали до дыр, дрались из-за него.
– То было юношеское увлечение. Как у многих… Я был глуп и самонадеян. «А был ли мальчик?..» Ведь рассказ, тот самый рассказ, о котором вы говорите, написал не я сам. Разумеется, я написал основу, взял интересные факты, а выправил, доработал его известный вам писатель, гостивший тогда на руднике. Он, по-видимому, искренне хотел помочь мне, но помощь не пошла впрок. Он переоценил мои возможности.
– Значит, вы больше не пишете?
– Нет. Я работаю помощником Бакаева в вашем карьере.
– Это я уже знаю. Так чем же вы все-таки занимались там, в Москве? Двенадцать лет – большой срок.
– Вы хотите спросить, на какие средства я жил?
Она смутилась. Именно в такой форме спрашивал Камчадала Дементьев. Помолчала, сказала холодно:
– А вы все такой же злой…
– Как дядя Иннокентий?
Она погрустнела:
– Разве не знаете? Впрочем… Отец умер в позапрошлом году. Перед смертью вспоминал вас…
Она, по-видимому, хотела добавить: «А вы за все время не прислали старику ни одного письма», – но не сказала этого и вновь замолчала.
Оба печальные, молчаливые, мы подошли к маленькому особняку.
– Здесь я живу, – сказала Катя. – Хотите, зайдем!
– А удобно ли?
Она пытливо посмотрела на меня:
– Отчего же? Разве есть что-нибудь предосудительное в том, что нас увидят вместе?
Я растерялся. Катя обезоруживала своей простотой, своей естественностью.
– Но вы, кажется, замужем?
– Кажется, замужем. Но какое это имеет значение? Мы не живем вместе, а если бы даже были вместе… Идемте! Будем пить чай.
Мы в самом деле пили чай в эту удивительную ночь. Обыкновенный сибирский чай… Я опорожнил пять чашек терпкой от настоя, приятной жидкости. Сидел, согретый чаем, и внимательно разглядывал убранство комнаты.
Сразу видно, хорошая хозяйка: всюду белоснежные салфеточки, вышивки, коврики. У стены удобная тахта. Постель, должно быть, за ширмой. На лакированном столике – большое зеркало с целым набором ящичков, фарфоровая ваза с лесными цветами, всякие безделушки, статуэтки. Полки с книгами. Рядом на толстом гвозде – старое двуствольное ружье Иннокентия.
Заметив, что я разглядываю ружье, она сказала с затаенной скорбью:
– Помните, у Чехова: ружье на стене… Но это никогда больше не выстрелит…
Я подошел, снял ружье, погладил, прислонился щекой к деревянной, отполированной руками охотника ложе. Да, я был слишком эгоистичен. Сейчас я отдал бы все, чтобы хоть как-нибудь отплатить тому угрюмому, но бесконечно доброму охотнику, что приютил тогда меня, сироту, не дал пропасть.
Я бережно повесил ружье, и неожиданно слезы потекли по щекам, и не было сил сдержать их. Подошла Катя, тихо сказала:
– Не надо…
Чтобы не смотреть ей в глаза, я стал перебирать книги. Здесь было много технической литературы. Но на одной из полок я нашел и Лермонтова, и Блока, Толстого, Голсуорси, Мамина-Сибиряка, Вячеслава Шишкова.
– Вы можете взять что-нибудь почитать…
Я выбрал томик Пьера Лоти, неизвестно какими судьбами очутившийся в домашней библиотечке.
– Да, это интересно, – одобрила она. – Совсем иная жизнь. Таити, Рараю… Экзотика!
– Вы любите Блока? – спросил я.
– Больше люблю Лермонтова. Но Блока тоже. Как это?..
И у светлого дома, тревожно,
Я остался вдвоем с темнотой.
Невозможное было возможно…
Но возможное – было мечтой…
Было за полночь. Я догадался, что пора уходить, и стал прощаться. Она проводила за порог, мы постояли еще немного на крыльце. Луна скрылась за облачко, и я не видел выражения лица Кати. Только звезды ярко горели над тайгой. Катя протянула руку, и я отметил, что пальцы сейчас у нее горячие. Блеснула глазами и ушла. А я побрел по улице. Вот и вышло все не так, как предполагал… Мне люди всегда кажутся жестче, сдержаннее, чем они есть на самом деле. Как брат и сестра… Моя роль уже определена…
Я остался вдвоем с темнотой…
Я не вернулся в эту ночь в свой барак. До зари было недалеко. Шел по молчаливой тайге и все не мог вздохнуть полной грудью. Когда цветет тайга, ночью бывает трудно дышать. Мне хотелось просто идти и идти, ни о чем не думать, но мысли приходили сами собой. Сегодняшняя встреча с Катей взбудоражила меня. Все, что, казалось бы, навсегда умерло, с необычайной ясностью воскресло, и я вновь был во власти прошлого.
В той минувшей жизни, какой она рисовалась мне двенадцать лет назад, не было тогда места простой таежной девушке Кате Ярцевой. А теперь в ее жизни, здесь на руднике, нет места мне. В Москве есть другая, с которой мы совсем недавно расстались. Сложная, мучительная история. Не стоит вспоминать… Сердце и без того переполнено горечью. С холодной рассудочностью еще там, в Москве, я решил, что, кто бы ни встретился на моем пути, я останусь независимым. Мне не нужно ни любви, ни ласки. Я испытал все. Хватит! На всю жизнь хватит воспоминаний.
А теперь вот увидел Катю… Сперва там, в забое, она показалась мне властной, холодной. Но вот мы остались вдвоем, и я узнал ее, ласковую, добрую, как тогда… Нет, видно, не так просто вытравить из памяти то, что было. Я иду по тайге, и слезы, теплые слезы застилают глаза. Если бы можно было вернуть прошлое, те солнечные таежные дни, когда ее руки обвивали мою шею. Мы уходим в незнаемые дали, ищем чего-то, а потом, помотавшись по белу свету, приплетаемся в родной угол. Вправе ли я претендовать на прежнее отношение с ее стороны? Да и вообще вправе ли я претендовать на что-либо?.. Красивая молодая женщина… По сути, свободная… Но это лишь внешнее. В ней есть что-то бесконечно притягательное, близкое мне, родное. Так ли уж она изменилась, как я подумал сперва? Может быть, еще осталось нечто где-то в глубине души? Ведь она любила меня, оберегала свою любовь…
Она ничего не забыла, нет, не забыла. Но сколько в ней сдержанного достоинства! Или все это я придумал сейчас? Я вспомнил каждое слово, сказанное ею, восстановил в памяти каждую мелочь.
Мои литературные занятия…
Я усмехнулся в темноте и сразу обрел покой. Ходьба успокоила нервы. Откровенно говоря, нет оснований быть так взвинченным. Ты слишком придаешь много значения обычным вещам, дорогой мой! И все-таки жизнь приобрела совсем иную окраску…
Все, что было и ушло безвозвратно, казалось сейчас очень сложным, но закономерным процессом. На первый взгляд все в жизни складывалось случайно. Но если вдуматься, если вдуматься… Если вдуматься как следует, то можно нащупать общую линию развития характера…
Линия развития характера… Да, наука пошла мне впрок: я научился выражаться заумно и витиевато.
А если разобраться как следует, то все последние годы мне не хватало вот этих сосновых цветов…
Цветы мои сосновые…