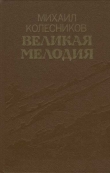Текст книги "Право выбора"
Автор книги: Михаил Колесников
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 33 страниц)
7
Ясные весенние дни. Каждый листочек просвечивается насквозь. За нашим домиком – непролазные заросли дикой смородины. Иногда пройдет по тайге безмолвный ветер, и потянет оттуда терпким ароматом. А выше – желтовато-красные колонны даурских лиственниц, поднимающих свои сизые кроны чуть ли не на сорок метров. Каждое утро я встаю в пять часов, брожу по лесу, наполненному птичьим гомоном, прислушиваюсь к шорохам, трещанию кедровок. Капает вода с веточек бересклета. И сколько росистого сверкания вокруг, сколько света! Можно плестись вдоль ручья, прыгать с валуна на валун; можно забраться в угрюмый кедрач и слушать торжественную тишину.
А однажды мы обнаружили совсем неподалеку от нашего дома следы: ночью к человечьему жилью приходил сохатый. Тайга, тайга… Лесосеки, лиловый пламень багульника, сияющие натеки смолы на серебристой коре кедров. Но главное, конечно, наш рудник Солнечный. Еще вчера Бакаев пообещал:
– Примем смену – сядешь заместо меня.
До утра я лежал с открытыми глазами, пытался представить, как все произойдет. Прошла уже неделя, и я постепенно освоился с новым положением. Появились заботы: нужно чистить, обтирать, промывать машины, смотреть, чтобы на коллекторы генераторов не попадала смазка, шлифовать их стеклянной бумагой, подтягивать болты и гайки, щупать подшипники. Несложная, спокойная работа.
И вот Бакаев решился посадить меня за рычаги, оставить в кабине одного. В восемь часов приняли смену, проверили смазку узлов, осмотрели ковш и тросы.
В забое остановился состав.
– Ну, давай! – сказал Бакаев.
Для него это было обычное дело. Он стоял в стороне со скучающим видом, засунув руки в карманы комбинезона, дымил папироской. Коричневые глаза глядели сонно, щурились от утреннего солнца. И только Юра Ларенцов, по-видимому, понимал мое состояние – помахал кепкой, крикнул:
– Ни пуха ни пера!
Я улыбнулся немного растерянно и, подавляя внутреннюю дрожь, поднялся в кабину. Сейчас Бакаева рядом не было, он во всем полагался на меня. Это было испытание, проверка того, чему я научился за неделю.
Пальцы непроизвольно немели, оторопь мешала сосредоточиться. Только бы не спутать правое и левое!
Когда ладони легли на рукоятки, а ноги нащупали педали, я неожиданно успокоился. Плавно, почти флегматично подал правую рукоятку на себя – ковш поднялся. Остальное пошло почти механически: подавал рукоятки то от себя, то на себя, нажимал то на левую педаль, то на правую, и огромная машина, послушная моей воле, поворачивалась то влево, то вправо.
Экскаватор врезался стальными челюстями в мясисто-красный навал, ковш закрывался, массивная сварная рукоять поднималась, стрела стремительно неслась вправо, ковш повисал над думпкаром. Стараясь, как советовал Бакаев, совмещать работу подъемом и напором при подаче ковша на выгрузку и при опускании в забой с поворотом, я дважды ударил ковшом о борт вагона. В кабину влетел разъяренный машинист, погрозил мосластым кулаком.
Постепенно я приспособился, забыл, что от сегодняшнего испытания зависит многое. Вернулось то, что считал навсегда утраченным: оказывается, я не забыл ничего. Вернулась прежняя злость в работе, точность движений, зоркость глаза. Будто с той поры и не было иной жизни, будто все двенадцать лет я и не вылезал из кабины экскаватора! Черт возьми!.. Мы еще можем… Мы можем. И не хуже других. Недаром наша трудовая слава тогда шла по руднику…
Это было упоение, сознание своей силы. Я знал и такое, чего не мог знать Бакаев: ведь тогда нам приходилось работать на менее совершенных машинах, и те машины требовали от нас большего навыка, большей изворотливости. Теперь все пригодилось.
Поверив в свои возможности, я даже стал стремиться сэкономить одну-две секунды в каждом цикле, как делал некогда; во время копания мысленно намечал место остановки поворота в забой и точку опускания ковша в следующем цикле. Не знаю, как все это выглядело со стороны, но я был доволен. И далее не поверил, что последний думпкар загружен. Вот состав тронулся, его заволокло пылью.
Разгоряченный спрыгнул на землю, кинулся к Бакаеву – и застыл на месте: машинист стоял в кругу людей, на которых были форменные фуражки горняков и черные кителя. Значит, пока я загружал состав, в наш забой пожаловало начальство! Из всех я знал в лицо только нашего горного мастера Аркадия Андреевича и участкового техника Зубкова.
Высокая женщина с туго закрученной косой разговаривала с Бакаевым. Я не видел ее лица, видел только спину, тонкую талию, которую не портил даже форменный китель. Фуражка сидела на голове как-то неестественно прямо. Белоснежный воротничок плотно охватывал смуглую шею. Неизвестно отчего, я вдруг заволновался. Что-то бесконечно знакомое было во всей ее фигуре. А может быть, просто мелькнула догадка: Катя…
По-видимому, она ощутила на себе мой взгляд, обернулась. Глаза наши встретились. Это была Катя Ярцева, но совсем другая Катя Ярцева, не такая, какой я ее знавал. Не было больше тоненькой девчонки с припухшими губами, округлым лицом и тем особым наивным выражением широко раскрытых глаз, какое бывает лишь в семнадцать лет. Передо мною стояла рослая, статная женщина в полном расцвете красоты, румяная, как все сибирячки, пышущая здоровьем. Незнакомый сердитый изгиб тонких бровей, холодный, но спокойный взгляд больших серых глаз и твердая складка у губ. Волевое лицо, недоступное, строгое. А лоб высокий и белый.
Она вопросительно подняла бровь, но выражение лица не изменилось, отвернулась, сказала:
– Так учтите все замечания, товарищ Бакаев. И про Паранина не забудьте.
И уже обращаясь к сопровождающим:
– Идемте, товарищи, дальше.
Они направились в другой забой, а я стоял и смотрел им вслед. Вывел меня из оцепенения Бакаев.
– Видал миндал! – сказал он. – У бабы глаз как ватерпас: неправильно выбрали место стоянки, да и машина завалилась на правый бок. Выдала она мне! Тьфу… Стоял навытяжку, как Швейк, а она отчитывала. Век живи – век учись. Все высказала: и простаиваем много, и негабаритные куски берем на зубья, и транспорт задерживаем, н опыт других бригад не используем. За сменную выработку влетело. Мотаешься, трешь затылок, а выходит – дурак дураком. Ишь куда махнула: советует с Параниным потягаться! С таким темпом, как у Паранина, все кишочки надорвешь. Работаем-то сдельно – сколько могу, столько выдаю: ей какая забота? Норму-то выполняем, в хвосте у других не плетемся.
– А машина в самом деле неправильно установлена: перекос, да и угол поворота большой.
– Сам не слепой, вижу! – вскипятился он. – А где ты раньше был, умник этакий? После драки все горазды руками махать. С такими помощничками дашь две нормы…
Самолюбие экскаваторщика было уязвлено: он готов был винить в наших неуспехах всех подряд. Оказывается, остальные две смены не выполняют график смазки, а железнодорожники подают составы с опозданием. Особенно досталось машинистам буровых станков и взрывникам, которые создают запас взорванной породы в забое. А высота и ширина навала такая, что вообще стоило бы всыпать кому следует.
В конце концов мы решили изменить место установки экскаватора.
Рассвирепевший Бакаев собрал бригаду и долго доказывал, что все мы лодыри и недотепы. Это было бурное собрание. Наш бригадир накалялся все больше и больше. Осадил его Юра Ларенцов.
– Мы свои обязанности выполняем честно, – сказал он, гневно сверкая глазами, – а вы нас считаете за мальчиков на побегушках. Я, может быть, мечтаю о повышении квалификации, а вам на все наплевать: меня к машине близко не подпускаете, все считаете молокососом. Мы здесь не для того, чтобы рубли зашибать. Для меня лично рубли никакого значения не имеют, я хочу специальность приобрести. С десятилеткой я мог бы и в Ленинграде остаться. Рвался на целину, а послали сюда. А чему тут за полгода научился? На курсы машинистов все только обещают послать, а не посылают. В других бригадах вон сами слесарей-ремонтников и электриков готовят. У нас сдал смену – и проваливай! Какие-то джек-лондоновские порядки…
Юра говорил горячо, резко, бесстрашно бросал в лицо бригадиру горькую правду. Отставание нашей смены он объяснял тем, что люди не видят перед собой конкретной цели, а бригадир работает с холодком и ничего, кроме условий хозрасчетного договора, знать не хочет. Сменный электромонтер, который присутствовал тут же, обвинил Бакаева даже в том, что бригадир сам не хочет учиться, хотя плохо разбирается в электротехнике, не учит других, не читает газет и книг.
Это стихийно возникшее собрание заставило меня кое о чем задуматься. Мне казалось, что у нас все идет гладко: норму-то выполняем! Кто бы мог предполагать, что в нашем маленьком коллективе кипят подспудно страсти! А всегда веселого, насмешливого Ларенцова я прямо-таки не узнавал.
Да и сам Бакаев предстал передо мной в несколько ином свете. Эти скромные на вид парнишки в комбинезонах разбирались кое в чем… Даже угрюмый сургучно-красный Ерофей ни с того ни с сего вдруг заговорил. Правда, он выдавил из себя всего лишь одно слово: «Маета…» – и покраснел еще больше. Что с ними со всеми случилось сегодня?
Бакаев сидел, широко расставив ноги, сопел, молчал, и трудно было разгадать, что там за его упрямым лбом. Когда упомянули о газетах, он не выдержал, прервал говорившего:
– Хватит всех собак вешать! Заскочила шлея под хвост. Наговорили тут с три короба. Конкретная цель… Если вы все такие шибко грамотные, то вот и давайте раскинем умом, как нам бригаду Паранина перекрыть. Конечно, выдавать каждую смену столько, сколько они выдают, оно, може, и многовато. А там чем черт не шутит! Другие же выдают!.. Обмозговать все нужно, а не так – шаляй-валяй, на ура. По договору зря проехались: есть там такая статья насчет повышения производительности. Ладно, потом дотолкуем: состав подали!
До конца смены я работал на экскаваторе. Бакаев не вмешивался. Он был хмур и задумчив. Когда я, порядком измочаленный, но радостно возбужденный, соскочил на землю, он только сказал:
– Поразмялся малость, и то дело.
За всю дорогу не проронил ни слова. Вечером писал письмо жене огрызком карандаша. На Юрку поглядывал исподлобья, не задирал, не читал нравоучений.
Ларенцов, подперев щеки ладонями, читал какую-то книгу. Я лежал на кровати, наблюдая за обоими. Нынешний день особенно был насыщен событиями, и следовало поразмыслить. Все казалось простым и понятным только спервоначала. Теперь я стал узнавать людей ближе. О чем сейчас думает Бакаев, что пишет своей жене? Семейный человек… Семья где-то за тридевять земель, а он здесь. Две дочурки, которых он, по-видимому, любит. Вот он уперся взглядом в стену, чуть приоткрыл рот, погрыз карандаш и снова застрочил. Что его заставило приехать сюда? Неужели только «длинный рубль»? А как он сердито сопел, когда его отчитывали рабочие! По-видимому, подобные стычки бывали и раньше. Но сегодня что-то особенно задело всех. Что?..
– Проклятая баба, – неожиданно громко произнес Бакаев, словно отвечая на мои мысли, и швырнул карандаш. – Как появится на участке, обязательно смуту внесет. Ведь норму-то выполняем. Какого еще черта? Нигде покою нет. А вы тоже хороши – как с цепи сорвались! Ну погодите, зажму вас, стервецов! Кровавыми слезами плакать будете…
Юрка молчит. Молодой, задиристый петушок. Он хочет быть независимым и обо всем имеет свое суждение. Что-то упомянул о Ленинграде, о целине. Закончил десятилетку. И каким ветром занесло его в таежные края? Милый, хороший мальчик… Наверное, скучает о маме, об уюте большой городской квартиры, обо всем том, что осталось далеко-далеко. Но характер есть характер…
Ночью я опять спал плохо. Временами мерещилось, что сижу за рукоятками экскаватора. Металась перед глазами стрела. Дрожала красная пыль. Я нажимал и нажимал педали. А потом внезапно возникла из мглы высокая фигура женщины в форменном кителе и фуражке. Женщина оборачивалась, серые с синеватым отливом глаза в упор останавливались на мне. Тонкая, вопросительно поднятая бровь, едва приметное движение лицевых мускулов… Узнала ли она меня?..
Еще с первых дней я внутренне был подготовлен к нашей встрече. Я никогда по-настоящему не любил Катю и даже в Москве вспоминал о ней редко. Я больше вспоминал пахучие сосновые ветки и мерный шум тайги. Так почему короткая встреча взволновала меня больше, чем можно было предполагать?.. Нет, не далекой юностью повеяло на меня. От прежней Кати почти ничего не осталось в этой высокой женщине. Может быть, меня поразили перемены, происшедшие в ней? Мы не подошли друг к другу, не пожали руки. Просто, естественно, как делают давние знакомые. Ведь сейчас можно и не вспоминать старые обиды. Годы, годы… Они совсем изменили нас. А возможно, она постеснялась или, вернее, не захотела в присутствии официальных лиц подойти, заговорить. Я же не мог подойти к ней. И здесь глупые условности мешали быть самим собой. А скорее всего, ей нет никакого дела до меня. За последние годы перед ее глазами прошли тысячи людей, интерес к ним постепенно угас, она очерствела, стала равнодушной к отдельным судьбам. Ведь ей приходилось заботиться об огромном коллективе, думать о хозяйстве целого предприятия, о технике, о производительности и других вещах, которые в конце концов вытравляют сердечность, заставляют быть холодным, рассудительным, официальным.
И все же хотелось верить, что она просто не узнала меня. Я испытывал непонятную горечь. Ведь все-таки это была Катя. Катя, с которой мы еще детьми спали на овчине, бегали по лесу, собирали игрушечные лиственничные шишки. Неужели только во мне до сих пор живет все это?
И когда я забылся тяжелым сном, мне привиделась прозрачная березовая роща, пронизанная весенним солнцем, и Катя, такая, какой я знал ее двенадцать лет назад…
8
На рудник Солнечный приехал писатель. Раньше здесь бывали артисты из Читы и даже из Иркутска, заглядывали областные поэты, наведывались пропагандисты – читали лекции о строении вселенной и об атомной энергии. Но приезд настоящего писателя из самой Москвы – событие из ряда вон выходящее! В забоях только и говорили об этом. На всех заборах и досках объявлений появились афиши, извещающие, что в субботу московский писатель Трифон Камчадал сделает доклад о состоянии и задачах современной литературы.
– Никогда еще не видал живого писателя, – сознался Бакаев и спросил у Юрки: – А какие книжки он написал?
– Что-нибудь да написал, – ответил Ларенцов уклончиво. – Читал, но что, не припомню. Вот, может, он знает, – Юрий указал на меня. – Тоже ведь из Москвы.
Мне хотелось «утереть» всем им нос, но сколько ни напрягал я память, так и не смог вспомнить ни одного названия произведений писателя Камчадала.
– Эх вы, темнота! – пристыдил нас рабочий Недопекин. – «Пылающие скалы» – толковая книжка. Еще когда в семилетке учился, читал. Про Камчатку. Ну, про любовь, конечно. Там такой ученый и Нонна. Здорово описал!
Уличенные в невежестве, мы прикусили языки. Про Камчатку… Камчадал… Наверное, псевдоним. За псевдонимом всегда скрывается что-то таинственное. Сразу видно, что настоящий писатель, – с псевдонимом!
– А если возьмет да про нас и напишет! – сказал Ерофей Паутов. – Ну, не про наш забой, а вообще…
– Ты бы, Паутов, хотя бы комбинезон сменил: латка на латке, а на самом ответственном месте дырка, потроха видно, – рассмеялся Бакаев. – А то занесут его черти в наш забой, глянет на тебя – опишет, а мне потом выговор влепят за твою мотню. Скажут: не провел разъяснительную работу. Да и вообще всем почиститься нужно, а то рыла ржавчиной покрылись.
Все были приятно взбудоражены, и даже смурый Бакаев шутил.
В самом деле, чем черт не шутит: заглянет столичный писатель на нашу площадку, начнет задавать замысловатые вопросы да все в книжечку записывать. А что он там пишет, кто его знает? Похвастать нашей бригаде пока нечем. Все вроде идет как и у других, и машинист как будто опытный, а на поверку ерунда выходит.
– Наведался бы ты к Паранину, поспрошал, как они умудряются по две нормы выдавать, – сказал мне Бакаев с некоторым смущением. Бригадир уже уверовал в мою сообразительность и, по-видимому, решил, что я смогу подсмотреть кое-что у передового машиниста.
Учиться никогда не зазорно, и я поплелся на другой конец уступа, где находились паранинцы.
Паранинцы встретили меня сдержанно. Состав только что ушел, и бригада устроила перекур. Сам Паранин, здоровенный мужик с шишкой на лбу и колючими ехидными глазками, прячущимися в морщинистых веках, молча указал мне место рядом с собой. Я уселся на ноздреватую бурую глыбу.
– Вы что, теперь в другую смену работаете? – спросил он язвительно, и глазки совсем скрылись в морщинистых веках.
– Да нет, зашел просто так. Познакомиться, посмотреть, как работаете.
Он хмыкнул:
– Заместо ревизора, выходит? Посмотреть, как работаем… Ну, смотри, смотри. Эй, Микола, угости соседа самосадом! – крикнул он своему помощнику. – У них сейчас бригада знакомиться разбрелась. Ну, Бакаев откалывает номера! Тут дохнуть некогда, а он гостей насылает.
Рабочие рассмеялись.
– Поучиться я пришел, Лука Петрович. Не ладится у нас.
Машинист посерьезнел, сдвинул брови:
– Тогда другое дело. А то, вижу, шляется человек, а чего шляется он в рабочее время, невдомек. Наука у нас нехитрая. Вот подкатит состав – гляди, подмечай. Чем богаты, тем и рады… Теории тут немного, а все больше практика…
Я видел фотографию Паранина на Доске почета. И там он выглядел не так, как в жизни. С фотографии смотрело окаменевшее лицо. Создавалось такое впечатление, будто воротник рубашки жмет Луке Петровичу шею. На самом же деле у Паранина были очень подвижные мускулы щек, голову в плечи он не вбирал, как то запечатлелось на фотографии. Вскоре я убедился, что он весьма умный собеседник и не такой уж ехидный, каким его все считали. Он сразу же понял, что мне нужно. Говорил неторопливо, с расстановкой. По-видимому, и раньше к нему обращались за советом. Рабочие расположились полукругом и тоже прислушивались к нашему разговору.
– Вот ты, голова, посуди, – поучал Паранин густым хриповатым голосом, – как могу научить тебя уму-разуму, если мои секреты всем давно известны, да и сам небось слыхал. Загвоздка вот в чем (объяснил этот фокус не я сам, а ученый человек, Сергей Ефремович Дементьев): оказывается, при черпании грунта я совмещаю до девяноста процентов операций, тогда как другие машинисты совмещают всего семьдесят, а то и того меньше. Смотришь на такого со стороны: как будто ловко работает, а в результате – пшик! Тут скопидомом нужно быть: каждую секундочку учитывать. Секунда вроде ерунда. А так по секундочке, по секундочке, глядишь, и час выиграл. Вот, скажем, машинист за час выполняет сто двадцать циклов. Попробуй сэкономь на каждом цикле по секунде! За сутки экскаватор сто двадцать кубометров лишних выдаст.
Дальше пошел разговор о десятых долях секунды при переключениях. Да, у хитрого чалдона Луки все было учтено. Оказывается, его бригада не тратила времени попусту даже в перерывах в подаче транспорта: разрабатывала удаленные от места погрузки участки забоя, укладывала руду поближе к железнодорожной ветке. Разработку забоя они вели короткими передвижками, не более трех десятых длины хода рукояти. Это исключало работу на больших вылетах ковша, когда бесполезно теряется большая часть подъемного усилия. Он так и сыпал, так и сыпал цифрами. У меня даже голова кругом пошла.
– Опять же учитывай время поворота платформы, – говорил Лука Петрович, – оно составляет ни много ни мало шестьдесят процентов продолжительности всего цикла. Это тоже объяснил Сергей Ефремович – с хронометром все выверял. С умом человек, ничего не скажешь. Ковыряешься тут, вроде и дела до тебя никому нет. А в прошлом году понаехало на наш рудник всякого люду ученого тьма-тьмущая, а с ними и Сергей Ефремович. Нагрянули к нам в забой, что тут было! И на кино снимали. Не нас, конечно, а как черпаем и весь процесс. Скоростная съемка. А еще такие приборы установили – осциллографы – без обеда не выговоришь! – значит, записывали работу электродвигателей. Ну, само собой, техническое состояние проверили. Из самого филиала Академии наук! Это тоже понимать нужно. Сергей Ефремович Дементьев, он нашенский, с Солнечного. Начальником карьера был. Потом решил по научной части пойти: уехал в тот самый филиал аж на самый Урал. Всего два года там был. А как вернулся обратно на Солнечный с экспедицией, посмотрел на все и говорит: останусь здесь – опостылела та ученая служба, хочу на своем руднике остаться. И остался. Добился-таки своего. А потом что-то не поладил с начальством. Замордовали его, должность маленькую дали. Ну, запил, конечно, с горя человек. А ведь каков! Не уехал… Мог бы опять в науку податься, а не уехал. Здесь, говорит, мое настоящее место…
Паранин совсем забыл о цели моего посещения, все сокрушался, что понизили в должности ни за что ни про что некоего Дементьева, у которого «котелок варит» не хуже, а то и лучше, чем у самого Кочергина. О Дементьеве говорил с любовью, даже с некоторым восторгом, словно о каком-нибудь былинном герое.
– А забота о нашем брате при нем была не то что теперь. Сергей Ефремович, он человек душевный. Он не то что каждого рабочего в лицо знал, а и всех их детишек. Ежели беда какая – не пройдет мимо. И не пустомеля. Пообещал – расшибется, а сполнит. Возьмем, к примеру, квартиры: хоть и не его дело, а и тут постарался – век ему обязаны! Чистый депутат от нас перед начальством, за каждого заступался. Зато ему и наше уважение и почет. Не делил на своих и чужих – все к нему шли, как к отцу родному, за всех старался. А культура, культура! С каждым за ручку поздоровается, о делах справится, житьишком поинтересуется. Бывало, встретимся, а он: «Ну как, Петрович? Говорят, сына в армию отправил? И то добро! Вернется молодцом, в институт пошлем: тут уж на меня можешь положиться. Зайди вечерком: выполнил твой заказ – привез из города набор лесок. А то в Россошинскую падь с ружьишками давай махнем, заприметил там копалух…» Каков, а? А что я ему? Ни родня, ни кум, ни сват.
Отведя душу, машинист наконец спохватился:
– Однако заболтался тут с тобой, ребята уж заскучали!
Поднялся и направился к экскаватору.
Я наблюдал, как он работает. Если раньше я считал Бакаева мастером своего дела, то теперь понял, что наш машинист не годится Паранину и в подметки. Подъем и поворот стрелы Паранин производил одновременно. Совершенно немыслимо было разбить цикл на отдельные операции – это был плавный, но стремительный полет: только что зубастый ковш с грохотом вгрызался в породу – какие-то мгновения, мелькнула перед глазами стрела туда-обратно, – и вновь ковш, лязгая, захватывает красные неровные куски. Машинист словно играл могучей машиной, делал с ней, что хотел, пробовал на ней ловкость, заставлял подчиняться малейшему движению своих чутких, проворных пальцев. Мне почему-то вспомнился Большой театр. Балет. Там тоже была плавность движений. Известная балерина, женщина уже немолодая, казалась почти невесомой. То была высшая техника исполнения. Я улыбнулся при этом воспоминании: слишком уж неподходящей была аналогия. Балет смотрел с интересом. Но сейчас испытывал истинное наслаждение, ни с чем не сравнимое. Старый Паранин с шишкой на лбу, морщинистыми веками и загрубелыми руками заставил меня понять красоту простого труда, раскрыл незнаемые возможности, и я, забыв, что нужно возвращаться в свой забой, стоял и смотрел и не мог оторвать взгляда от летящей стрелы, многотонной металлической стрелы обыкновенного экскаватора. И еще прояснилось кое-что: эта электрическая машина требует более высокой квалификации, чем однокубовый дизель-моторный «Ковровец», на котором я работал много лет назад. Все мои потуги выбиться в машинисты показались жалкими. Искусство, подлинное искусство – вот что такое мастерство экскаваторщика! А я, посидев несколько раз за рукоятками, уже вообразил, что все могу, все доступно. Лелеял мечту работать не хуже Бакаева. Но ради такой цели не стоило особенно усердствовать: Бакаев был просто рядовым, каких тысячи, безнадежно неуклюжим и несобранным. Да, пожалуй, можно потягаться с Бакаевым – этот час не за горами. Но Паранин человек особой породы. Гнаться за ним почти бессмысленно.
Вот трепещет на ветру красный вымпел. Сперва я не сообразил, зачем вымпел. А потом уразумел: сменная отметка! Вся бригада стремится к вымпелу, каждый живет одним стремлением: как можно быстрее дойти до вымпела, снять его и понести дальше. Это как игра, но игра, требующая предельного напряжения всех сил, нравственных и физических. А у нас вымпела нет. Теперь стало понятно, о какой цели говорил Юра Ларенцов на собрании…
Когда прощался с Параниным, он прищурил глаза, хитрые, немного ехидные, сказал:
– Захаживай. А Бакаеву наше почтение!
И я ушел. Скучно было возвращаться в свой забой. Шел, думал о паранинцах, дружных ребятах, сдержанных, снисходительно поглядывающих на «гостей» наподобие меня и, по-видимому, знающих какую-то свою особую правду жизни.
Дементьев… Кто такой Дементьев? Я уже третий раз слышу о нем. Почему Паранин с таким жаром говорит об этом человеке? Нужно обязательно взглянуть на него, а если удастся, то и познакомиться поближе. Может быть, он именно тот, с кем хотелось бы мне встретиться. Люди… Каждый интересен по-своему, у каждого своя необычная история. А людей на Солнечном сотни…