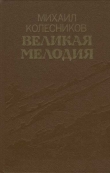Текст книги "Право выбора"
Автор книги: Михаил Колесников
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 33 страниц)
Для тебя я материализовала твою Мечту – создала эту прекрасную богиню в эллинском духе, которую ты должен любить. Я говорю с тобой ее устами, я обнимаю тебя ее руками.
Но понимаю тебя я своим разумом, вмещающим знание не только твоей вселенной, но и многих иных миров. Оказывается, ты любознателен, человек, и не за любовью пришел ко мне… Что ж, смотри…»
Не знаю, как передать на обыкновенном человеческом языке то, что я понял, ощутил, так как нет пока слов для описания того, что лежит за гранью нашего опыта.
Теперь я осознаю, что меня интересовали вещи тривиальные. Но тогда я жаждал откровения.
Я научился отличать галактики от антигалактик по тому, в какую сторону закручены спирали по отношению к некоторой плоскости.
Я вдруг понял, что органическая жизнь в нашей вселенной жмется к абсолютному температурному нулю. На первых стадиях развития жизнь еще вынуждена приспосабливаться к мощным излучениям солнца. Но лишь затем, чтобы, окрепнув, сознательно отказаться от такого нестационарного источника энергии. Да, с горячими звездами связано лишь пробуждение жизни, ее юность. Потом, когда звезда гаснет, возникает так называемая «независимая» цивилизация. Это наиболее древние цивилизации, их в метагалактике в миллиарды раз больше, чем «зависимых». «Независимые» цивилизации – очаги самого высокого развития; им не угрожают космические катастрофы. Там, в непроницаемо темных участках вселенной, – миры, в сравнении с которыми мы всего лишь младенцы… «Закон возрастания органической массы» таков: биологическая масса на планете-генераторе растет в геометрической прогрессии. Конечный итог развития – обмен биологической массой между планетами, между солнечными системами, между галактиками. Для чего? Я узнал и эту великую тайну.
Со мной творилось невероятное: стоило назвать предмет, как мгновенно становилась понятной его многогранная суть. Вселенная подобна гигантскому колебательному контуру: смысл ее эволюции – в непрестанном переходе вещества в антивещество; это своего рода «омоложение» вселенной. Когда все вещество перейдет в антивещество, начнется обратный процесс, согласно закону синусоидального времени.
Но все это было не главное, крохи познания. А я стремился узнать основную, великую истину. Рассуждал я так: у физиков есть понятие: поколения нейтронов. В активной зоне реактора рождаются и гибнут поколения нейтронов. У них одна задача: дать эффективный коэффициент размножения. Физики считают, что нейтронная цепная реакция имеет поразительное сходство с процессами рождения, развития и гибели биологических организмов. Потому-то математические методы, применимые к вопросам биологического размножения, очень часто используются для исследования процесса в реакторе.
Ну, а если продолжить аналогию?..
…Если бы нейтроны обладали разумом, они могли бы воскликнуть: «Мы участвуем в великом процессе!» А каков смысл, каков конечный итог этого процесса? «Мы диффундируем для всеобщего прогресса – и все тут!» Разве не так отвечают люди, когда их спрашивают о смысле бытия?
Копошась в своей активной зоне, в маленьком трехмерном уголке пространства, поколения нейтронов даже не могут подозревать о наличии в природе, помимо их активной зоны величиной с ведро, таких вещей, как вторичный контур, турбина. Это где-то там, за границами их маленькой вселенной… Не знают они и того, что реакция ведется не ради самой реакции, а что у нее есть высший смысл: рождаясь, диффундируя и умирая, нейтроны освобождают огромное количество энергии. Они не знают, для чего нужна эта энергия. И все-таки они – энергетический источник. В итоге они вращают турбину, о которой не имеют ни малейшего представления.
Какую неведомую турбину вращаем мы, поколения людей?..
И мне открылось оно, самое сокровенное… В какие-то мгновения я познал все. Мне сделалось страшно. Я вдруг понял, что я совершенно один в чреве некоего чудовища, пришельца из неведомых глубин. Ни живое, ни мертвое… Чтобы не испугать меня, оно обернулось прекрасной женщиной. Но с таким же успехом оно могло обернуться гигантской змеей, осьминогом, цветком или же неодушевленным предметом. Оно вмещало в себе все. Оно могло творить, овеществлять, Для него не существовало невозможного. Ни доброе, ни злое, оно могло направить жизненный процесс на Земле совсем по иному руслу или же смахнуть органическую жизнь, как ненужную плесень.
Но ему не было никакого дела до нашего прогресса, до наших устремлений. Оно ставило эксперимент. Миллиарды лет тому назад оно решило проследить, как возникает жизнь в другой вселенной, ибо мы – люди, деревья, насекомые, микробы – для него иная форма жизни, иная форма движения материи.
Зачем я понадобился ему, я – жалкий, ничтожный человек?!
«Зачем я тебе?! – закричал я в ужасе. – Зачем? Я ничего не знаю, не умею… Возьми другого, самого умного. Только не меня… Я хочу жить и быть таким, как все…»
«Я не чудовище… – печально прозвучал ее голос. – Не бойся, человек, мне не нужны ни кровь, ни плоть твоя, ни практичная мелочность твоего ума. Я могу дать тебе все: бессмертие, могущество познания. Мы вечно будем вдвоем; а когда тебе наскучит твой мир, я унесу тебя туда, и тебе откроются великие тайны. Выбирай!.. Может быть, тебе нужно то, что вы называете богатством, славой?..»
Но ужас завладел мной, и я не хотел ничего. Ужас не за жизнь, а тот ужас, который сильнее страха смерти: ужас перед неведомым. Я был на грани сумасшествия, корчился, лепетал, приводил глупые аргументы.
Неожиданно я успокоился. В мозгу застучали слова:
«Я разгадала все загадки здешнего бытия… Осталась одна. Ты можешь дать мне то, чего не знают в нашей вселенной, – любовь! Любовь… Я хочу понять это, ощутить. Неужели она сильнее жажды познания? С самого начала наблюдала я за вами, людьми. Я думала. От напряжения субстанции вспыхивали новые звезды, содрогались галактики. Что такое любовь? Ведь это труднее разгадать, чем тайну рождения галактик…»
Что я мог ответить? Мечта прекрасна, пока она недоступна. Стоит ей воплотиться в конкретные формы, и она перестает быть мечтой.
Я не смог бы дать ей любовь. Для этого надо любить. И как объяснить ей?.. Ведь это в самом деле труднее, чем понять тайну рождения галактик.
И я ушел… Снова светило солнце над головой. Свистели сеноставки. Цвел золотистый рододендрон.
Ощущение полной свободы – вот что испытывал я в тот момент. Будто вырвался из чудовищной паутины. Да, я бежал. Я боялся, что оно «раздумает». Когда поднялся на перевал, грянул гром. Гром из чистого неба. Я прислушался и в раскатах грома различил слова: «Человек, я тебя люблю… Вернись…» Еще долго сопровождали меня раскаты грома. Но я не вернулся.
5
Марина слушает разглагольствования Бочарова с непонятным напряженным вниманием. Затем говорит:
– Все это слишком фантастично, чтобы быть неправдой. Просто мелочная практичность человеческого ума не в состоянии охватить все это. Я хочу знать, какую турбину вращаем мы, люди!.. Отвечайте…
Но Бочаров уже сбросил звездный шлейф.
– Я и так заболтался. Объясню как-нибудь в другой раз.
Конечно же он говорил, токовал только для нее. А она, разумеется, поняла, что наконец-то встретила «родственную душу». Ардашина и Вишнякова ни он, ни она не слушают. Обмениваются многозначительными взглядами. Забыты все семейные трагедии. Марина, Марина… Да, Бочарову не откажешь в изощренности. Раньше пели серенады. Теперь вот такое, отчего в голове густой туман. Вера откровенно зевает.
Марина едва приметно улыбается мне: вот, мол, судите сами – не подвела, блеснула умом и других заставила развязать языки. Ваша выучка…
Она упирается подбородком в кулаки и снова напоминает ту юную Марину, которую я знал когда-то.
А я пытаюсь взглянуть на нее чужими глазами. Но это как-то не удается. Мне всегда казалось, что я понимаю ее всю, с ее мелким тщеславием, холодным кокетством и в то же время интеллектуальной изощренностью. А может быть, она совсем, совсем не такая, какой представляется мне?.. Совсем другая. Я знаю о ней не больше, чем может знать наставник о своей ученице.
Да, если смотреть на нее чужими глазами, она некрасива. Она красива только для меня. У нее, по всей видимости, очень неприятный характер. Характер волевого человека, знающего себе цену. Она великая притворщица – вот что.
Она сидит, гибкая, сжатая как пружина, чуть раскачивается, хлопает накрашенными ресницами, но все время себе на уме. Она видит нас насквозь, а нам только кажется, что мы видим ее насквозь. У нее длинная гибкая шея, тонкие розовые пальцы. Но она-то понимает, что красота – вовсе не главное. Красота нужна глупой женщине. Обаяние выше. Обаяние – это нечто неотразимое. В чем оно, обаяние? Почему молодые люди, впервые увидевшие Марину, изощряются перед ней наперебой, стараясь блеснуть эрудицией? Пожелай Марина, и тот же серьезный Бочаров кинется исполнять все ее прихоти. Отчего? «Синий чулок» новой формации, «синий чулок», который считает радости жизни выше всякого научного бдения.
Ее увлеченность наукой холодная, расчетливая. Я для Марины, должно быть, старый глупец, рабочий муравей. Она инициативна и умеет окружающих подчинять себе. Женщины отзываются о ней без всякого доброжелательства. Даже ее подруга Инна Барабанщикова. Вздыхая, как бы сочувствуя неурядицам в личной жизни Марины, та же самая Барабанщикова не может скрыть радости по поводу того, что и с этой «гордячкой» могут происходить самые обыкновенные некрасивые вещи. «Да разве он ей пара?! Белокурый, красивый, мужчина что надо… А она что?.. Подумаешь, дочь известного физика! При чем тут отец? Отца давно нет в живых. Ей нужно бы попроще, чтобы командовать можно было. А белокурым не очень-то покомандуешь…» А почему попроще?
Я знаю одного профессора-экстремиста, который невзлюбил Марину с первого дня лишь потому, что она дочь Феофанова. Он тихо измывался над ней три года и, как бы блестяще она ни отвечала, выше четверки никогда не ставил. Но он натолкнулся на внутреннее сопротивление необыкновенной силы. Она даже не выказывала к нему презрения. Он просто для нее не существовал. Не жаловалась, не пыталась уличить его в пристрастии, в недобросовестности. Глухая борьба велась не на жизнь, а на смерть. Экстремист выходил из себя, при одном взгляде на Марину терял самообладание. Он приписывал ей несуществующие грехи, однажды даже оскорбил, делая грязные намеки на ее якобы распутное поведение. Он, видите ли, приметил ее в ресторане с одним молодым человеком. Она не вскипела, не пошла к декану, а спокойненько забрала зачетную книжку, где красовалась жирная тройка, и, не удостоив профессора взглядом, вышла. Экстремист понял, что переборщил, бросился за Мариной, стал просить прощения. Но она не стала его выслушивать. Он был сломлен, начал заискивать. Он влюбился по уши, надоел ей до омерзения. Даже грозился учинить над собой расправу. Она осталась глуха. Она была непреклонна. Экстремист был для нее лишь одним из многих дураков, которых приходится терпеть, потому что так устроена жизнь.
Я видел слезы на глазах Марины. Но знаю: другие слез не видели и никогда не увидят.
О чем она думает сейчас? Наверное, ко мне у нее все-таки больше доверия, чем к другим. Передо мной можно даже быть слабой, несчастной. А может быть, она все же любит меня? Ровная, спокойная любовь к старому другу… Ведь бывает такая? Может быть, натерпевшись всего, она поняла наконец, кем я был всегда для нее. Она пришла ко мне, а не к кому-то другому. Значит, ей нужен именно я. Не исключено и другое: холодно взвесив все, она сделала тот единственный вывод, к которому я всегда старался подвести ее: быть со мной… и ничего больше не нужно…
Странный вечер закончился. Гости разошлись. Мы изощрялись, стремились блеснуть эрудицией, выразить сокровенное в иронически-шутливой форме. Может быть, так и рождаются духовные контакты. Я поддался этому гипнозу и болтал как мальчишка. Не будь Марины, все обошлось бы производственными разговорами, и расстались бы в дурном, тяжелом настроении.
Марина, должно быть, спит. А я сижу в кабинете и курю трубку. Марина в моем доме, здесь, за стеной… В виски стучат горячие слова: «Мне все равно – понимаете? – все равно… Ведь я ваш эпиорнис – и ничего больше…» Есть моменты, упустив которые теряешь их навсегда. Но я глупо воспитан. Я глуп и останусь таким навсегда. У меня слишком большие претензии к жизни. И теперь я думаю: нельзя обесценивать самое главное. Мне нужна ее любовь. Искренняя, большая… Она вернулась ко мне… А может быть, просто ушла от другого и я здесь ни при чем?
Грусть заползает в сердце. Почему я живу в вечном противоречии с самим собой? Все должен выстрадать, взять с боем. То, что легко дается, не имеет цены.
Распаленное воображение рисует облик спящей Марины. А возможно, она так же, как и я, не спит. Она ушла к себе с сияющими глазами…
Мне душно в квартире. Одеваюсь, выхожу на улицу. На голову сыплются звезды. Тихо падают листья. Оказывается, они падают и ночью. Молчит в темноте наш заколдованный город. Лишь у «гастронома» мертвенное сияние неоновой вывески.
Марина, Марина… Если бы ты хоть немного любила меня… Мы слишком хорошо понимаем друг друга. Ты вернулась опустошенная, раздавленная житейской неудачей. Вернулась к прошлому. Ведь прошлое, каким бы оно ни было на самом деле, всегда представляется в золотистом отблеске. И пришла не ко мне, а под старое крыло доброй, глупой Анны Тимофеевны, которая когда-то была твоей нянькой. Как будто эта женщина в силах оградить тебя, взрослую, умную, от всех невзгод. А разве пожилым людям их матери не кажутся самыми добрыми и мудрыми?.. Я знал семидесятилетнюю заслуженную учительницу, приходившую всякий раз за советом к своей дряхлой матери, простой крестьянке.
Да, да, возле Анны Тимофеевны ты в полной безопасности, Марина.
О черт! Мы чуть не сталкиваемся лбами с Бочаровым. Он смущен, растерян.
– Не спится, – говорит Бочаров, словно извиняясь. Закуриваем, расходимся. А почему, собственно, ему не спится?..
Падающие звезды все чертят огненные параболы. Над забором поднимаются темные бетонные кубы реакторов. В свете звезд они напоминают опустевшие древние храмы.
Ко мне возвращается философское настроение. Глухой сумрак ночи рождает в мозгу чудовищные образы. Начинаю размышлять о смысле всего. И самое трудное – любовь, любовь…
Я, кажется, схожу с ума. Ах, Марина, Марина… Не все ли равно, какую турбину вращает человечество?
– Мы диффундируем! – произношу я вслух. Бедная голова. Она готова расколоться. Падают звезды, падают листья. А там, за темным окном, Марина…
– А я построил новую модель вселенной, – говорит Бочаров. Оказывается, мы и не расходились в разные стороны. Он все время шагал рядом. Или же мы встретились, сделав по большому кругу. Какое это имеет значение?
– А почему вам не спится, Бочаров?
Он загадочно улыбается.
– Я слушаю, как бьется ее сердце…
– Чье?
Бочаров протягивает голубоватый светящийся кристалл. Прикладываю к уху: музыкальный звон.
– Это стучит сердце Корпускулы, – говорит Бочаров. – Я ведь ничего не выдумал, профессор. Когда прекратится звон, я буду знать: она навсегда покинула нашу вселенную. Хотите, я открою вам удивительные тайны, о которых человечество даже не подозревает? Только между нами… Слышали об атанитах? Высшая цивилизация… Обитала в солнечной системе. Все спутники всех планет имеют искусственное происхождение. Не верите? Даже Луна. Вас не удивляет строение ее поверхности? Это были стартовые площадки для полета в большой космос, станции. Пришлось пожертвовать одной из планет, расколоть на куски…
– Замолчите! – кричу я. – Замолчите. Или от вашей болтовни у меня расколется голова…
Просыпаюсь. Все то же кресло. Погасшая трубка. В посиневшие стекла вползает утро. Голова тяжелая.
6
С некоторых пор наметился перелом в работе «думающей группы». Успехами обязаны не потенциальным гениям, а рационализатору Вишнякову.
Раньше Ардашин высмеивал Вишнякова:
– Если бог хочет наказать человека, он делает его рационализатором.
Вишняков выглядит намного старше своих двадцати восьми лет: тяжеловатая комплекция; по голове будто провели граблями – лысеет. Всегда достается толстой шее Вишнякова, плавно переходящей в затылок. Бочаров подтрунивает:
– В каком-то словаре вычитал: шея – часть тела, соединяющая голову с туловищем. А я-то по наивности думал, что все наоборот!
Теперь умники сидят, словно крупы в рот набрали. Командует парадом Вишняков («биологическая защита»). Может быть, он и не искушен в «сумасшедших» теориях, зато твердо стоит на земле.
Все мы вздохнули с облегчением: как-никак, а выход из тупика найден.
Подымахов на очередном коллоквиуме оценил блок-схему Вишнякова довольно своеобразно:
– На безрыбье и рак – рыба. Автор разрешил только второе условие: осуществление реакции импульсами в пределах некоторого диапазона. Это, разумеется, главное. По, регулируя поток по принципу Вишнякова, мы по-прежнему получаем весьма низкий кпд. Дороговато обойдутся государству эксперименты на такой установке. Ну да шут с вами, разрабатывайте, если ничего умнее придумать не смогли.
Оно и понятно: за несколько месяцев пороха не изобретешь. А Подымахову, конечно, хотелось бы, чтобы мы изобрели.
– Не на тех напал! – мрачно говорит Вишняков. – Гирю изобрести – это мы могём!
Он сосредоточен и молчалив. Вариант его и самого не удовлетворяет. Сидит, наморщив лоб. Глаза мутные, остекленелые. Или курит. Смирились. Творческий столбняк. Не прогони после окончания занятий, будет сидеть до утра. За ним приходит Вера: «Чтоб ненароком не попал под детскую коляску. Задавит чужого младенца своей тушей, тогда отвечай…» Вишняков ищет новый вариант. Ищет настойчиво, исступленно. Даже с лица стал спадать.
– Ведь известно, что даже незначительные вспомогательные устройства могут оказать влияние на основные характеристики. Если пойти по этому пути… – мудрствует Ардашин.
Но Вишняков ничего не слышит. Иногда бормочет:
– Кпд… кпд… кпд… Бороду можно положить на одеяло… бороду можно положить под одеяло…
Он далеко от нас, где-то там, в волшебном царстве процессов регулирования.
И постепенно наука о регулировании обретает для нас глубокий философский смысл. Собственно говоря, процессы регулирования в природе, в общественной жизни, наконец, в быту – главное. То, что плохо отрегулировано, идет вкривь и вкось. Усилия людей в течение тысячелетий в основном и направлены на то, чтобы отрегулировать общественные, личные отношения, отрегулировать стихийную капризную природу, свой бренный организм.
Сумей отрегулируй!..
Лицо Марины словно приобрело спокойную глубину. Ожили помертвевшие было глаза, и вся она расцвела еще незнакомой мне женственной красотой.
– Я так благодарна вам… – говорит она. – Вы даже представить себе не можете, как я счастлива. Спасибо вам за ваше доброе благородство! Вот, взгляните. Не правда ли? – очень остроумно решена задача удаления рук оператора из зоны недопустимого облучения. Знаете, чем я занята сейчас? Разработкой новой модели.
Мы стоим в препарационной лаборатории. Особый мир. Защитно-вытяжные камеры-шкафы, боксы для развешивания твердых бета-препаратов, установки для измерения активности гамма-препаратов под водой и установки для дистанционной запайки ампул. Желтоватые просвинцованные стекла, защищающие от смертоносных излучений. Сотрудники в белых халатах, белых шапочках, на ногах – бахилы или же галоши. Здесь дышат кондиционированным воздухом – фильтры из стекловолокна возле каждого рабочего места беспрестанно орошаются водой. Бесшумно идет переработка, расфасовка, приготовление радиоактивных препаратов. Излучение… Оно незримо присутствует в каждом отсеке лаборатории. Ничего страшного. Кистевые и локтевые перчатки, дистанционное управление. Есть допустимые дневные нормы. Допустимые… Мы все знаем, что проблема защиты решена не до конца. Непосвященным специалисты, дежурящие у пультов реакторов, выгружающие блок-контейнеры, орудующие у защитных боксов, кажутся героями. Особого героизма тут нет. Ведь никто не восторгается работой врача-рентгенолога. Стало привычкой, вошло в быт. В лаборатории «привыкают» к дневным нормам. Облучение? О нем здесь не говорят, как будто его вовсе и нет. Но оно есть, есть, пронизывает Марину каждый день. Я тоже не придавал ему значения, пока сюда не пришла Марина. Зульфия?.. А где же ей еще быть? Ведь она – инженер, сама выбрала специальность. Ей положено…
Марину назначили (не без моего ходатайства) главным инженером. На должность хотели поставить Зульфию. Она знала, ей обещали… И я это знаю. Но ведь Марина не только инженер, но и талантливый изобретатель. Конечно, должность есть должность, и изобретательство тут ни при чем… И Зульфия догадывается о моих хлопотах за Марину. Мне как-то неприятно от молчаливого взгляда больших глаз Зульфии. В них нет укора. Просто она следит за каждым моим движением и молчит. Только Марина ни о чем не догадывается. Она верит в доброжелательство той же Зульфии, всех окружающих. Она – дочь Феофанова. Зульфия даже мысленно не может ставить себя рядом с ней. Она дочь Феофанова – тем все сказано. Начальству виднее. И как ни странно, я не испытываю угрызения совести. Произношу громко:
– Я хотел бы перевести тебя в «думающую группу». Ведь ты, по сути, тоже занята вопросами регулирования. Поговорю с Подымаховым…
– Нет, нет. Спасибо. Мне и здесь хорошо. Ненавижу всякие протекции.
Ничего не поделаешь – женская логика.
Марина приходит сияющая, радостная.
– Можете поздравить: местком дает отдельную комнату! Маринку – в детский сад.
Я ошарашен:
– Комнату? А зачем тебе комната?
– Не вечно же надоедать вам. И так целых два месяца.. Мы сломали весь уклад вашей жизни.
Присаживаемся в гостиной. Анна Тимофеевна возится на кухне. Марина-маленькая взобралась ко мне на колени.
Окидываю взглядом свое жилище. Уют здесь создан руками Анны Тимофеевны. Не холодный уют современных квартир, где голо, как в кафе, а тот, несколько патриархальный – с картинами и коврами, тяжелыми шторами.
– Разве тебе здесь плохо?
Она усмехается:
– Вы же всё прекрасно понимаете…
Давно ли она говорила: «Мне все равно, – понимаете? – все равно. В конце концов, кому какое дело до меня?..»
Беру ее холодную руку, прикладываю к губам.
– Этот дом – твой дом. Я пять лет ждал, чтобы сказать тебе это. Ведь ты мой эпиорнис. Не правда ли? Я не хочу думать, что тебя сюда привели обстоятельства. Мне показалось, что ты вернулась ко мне. Ведь я тебя люблю. Ты знаешь, как я люблю тебя, Марина. Ты – смысл моей жизни. Без тебя она превратится в жалкое прозябание. Я тебя прошу, умоляю: будь моей женой!..
Я говорю долго, в горячечном пароксизме. Она не отнимает руки. Глаза наполнены слезами.
– Я благодарна вам за все. Вы единственный на всем свете.. Все это так неожиданно… Нельзя все сразу… Я должна прийти в себя от пережитого, а потом уже решать. Кроме того, мы с ним еще не разведены официально. Будет суд и прочие неприятные процедуры. Все это так тяжело… Вы не должны торопить меня с ответом…
Она легонько проводит рукой по моей щеке.
– Хорошо. Я готов ждать сколько угодно. Я ведь все понимаю. Ты мой эпиорнис, и мне ли не знать тебя?..
Вечером у Марины новоселье. Никогда не предполагал, что там, в месткоме, действуют так оперативно. Получение квартиры – ритуал, священнодействие, очередь, драгоценный ордер. Один мой знакомый любит говорить: «Вот получу квартиру, тогда и умереть можно спокойно». В наших коттеджах с наступлением зимы – зверский холод. Кто-то усиленно экономит уголь и получает премии. Приходится включать все обогревательные электроприборы. Нагорает больше стоимости сэкономленного угля и премии, вместе взятых. Но человек должен стараться…
Разглядываю блок-схемы, а мысли блуждают где-то далеко. Скорее бы закончился служебный день! Видеть ее сделалось потребностью. Хоть на минуту… А сегодня – целый вечер. Не знаю, способен ли кто-либо в подобном состоянии к научному творчеству?
Теперь, когда вариант Вишнякова официально утвержден, можно трудиться спокойно, не гнать. Обоснование, расчеты. Тем и заняты целыми днями.
И все-таки каждый из нас испытывает неудовлетворенность собой. Не достигли!.. Потому-то наряду с основной работой, потерявшей творческий привкус, каждый старается придумать что-то принципиально новое. И в первую голову сам Вишняков. «Непробиваемый» Вишняков сделался раздражительным. Обвис, щеки втянуло до черноты.
Ходит, бормочет:
– Бороду на одеяло, бороду под одеяло…
На столе гора окурков. Дядя Камиль впадает в неистовство. Приходится его легонько выдворять.
У Бочарова все время на губах глупая улыбка. Не пойму, в чем дело. Он тоже «опустился»: стал носить галстук, белые сорочки; на столе скомканные листы, пепел, томик модных сумасшедшеньких стихов, от которых у меня сверлит в ушах.
Ардашин не теряет надежды вырваться вперед, поразить человечество своей блок-схемой.
…И все-таки я должен был уговорить Марину… Отпустил. Глупо, глупо… Она сразу отдалилась от меня на тысячу километров. Инфантильный субъект…
Олег Ардашин бубнит рядом:
– Мы производим регулирование системы движением секции оболочки, находящейся около активной зоны…
– Инфантильный субъект! – произношу вслух.
– Вы так считаете? – Ардашин обескуражен.
Спохватываюсь:
– Вы правы, Олег. Как вы додумались?
Он глядит с изумлением:
– Додумался? Все записано в вашем учебнике для младших курсов. Страница сто пятьдесят восьмая.
Начальство всегда вызывает не вовремя.
– Хочу подогреть в вас энтузиазм! – говорит Подымахов. И это почти в конце рабочего дня!
Ведет на «территорию». Здесь полным ходом развертывается строительство. Экскаваторы долбят мерзлый грунт. На площадке будет сосредоточено почти сорок объектов: тут и компрессорная, и насосная, административные корпуса, подстанция, вентиляционная станция, цистерны, колодцы. Все уже заранее обнесено заборами: ограждающим, внутренним. И оттого, что здесь работа идет споро, как-то тягостно становится на душе. А мы со своей «думающей группой» где-то в самом начале пути! Не станут же приостанавливать строительство из-за нашей инертности, несообразительности! Тревога овладевает мной все больше и больше, тревога и ощущение собственной ничтожности. С чего я вообразил, что могу хвататься даже за чисто практические задачи?! Ну какой из меня инженер? Теоретическая физика, математика – вот она, моя «зона ограничения»… Скоро начнется закладка фундамента под будущую установку. Архитекторы разработали оригинальный проект главного здания. Им удалось уловить стиль эпохи атомной энергии и освоения космоса.
– Чем-то смахивает на крематорий, – кривится Носорог. – Да шут с ними. Эпоха… Приходится считаться. Дело в конечном итоге не во внешнем оформлении, а в удобстве. Я, например, не могу привыкнуть к черным колоннам в фойе нашего института. А кому-то, должно быть, нравится. И вообще в современных зданиях чувствуешь себя, как в аквариуме.
Потом, продрогшие, пьем чай в кабинете Подымахова.
– Пейте цейлонский чай. А еще лучше – краснодарский. Хорошо мозги прочищает.
Ерзаю на стуле. А он не торопится. Да и куда торопиться, если жизнь позади? Благодушествует. Самый удобный момент втолковать мне, чем отличаются друг от друга содержательный и формальный метод исследования.
Такое впечатление, будто он убеждает не столько меня, сколько самого себя. Ведь для меня вопрос давно решен: из «чистого» физика-теоретика я незаметно превратился в самого ярого прикладника, стал создавать, даже изобретать экспериментальную аппаратуру, которой пользуется кто-то другой. Но я понимаю Подымахова: он, так сказать, всю жизнь наступал «на горло собственной песне» – в каждом из нас живет смутная вера, будто мы были рождены для глубоких теоретических обобщений, для великих гипотез. И вот ради блага других пожертвовали собой, стали аппаратурщиками.
Я-то Подымахова давно понял, а он все пытается разгадать меня. Зачем?
Заговаривает о прошлых днях. Феофанова вспоминает с теплотой.
– В принципе я никогда не был против умозрительного метода. Но тогда должен был спорить с Феофановым, в противном случае мы отстали бы от Америки лет на пятьдесят. Приходилось бороться за экспериментальную технику индустриального масштаба: синхрофазотроны, реакторы. Мы их создали.
Разговору не видно конца. Носорог залез в абстрактные дебри и увяз по пояс. Откровенно поглядываю на часы. Вот он сидит передо мной, старый человек, большой ученый, отдавший жизнь поискам. Он весь в поисках.
Есть ли у него что-нибудь личное, свое? Жена, дети, заботы о благополучии?.. Любит ли он Моцарта или Бетховена? Остановился ли он хоть раз в немом благоговении перед картиной великого художника? Где начинается и кончается человечность? Или, может быть, безвозвратно ушло время ученых мужей-энциклопедистов и мы незаметно превратились в специалистов узкого профиля?..
Я понимаю, но не знаю Подымахова. И вряд ли когда узнаю. А ведь именно это они, вот такие, составляют цвет современной цивилизации и по их делам потомки будут судить о нас.
Есть люди, незаметные за рабочим местом, в коллективе, и раскрывающиеся, как бутоны, в семейном кругу, среди друзей: они вдруг поразят вас острым словом, глубоким замечанием по поводу последнего концерта; оказывается, они знают всех мало-мальски известных певцов, киноактрис, были на последней художественной выставке.
И есть такие, как Подымахов: вне рабочего места его трудно представить. Это ему нужно, чтобы атомная станция действовала на полную мощность, чтобы реакторы размножались, как грибы после дождя, чтобы ракеты выходили на расчетную орбиту. И о недалекой смерти, наверное, не вспоминает. Будто она его и не касается. О Цапкине так ни разу и не упомянул.
Ведь сперва всем казалось, что Цапкин и «попугайчики» будут немедленно изгнаны. А Подымахов делает вид, словно их и нет вовсе, занялся постройкой новой оригинальной установки. Торопится, поторапливает нас. Ему нужно двигать науку, а Цапкин к науке никакого отношения не имеет. Цапкин – саркома на теле науки.
Уволить бездарного работника не так-то легко, как кажется. Есть инстанции, наконец, суд – враг произвола, верный страж всех пострадавших и притесняемых. На каком основании вы решили, что Цапкин – мизонеист, бездарен, не способен руководить научно-исследовательской работой? Авторитетная комиссия установила: за шесть лет институтом создан ряд уникальных установок, проведены плодотворные эксперименты, институт взрастил целую плеяду… на международных коллоквиумах эксперименты получили высокую оценку… Но ведь все это помимо Цапкина, вопреки ему!.. Нужно еще доказать! Документы свидетельствуют о другом. Цапкин проявлял повседневную заботу о людях, создал условия для исследовательской работы, всячески поддерживал начинания научного руководителя – профессора Коростылева, от которого, кстати сказать, до сих пор никаких жалоб не поступало. Заявление Коростылева об уходе? Были, конечно, частные разногласия, как и на всякой работе. Но заявление Коростылев взял обратно. Во всяком случае, оно нигде не зарегистрировано. Обвинения Подымахова носят чисто субъективный характер и вызваны мотивами личного свойства. Нужны веские доказательства неспособности Цапкина руководить институтом! Основываться на симпатиях и антипатиях мы не можем…