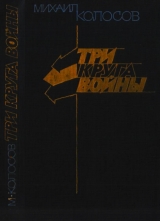
Текст книги "Три круга войны"
Автор книги: Михаил Колосов
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 30 страниц)
Выскочил, смотрит: автоматчики уже впереди, замешкался он в траншее, долго, наверное, простоял за пустым углом. Поднажал – догнал, бежит и чувствует, что ему легче стало дышать, и бежать не тяжело, и страх куда-то девался.
– Вперед! Вперед! В атаку!
Вот она и вторая линия обороны. Не зевнуть бы, не сплоховать… И вдруг чувствует: огонь по ним начал ослабевать. Поднял голову, видит: немцы один за другим выскакивают из траншеи.
– Ура-а-а! – обрадованно закричал он и послал длинную очередь вдогонку.
Вот она и вторая траншея. Прыгнул в нее, огляделся – пусто, дал очередь налево за угол и сам туда же пулей влетел. Никого. Выскочил наверх – и побежал дальше.
– Вперед! – не умолкала команда.
Хотел еще дать очередь по бегущим немцам, нажал на спуск, но автомат на третьем или четвертом патроне захлебнулся. Понял Гурин: магазин опустел – и нырнул в ближайшую воронку. Быстро выпростал из чехла запасной диск, вставил, оттянул затвор – все в порядке. Выглянул: бегут по всему полю наши солдаты, то там, то здесь только и слышно: «Вперед! Вперед!»
Подхватился Гурин и пустился вслед за солдатами. Смотрит, Аня стоит на коленях, перевязывает автоматчика. Обрадовавшись своим, Гурин плюхнулся рядом, Аня оглянулась, сказала сурово:
– А, это ты? Куда торопишься? Лейтенант с сержантом уже заворачивают наших.
Огляделся: действительно, приотстали автоматчики. Он узнает их по одежде – все в фуфаечках, по одному, не спеша идут обратно. Гурин поднялся. Пехота уже стреляла и кричала где-то вдали, за холмом, а вслед за ней спешили артиллеристы, минометчики, подводы с боеприпасами. Сорвали немцев, погнали!
Подошел сержант, шапка на макушке, красный ежик дымится паром.
– Ну как? – спросил он, неизвестно к кому обращаясь.
Гурин вытирал пот со лба, молчал. Серпухов нагнулся над раненым:
– Кого это? Ты, Востряков? Эх, бедолага! Бок распороло… Ну ничего, крепись. После госпиталя ты нас найдешь.
– А я не пойду в госпиталь, – простонал Востряков.
– Лежи, лежи, – прикрикнула на него Аня. – Развоевался! Лежи и не разговаривай, и не вставай. Сейчас возьмут тебя на носилки.
Автоматчики по одному, группами потащились к своим траншеям. Пошел и Гурин. Только теперь почувствовал, как он устал: ноги были будто из ваты, его качало из стороны в сторону. В своем окопе упал на шинель и слышит, как в нем гудит все и сердце колотится, будто барабан.
Через какое-то время их собрали всех вместе, подошел лейтенант, спросил у сержанта:
– Сколько?
– Так и есть… Семерых… Трое убито, четыре ранено.
– Много, – сказал лейтенант мрачно. – Жалко ребят. – Потом поднял голову. – Ну что ж, мальчики, война… А вообще – молодцы. Все молодцы, поработали что надо. – Кивнул сержанту: – Веди.
– За мной шагом марш! – махнул Серпухов.
Обрадовался Гурин, уверенный в том, что они пойдут сейчас в деревню, в свой сарай, на солому и будут отдыхать. Однако радость его была преждевременной: сержант перепрыгнул через траншею и направился в сторону фронта.
По полю ходили солдаты и подбирали убитых. Чем ближе к немецким траншеям, тем больше трупов, гибли в основном на бруствере, перед броском в траншею. Дальше наши лежали вперемежку с немцами. Сразу за окопом Гурин увидел двух солдат – нашего и немца, они застыли голова к голове. У нашего солдата голова была раскроена малой саперной лопатой, которую, зажав мертвой хваткой, держал в руке немец. Взглянул Гурин на них и тут же отвернулся: страшная картина. А сержант остановился перед ними, подошли другие, стали гадать, почему у немца в руках наша лопата? Наверное, схватились в рукопашной, немец в драке изловчился, выхватил у нашего из чехла лопату и ударил. Но и его самого кто-то другой тут же застрелил.
За второй линией обороны наших уже было гораздо меньше, сплошь по белому полю горбились немецкие шинели, валялись их каски, противогазы, оружие.
Рядом идет Юрка Костырин, земляк Гурина – тоже донбасский, из Макеевки. У них даже общие воспоминания нашлись: оба знают макеевскую свалку, куда Василий с матерью ходил выбирать из шлака кусочки кокса на топливо. Он толкнул Гурина, указал головой:
– Гляди, наверное, унтер?.. Погоны серебряные. – И Юрка вышел из строя. Вернее, не из строя, шли они вразброд, кучей, он просто отделился от толпы.
– Куда ты? – удивился Гурин.
– Сейчас догоню, – и Юрка принялся расстегивать штаны. А когда уже последний солдат миновал его, он подбежал к унтеру, нагнулся и стал что-то делать. Потом быстро догнал, поравнялся с Гуриным и показал ему на ладони часы.
– Смотри…
– Где ты взял?
– У унтера. Думал, гад, швейцарские, а оно та же штамповка. Возьми, у меня, такие уже есть, – Юрка вытянул левую руку, показал на запястье часы. – Бери, не морщись. Трофей. Все равно их кто-нибудь снял бы, вон те же похоронщики. Думаешь, так в часах и отправили бы его в «могилевскую губернию»? Слишком жирно для фрицев.
За разговором не заметили, как сошли с поля и вышли на дорогу. Вдали завиднелось село. Лейтенант сошел на обочину, оглянулся на свою роту:
– Подтянитесь! Разберитесь! Ну-ка, приведите себя в порядок. На вас люди будут смотреть, освободители.
Это правда: передовые части промчались, и поэтому автоматчики, по существу, первые солдаты, которые вступают в освобожденное село.
Еще на подходе им навстречу выбежала толпа ребятишек и, как почетный эскорт, сопровождала их вступление в населенный пункт.
А в селе и старый и малый – все стояли на улице и смотрели на них, как на чудо чудное, свалившееся с небес. Женщины плакали, дети махали им руками, старики почтительно снимали шапки. А где-то уже на середине улицы толпа стала такой плотной, что трудно было пройти. Женщины тянули к ним руки, словно хотели потрогать – действительно ли это они, живые солдаты, а не мираж. Одна воздела руки вверх, закричала:
– Боже мой! Вызволители вы наши! Родненькие! – и кинулась целовать одного, другого. За ней и остальные – обнимают солдат, целуют, плачут.
– Та куды ж вы спешите? Та хочь на минутку остановитесь, отдохните – мы на вас полюбуемось!
А солдаты и так уже остановились, растерянно улыбаются, самим плакать хочется от такой всеобщей радости.
Лейтенант пробился на середину, сказал:
– Ладно. Полчаса отдых. Разбирайте, тетки, кому кто нравится. Покормите солдат.
Подхватила Гурина с Юркой пожилая украинка, затараторила весело:
– Ходимте до хаты, ходимте… – Привела в дом, хлопочет. – Знимайте шинели, умыйтесь. Ось вам рушничок чистый. А я зараз стол накрыю. Що вам хочется – чи яешеньки, чи молока? Сало е у мене. Сховала от нимцев.
– Я бы съел борща, – осмелел Гурин. – Давно не ел домашнего борща.
– Борщ е! – обрадовалась хозяйка. – Зараз!
Быстро время пролетело. Не успели поесть, поговорить, как послышалась команда: «Выходи строиться!» Молоко допивали стоя.
Пока одевались, хозяйка им на дорогу гостинчик приготовила: по куску сала и по краюхе хлеба.
– Ну, час вам добрый! Хай вам щастыть, хай вас ворожи пули минають. – Поцеловала солдат, как родных, расплакалась.
Покидали ребята село – грустно было: родным теплом повеяло, будто из материнского дома уходили.
…Уже поздно ночью наконец прибились автоматчики к деревне, в которой остановились на ночлег.
Немцы заняли оборону на заранее укрепленных позициях, и наши не смогли их взять с ходу. Залегли. Это было видно по незатухавшей стрельбе впереди, по так знакомым взлетавшим в небо ракетам, по столпившимся войскам и затормозившей свой бег всевозможной технике. Автоматчики догнали передовые части и окунулись в обычную фронтовую суету.
Лейтенант Исаев по каким-то ему только известным приметам быстро отыскал свой штаб и там же, в небольшой пристройке, а попросту – в летней кухоньке нашел и место для своих «мальчиков».
* * *
Почти полтора месяца минуло, как Гурин попал в роту автоматчиков. Срок небывалый. А ведь они за это время не раз ходили в атаку, не раз бросали их на прорыв, однажды – в разведку боем, дважды придавали их разведчикам. За это время рота сильно поредела. Когда Гурин пришел в нее, там вместе со «стариками» было тридцать четыре «мальчика», сейчас осталось человек пятнадцать. Кого убило, кого ранило. Ранило и земляка Гурина – Юру Костырина из Макеевки. Больно было Гурину расставаться с ним, привыкли друг к другу, сдружились. Лейтенант, немного переиначив Юрину фамилию, а гуринскую совсем изменив, звал их Жилин и Костылин. Не стало «Костылина» – и Гурин перестал быть «Жилиным».
Многих нет, а Гурин все еще держится, иногда лежит и думает: «Почему это так долго меня судьба щадит – ведь в каких переплетах только не бывал?» – и тут же кто-то другой в нем начинал спорить: «Один ты, что ли? Вон еще сколько ребят, многие вместе с тобой пришли, а некоторые даже раньше».
«За других я не берусь гадать. Я о себе хочу знать».
«Подожди, еще все впереди…»
«Конечно… Но я думаю, что меня все-таки не убьет. Не может меня убить! Я должен жить, я должен еще что-то в жизни сделать. Неужели же я только для этого и родился – кончил десятилетку, погоняли меня на войне, как зайца, и все? Стоило ли для этого на свет появляться?»
«А другие?»
«Перестань! Я не о других, я о себе, о себе, понимаешь? У меня внутри сидит, чувствую, такое, что не должно умереть».
«Ну и чувствуй, если тебе это силы придает или веры прибавляет».
«Прибавляет, это точно! Я смелее от этого становлюсь, увереннее, бегу – и мне не страшно».
«Врешь, страшно… По-моему, тут дело в другом. До сих пор тебя спасала твоя сноровка, быстрота. Сначала тебе повезло, а потом ты многому научился. Ты уже точно можешь рассчитать, сколько секунд немец в тебя целится, и за миг до выстрела нырнешь в землю. Ты знаешь, сколько надо полежать и как надо рвануться с места вперед. Автомат в твоих руках уже как игрушка, ты стал виртуозом, опередить тебя в стрельбе трудно».
«Но на это тоже ведь нужен ум, чтобы все это понять, усвоить. Самому! Меня же почти ничему этому не учили».
«Нужен, нужен ум. Только не задавайся. Все еще впереди. Помни: задавак судьба не любит».
«Не буду…» – и на этом спор с собой у Гурина заканчивается. Действительно: впереди дорога еще ох какая длинная!
Был конец февраля. Уже солнышко пригревало, снег напитался водой и готов был разлиться потоками. Пахло весной. И то ли этот запах, то ли еще что действовало на солдат, – у них все чаще и чаще возникали разговоры о мирной жизни, ребята вспоминали школу, девочек. И вот как-то затеялся разговор о любви.
Колька Шевцов – маленький, шустренький, глазки точечками и в разные стороны смотрят, – страшный женоненавистник на словах и порядочно испорченный тип на деле, категорически утверждал:
– Вообще любви никакой нет, выдумки все это. Есть одно чики-брики, и все. К этому все и стремятся, и мужики, а особенно бабы.
Аня брезгливо поморщилась:
– Много ты знаешь!
– Да уж знаю, не беспокойся. И ты знаешь, только красиво все это обставить хочешь – и словами, и цветами.
– А что же тут плохого?
– А звери, птицы и даже разные комашки – они ничего такого красивого не говорят, а занимаются тем же.
– Ну да, не говорят! Еще как говорят! – не выдержал Гурин. – Птицы как в эту пору поют! А некоторые животные даже цвет свой меняют.
– Ну и все это – любовь?
– Конечно!
– Не, ребят, мы у-ушли в сторону, – поднялся Сергей Проторин – долговязый заика. – З-звери – ладно. Про л-людей давайте. Я д-думаю, любовь – это с-страсть, к-которая заложена природой в ч-человеке. Ф-физиология. Б-брачный период у животных, б-брачное время у человека. Это естественная п-потребность.
– Ну и ты туда же, куда и Шевцов, – отмахнулась Аня. – Неужели же человек ничем не отличается от животного?
– От-т-тличается. Ч-человек идет на это сознательно, а животное б-бессознательно.
– Какое там сознательно? – не согласился Колька. – Ты вот посади мужика и бабу в одной комнате и запри. Пройдет время, и они спаруются. Как голуби. Ну? Любовь?
– Да откуда ты знаешь? Тебя запирали, что ли? – возмутилась Аня. – Какие-то глупости говорит, право!
– Спаруются? – опять не выдержал Гурин. – А ты голубей держал?
– Очень нужно!
– А я держал. И вот закроешь голубя с голубкой в клетку, думаешь, хорошую ему пару подобрал. А он не принимает ее, бьет. А какую полюбит – в огонь и в воду за нее. Бывало, пугнешь голубя одного, поднимется за тучи, не видать. Вынесешь его голубку, только покажешь, и он с высоты камнем падает, садится на голову, на плечи, воркует – отдай голубку. – Гурин взглянул на Аню, смутился: выдал себя – голубятника. Но Аня не осудила его, она слушала с любопытством, улыбалась, под конец сказала ласково:
– Как интересно! Вот никогда не думала!.. А ты, Серпухов, почему молчишь? Есть любовь или нет?
Сержант почесал в затылке, двинул плечами:
– А хрен ее знает. То будто есть, то будто нет ее. Говорят: любовь навеки. Я не верю в это.
– А я верю, – сказала Аня.
Любовь! От одного этого слова Гурина в дрожь бросает: очень влюбчивый парень. Вспомнил Валю Мальцеву, заныло сердечко – любил он ее, очень крепко любил…
А вообще, что такое любовь? Тут он был начитан, мог бы поспорить кое с кем, но сейчас почему-то не мог собраться с мыслями, ребята сбивали. Как хорошо писал о любви Пушкин! Романы Тургенева, «Катерина» Шевченко, «Ромео и Джульетта». Вспомнил Гурин: дома у него осталась книжечка афоризмов из Шекспира, там есть раздел. «О любви» – вот бы сейчас пригодилась, Он читал даже такие романы, как «Милый друг» Мопассана, «Проститутка» Виктора Маргерита, «Любовные похождения кавалера Фоблаза» Луве де Кувре. Читал их, скрываясь от матери.
– Ну, а все-таки что такое любовь? – допытывалась Аня. – Ну вот ты, Гурин, скажи, – обратилась она к нему.
– Любовь, по-моему, это наилучшее состояние человека. По-моему, это самое сокровенное, самое неприкасаемое, самое запретное для посторонних…
– Ну, наплел! – поморщился Шевцов. – Неприкасаемое. В этот момент только и прикоснуться! – и захихикал.
– Да, люди должны стесняться, совеститься показывать свою любовь, хранить ее в тайне и никого не пускать к ней.
– Тайна! А всем видно, что ты влюблен в Аньку.
Вспыхнул Гурин, хотел запустить в него котелком, но Аня остановила его:
– Не обращай внимания. Он кого только ко мне не клеил… А ты знаешь, Гурин, мне нравится, как ты говоришь: тайна, совесть, наилучшее состояние… Интересно. Правда, ты так думаешь?
Вошел лейтенант, и возбужденная Аня кинулась к нему с вопросом:
– А теперь пусть лейтенант скажет: что такое любовь? А, лейтенант? Тут вот спор…
– После, Аня… Про любовь – после. – И скомандовал резко: – В ружье!
Все понятно – срочное задание. Моментально одеваются, оружие в руки – и в строй.
– Все автоматчики временно поступают в распоряжение командира стрелковой роты старшего лейтенанта Кривцова. Через полчаса всем быть на передовой. – Лейтенант посмотрел на ребят, грустно улыбнулся: – Ничего, мальчики… Я на вас надеюсь. Сержант Серпухов, ведите.
Вышли за село, впереди открытое поле, чистый снег поблескивает на солнце, слепит глаза. Подставишь лицо – пригревает ласково. Совсем весна.
На ходу Серпухов дает инструктаж:
– На передовую будем добираться двумя тропами. Вы пойдете той, что ведет к самолету, – приказывает он первому отделению, – а вы – правее, где телега разбита. – Это уже касается второго отделения.
Тропы эти Гурину знакомы, не раз приходилось и ночью и днем пробираться ими на передовую и обратно, Больше всего проторили дорогу солдаты мимо самолета. Грохнулся тут как-то на брюхо огромный немецкий транспортник, фюзеляж из гофрированного железа, будто шифером обшит, – немного не дотянул он до своих. Теперь хорошим ориентиром служит этот самолет. И укрытие – тоже неплохое. Бывало, бегут с передовой, доберутся до самолета – все, считают себя спасенными. Отдохнут под ним, как под скалой, потом еще одна-две перебежки – и дальше идут спокойно в рост, пули уже не достают.
И на передовую – тоже самолет веха. Бросится к нему солдат, передохнет, наберется сил и – вперед, Два-три раза упадет, переждет, пока немец отстреляется, потом сделает последний рывок и – в ход сообщения. Тут уже длинный «ус» ведет на самую передовую…
– Давай, Гурин.
На самолетной тропке он оказался первым. Побежал рысцой, сберегая силы для последних перебежек. Бежит и рассчитывает, где упасть. Однако по нему не стреляют, и он не падает. Выскочил на бугорок, прикинул£ «Может, добегу без остановки до самолета? Нет, не стоит…» – и он плюхается на мокрый снег. И в тот же миг две пули чиркнули рядом. «Вот гады…» Лежит, прикидывает – далеко ли до самолета, успеет ли за одну перебежку добраться, или лучше это расстояние преодолеть за два раза? Если бы на полпути была воронка… Она, кажется, есть…
Ох эти перебежки под огнем у врага! Тут любой предмет кажется спасительным. Самолет, телега, воронка, камень, кустик, бугорок – все годится, у всего ищешь защиты, завидев, спешишь к ним и припадаешь, как жаждущий к роднику.
Гурин окончательно решает до самолета сделать две перебежки: раз уж они начали бить прицельно, рисковать не стоит.
Еще издалека, с разбега ныряет под самолет, как в воду. На мокром снегу брюхом проехался, ожидал, что стукнется головой о железо, но вдруг уперся во что-то мягкое. Поднял голову, шапку сдвинул с глаз – видит, два пожилых солдата сидят, смотрят на него, как на пришельца с другой планеты.
– Ну что? – спрашивает Гурин, чтобы не молчать.
– Бьет… – говорит один. – Пристрелял, не дает голову высунуть. Из крупнокалиберного бьет, изрешетил весь самолет.
И тут, как бы подтверждая правдивость слов солдата, забарабанили по гулкому пустому фюзеляжу тяжелые пули. Они пригнулись.
– Да, бьет. А что же делать?
– Темна дожидаться надо.
– До темна далеко, – сказал Гурин и стал натягивать шапку потуже, готовясь рвануться вперед; кучей скапливаться нельзя, тем более за ним бегут другие: немец может накрыть всех минами.
Пока Гурин собирался с духом, выглядывал из-за самолета – высматривал защитные ориентиры, услышал, кто-то сзади упал, задышал тяжело. «Ну вот, досиделся. Пора!» Однако оглянулся, любопытно узнать, кто это догнал его. Видит: Аня поправляет на себе сумку, закидывает ее за спину, вытирает лицо. Гурин улыбнулся ей, но она не приняла его улыбки, лицо ее исказилось злобой, она закричала:
– А вы какой… матери тут сидите? Ишь пригрелись, как птенчики в гнездышке! А ну сейчас же бегом на передовую! Бегом!.. Вашу мать!
«Что это с ней! Чего она вдруг так на меня?» И стыдно стало Гурину: наверное, и в самом деле слишком долго он засиделся здесь, даже Аня не выдержала. «Но зачем же матом, да как-то нескладно?..»
– Ладно, – огрызнулся Гурин. – Не кричи, – и еще раз натягивает шапку потуже.
– Гурин, стой! – Она сердито обернулась к солдатам: – Кому сказано? Бегом!
Солдаты недоуменно переглянулись, но повиновались, рванулись оба разом, побежали.
– Прости, пожалуйста, – сказала Аня хмуро, не глядя на Гурина, – не сдержалась. Сачки чертовы! Они еще утром из санчасти пошли к себе в роту и вот до сих пор идут. Нашли укрытие.
Гурин молчал, ему было почему-то неловко. Увидел, кто-то еще приближается к самолету, сказал, глядя в сторону:
– Я пошел… Пора…
– Ну, иди… совестливый.
_______
Скопившись в траншее, автоматчики ждали распоряжений. Сержант Серпухов побежал куда-то докладывать о прибытии, а с другой стороны на них наткнулся какой-то офицер в фуражке с большим квадратным козырьком и в плащ-накидке поверх шинели.
– Это что за народ? Откуда?
– Автоматчики.
– Наконец-то! Кто старший? Позовите сержанта!
– Я здесь, товарищ старший лейтенант. Сержант Серпухов, – вовремя успел тот вернуться.
– Иди сюда, – позвал его старший лейтенант. – Вот, видишь, высотка? Она у меня как прыщ на… Надо провести разведку боем. Окопчики видишь у самого подножия высотки?..
Старший лейтенант продолжал объяснять сержанту задачу, но Гурин уже не прислушивался: при словах «разведка боем» у него все внутри опустилось, как в первый раз. Никак не привыкнет и за это ругает себя, косится на ребят – не заметили бы, а сам знает: побледнел он и в лице ни кровинки.
Подошел сержант:
– Будем штурмовать высотку. Рассредоточьтесь. Через пять минут пойдем, будьте готовы.
За это время Гурин успел проследить весь свой путь до самой высотки. Нейтральная полоса вся была изрыта воронками, и он наметил себе пункты передышки. По команде «Вперед!» вывалился за бруствер, пробежал несколько метров и упал, хотя немцы по нему еще и не стреляли. Он тут же вскочил и побежал дальше. Пули зачвиркали вокруг, и он нырнул на землю. Полежал, подхватился, на ходу дал рассыпную очередь по немецким траншеям и снова упал. Лежит, дышит тяжело. Решает: «Пора оглянуться – где там наши». Не отрывая головы от земли, посмотрел вправо – автоматчики продолжают перебежки, но впереди пока не видно никого. «Вырвался вперед. Хорошо: подожду и заодно передохну. Только бы немцы не прибили. Не буду шевелиться, пусть думают, что ухлопали». А немцы уже всполошились, открыли стрельбу из всех видов оружия, пулеметы строчат со всех концов, штук пять, не меньше. Лежит Гурин, ждет, пока поравняются с ним остальные. И чувствует, что что-то получилось не так: солдаты прекратили перебежки, лежат по всей нейтралке, то ли побиты, то ли так же, как Гурин, залегли.
И вдруг шпокнуло где-то позади, взвилась вверх с шипением зеленая ракета – отход. Вот те на! Откуда-то донесся голос сержанта:
– Отходите!
Ожили автоматчики, поползли, побежали один за другим обратно. И тут немцы снова как взбесились: открыли такую пальбу, что над полем стоял сплошной свист от пуль. «Обрадовались! Герои – бить в спины убегающим! А наши хоть бы прикрыли… Но пора и мне», – решает Гурин. Вырвался вперед, теперь бежать дальше всех. Туда был первым, обратно – последним оказался. Осматривается, собирается с духом. Наконец рванулся – побежал. Ух, как резанули воздух вокруг головы пули! Упал, снова побежал, еще, еще, наконец кубарем свалился в траншею. Сел на дне, привалился к стенке – отдышаться не может. Жив! Жив!.. Жив… Еще раз сбегал туда и вернулся. Теперь меньше осталось. Но сколько! Если бы знать – сколько раз ему предназначено пытать свою судьбу!
Наверное, и получаса не прошло, как, слышит Гурин, передают по цепи: приготовиться к атаке. После артподготовки по сигналу красной ракеты снова на штурм высоты. Касается всех – и автоматчиков, и стрелков.
Завыли снаряды, завизжали над головами, задымилась высотка, расцвела фонтанами взрывов.
– Вперед! Вперед!
Пошел Гурин снова своей дорогой, только уже не падал в «свои» воронки, а бежал, бежал, пока немцы не опомнились от артналета и не очень стреляли. Но такая благодать длилась недолго. Не успел затихнуть наш артналет, как тут же заработали пулеметы противника. Залегла пехота, залегли автоматчики.
– Вперед! Вперед! – надрывался Серпухов.
А куда вперед, если головы нельзя поднять?
Но вскакивают, перебегают. И падают люди, гибнут. Огневой заслон у немцев плотный, – видать, перехитрили они наш артналет.
Залегли. И команды уже никакой не подается – ни вперед, ни назад…
И вдруг – зеленая ракета взвилась. «Да пропади ты пропадом такая война! Опять назад, опять немцам спину подставляй! Не могли уж как следует подавить пулеметные точки!» – ругается про себя Гурин.
Срывается и бежит обратно. Добежал. Опять жив! Может, сегодня на этом наконец закончится эта беготня? Сколько можно!..
Прошел час, два, Гурин отдышался, пришел в себя, а они, командиры, всё молчат. Наверное, придумывают что-нибудь другое. Похоже, старший лейтенант атаками в лоб насытился, успокоился. «Может, доживем до завтра…» – думает Гурин. И тут, будто в ответ на его мысли, раздается команда:
– Приготовиться к атаке!
Снова заговорила артиллерия, снова высотку охватил огневой смерч. Казалось, после такого налета там уже ничего живого не останется.
– Вперед! В атаку!
Пулей вылетел Гурин из траншеи. Он твердо усвоил, что только в быстроте его спасение и его успех: опередить пулеметную очередь, опередить снайперскую пулю, опередить мину – только так, только поэтому он и жив пока…
Несмотря на губительный артналет, немцы снова ожили и стали поливать штурмующих пулеметным огнем. Цепь залегла, и тут же по ней стали бить минометы. «Нет, тут лежать нельзя, надо броском вперед…» – решает Гурин и, пригнувшись, бросает себя дальше. Мины рвутся вокруг, но он не обращает на них внимания, торопится как можно ближе прижаться к немецким траншеям. И вдруг слышит: летит мина, и звук от нее необычный – она уже не свистит, а как-то пофыркивает. «На излете…» – молнией пронзила догадка, и он нырнул головой в снег. В тот же миг раздался взрыв, в нос ударил противный запах пороха, на спину посыпались комья мерзлой земли. В ушах остался долгий тугой звон. Полежав, Гурин отряхнулся, поднял голову и увидел метрах в десяти правее от себя Аню. Она бежала к раненому, но на полпути вдруг упала как-то неестественно. «Ранило!» – догадался он и бросился к ней. Подхватил под мышки, потащил в траншею. Тяжелая, будто свинцом налитая, она пыталась идти сама, но лишь корчилась от боли и сердито отдувалась. Гурин опустил ее на дно траншеи, она застонала.
– Ранило? Куда? – пытался помочь ей Василий.
– Куда? Куда? Проклятый фриц, наверное, специально целил, чтобы стыдно было на перевязку ходить…
– Вперед! Вперед! – сквозь выстрелы доносилась команда.
– Кто позволил? Кто приказал возвращаться в траншею? – старший лейтенант пнул Гурина под зад сапогом. – Кто приказал? Вперед! Сейчас же вперед! – истерично кричал он, размахивая пистолетом. – Или я сейчас же расстреляю на месте, как собаку! Как труса!
– Ранило вот… – попытался оправдаться Гурин.
– Вперед!
Покарабкался Гурин из глубокой траншеи, побежал догонять наступающую цепь. Догнать ее было не трудно: цепь дальше не продвинулась. Перебежками Гурин добрался до самых передовых и тоже залег: пулеметы поливали их перекрестным огнем.
Стало смеркаться, а до темноты надо было ворваться в немецкие окопы. «Сейчас бы – броском вперед. Всем!» – подумал Гурин. Но команды не было. Опять что-то затихло сзади, и только впереди захлебывались немецкие пулеметы.
Видит Гурин: один по одному начали отход, кто ползком, кто короткими перебежками. И тут на него напало какое-то остервенение: «Не пойду назад! Не пойду! Сколько можно? Пусть убьют тут, и пропадите вы все пропадом, мать вашу… Вояки, командиры, называется: гоняют туда-сюда, туда-сюда, как нарочно… С меня хватит! Сейчас поднимусь, и пусть фриц проклятый прошьет меня очередью. Пусть! Пусть! – Гурин терзал головой землю, словно психический приступ какой напал на него. – Нет, не надо… Не надо раскисать. Я должен жить, жить, жить!..» И он рванулся к своим траншеям. На поле уже почти никого не осталось, кроме убитых, поэтому палили в основном только по нему, пули визжали вокруг головы, как осы, шпокали разрывные у самых ног, а он бежал, падал, снова бежал. И вот наконец спасительный окоп, спрыгнул в него, просвистели над траншеей запоздалые пули. Все! Опять живой! Неужели опять невредим?!
Стемнело. То с одного фланга, то с другого немцы изредка пускали в нашу сторону длинные очереди трассирующих пуль. Бросали осветительные ракеты – наверное, ждали от нас очередной атаки. Но у нас пока было все тихо. Солдаты уже начали поговаривать об ужине, готовили котелки – вытирали их, выдували из них землю. Кто-то с матом выбросил свой за бруствер: продырявлен пулей или осколком.
Отдохнув немного, Гурин пошел по траншее искать своих. Встретил совсем немного ребят, человек пять, они, сбившись сиротливой кучкой, сидели в развилке траншеи, курили. От них он узнал, что сержанта тяжело ранило и его унесли санитары.
– А как же мы?
– А что мы? Мы остаемся в этой роте. У старшего лейтенанта.
– Говорили же – временно?
– Может, и временно…
Гурин толкнул Кольку Шевцова:
– Дай… – он кивнул на цигарку.
– Ты че? То отдавал табак, а теперь – дай… – Он полез нехотя в карман, достал жестяную коробочку.
– Нет… Дай докурить… Оставь «бычка». – Гурин знал, что цигарки ему не свернуть – руки все еще дрожали.
– К концу самое сладкое и отдавай, – Шевцов сделал две сильные затяжки, отдал через плечо окурок. Василий затянулся раз, другой, по телу разлился какой-то дурман, голова пьяно закружилась.
Ужин на передовую принесли в термосах, и солдаты, обрадовавшись, что за ним не надо бежать куда-то, выстроились с котелками к раздающему.
Немцы незаметно прекратили стрельбу и даже ракеты перестали бросать, наверное совсем успокоились и тоже ужинают – едят свой гороховый суп. А у нас перловка с тушенкой. Солдаты зовут ее презрительно «шрапнель», а Гурину она нравится, дома такой сытной и вкусной пищи он никогда не ел, все как-то впроголодь жили. Мать одна, их три рта – где ей было одной насытить всех?.. Василию нравится и пшенная каша, и овсяная, и кукурузная, в батальоне выздоравливающих он даже баланду из какой-то непонятной крупяной сечки ел с удовольствием и никогда не жаловался, как другие. Бывало, маловато ее клали в котелок, не наедался частенько, но это уже дело другое: такова норма.
– Вот она где, шрапнель, надо было днем ею шарахнуть по фрицам, высотка была бы нашей! – шутил какой-то остряк.
Поесть не успели, прибежал связной.
– Вы – автоматчики? Срочно все к командиру роты. Бегом.
– Не дал поужинать спокойно, – заворчали солдаты, однако засуетились: кто стал быстро доедать кашу, кто принялся вываливать ее за бруствер, весело заскрежетали ложки о котелки, подчищают остатки. – Пошли, а то будет орать.
По ходу сообщения побежали они вслед за связным. Еще издали увидели: стоит Кривцов, отдает распоряжения направо и налево, руками размахивает, только полы палатки взлетают, как от сильного ветра.
– Пришли автоматчики, – доложил связной.
– Где?.. – обернулся командир роты. Заорал: – А где остальные? Всех сюда!
Автоматчики угрюмо молчали, переглядывались: «Он что, дурак?»
– Угу, – кашлянул Кривцов. Наверное, дошло до него, где остальные. – Ладно. Ты, – указал он на Проторина, – бери пулемет. Будешь первым номером. Ты – вторым, – ткнул он в Шевцова и отделил их от остальных.
Те замешкались, хотели что-то сказать, но комроты закричал:
– Быстро! – и рука его вытянулась в сторону РПД, который лежал на бруствере на боку, задрав вверх одну сошку, словно зарезанный баран ногу.
Сергей поднял пулемет, пошел куда-то по траншее вперед, вслед за ним с сумкой с запасными дисками поплелся Шевцов.
– Ты, – указал Кривцов на Гурина, – бери ружье.
«Так и знал! – выругался Василий про себя. – Чего не хочешь, то обязательно будет!» Это ПТР, длинную эту железную палку, он невзлюбил с первого раза, еще когда только увидел в запасном полку, – неуклюжее, тяжелое, примитивное оружие. «Разве с ним, – думал он, – можно обороняться против танков?..» И вот оно, как нарочно, достается ему. «Что бы стать мне первым или хотя бы вторым! Достался бы пулемет». Но делать нечего, потянул Гурин нехотя эту железину.








