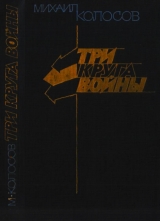
Текст книги "Три круга войны"
Автор книги: Михаил Колосов
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 30 страниц)
– Орешки – самое простое дело: обернул фольгой, разровнял складки – вот тебе и «золотым» стал орешек.
– Вы, наверное, хорошим пионервожатым были? – спросил Гурин.
– Был! Был и пионервожатым! Только давно это было. А последнее время я, братец мой, работал на Дону вторым секретарем райкома партии.
– И уже игрушки не делали?
– Как же не делал? Делал! Перед Новым годом такой дым коромыслом в доме поднимался – хоть святых выноси. Целая фабрика открывалась. Жена обычно ругается, а ребятишкам радость. И я с ними тоже радуюсь. Сделаем какую-нибудь штуковину – любуемся, ребята несут ее матери, смотришь – тоже заулыбалась, радуется нашей работе. А нам лучшей награды и не надо. Меньшой бежит, сообщает по секрету: «Пап, мамке понравилось, сидит улыбается. Подарим ей?» – «Подарим», – говорю. «Сейчас?» – «Давай сейчас».
Бутенко и Гурин слушали майора, а сами стол готовили: газетами застлали край капитановой койки – она всех удобнее – в центре. Открыли тушенку, сала нарезали, хлеба. Кружки вытерли. Одной не хватало, капитан вызвался пить из крышки от котелка. На середину «стола» укрепили в пустой консервной банке белую стеариновую свечу. Есть будут ножами и ложками. Для гостьи приготовили трофейную немецкую складную ложку-вилку…
Шурочка вошла в землянку, растерянно улыбаясь, поискала глазами майора, козырнула:
– Товарищ майор, разрешите?.. Я по вопросу обмена опытом комсомольской работы…
Майор засмеялся раскатисто:
– Знаем мы ваш обмен!.. Милости просим, товарищ младший лейтенант Шура, – он пожал ей руку.
– О, вы знаете, как меня зовут!
– А кто теперь у нас в батальоне вас не знает! – сказал капитан и тоже протянул ей руку.
– Ну, что затаился? – кивнул майор на Гурина. – К тебе за опытом, ухаживай за дамой.
– Раздевайтесь, Шура, – проговорил Гурин.
– Эх, молодежь! – крякнул майор. – Утром не поднимешь, вечером не найдешь. Разрешите, Шурочка, вашу шапочку. Так. Вашу шинельку… Вот, – майор отобрал все это у нее, повесил на гвоздь поверх своей шинели. – Садитесь, пожалуйста, – похлопал он ладонью рядом с собой. – Вот так. А вы, мужики, вдвоем на комсомольской постели устраивайтесь. Правильно я распорядился? – спросил он у Шуры. – Возражений нет?
– Очень даже правильно! – в восторге воскликнула Шура.
– Ну что, братцы? – капитан Бутенко дотянулся, рукой до бутылки. – Надо проводить нам старый год. Он все-таки был неплохим, принес нам много радостного. Помянем его добром. – Бутенко разлил водку по кружкам, плеснул себе в крышку. Посмотрел и еще добавил.
– Смотри не обидь себя, – засмеялся майор.
– Посудина, едрит ее… Извиняюсь… Посудина непривычная, не поймешь – то ли много, то ли мало. Посмотри, майор, на донышке. А то будешь потом упрекать, – шутил Бутенко.
– Донышко-то какое! Ишь, хитрец! Ну ладно. Значит: «Прощай, старый год! Ты был хорошим, пришли нам своего меньшого братца, чтобы был еще лучше». Так, что ли?
Чокнулись, выпили, закусили, и наступило молчание.
– Это называется – переломный момент: уже не трезвые, но еще и не пьяные, – сказал капитан, берясь снова за бутылку. – Самое скверное состояние.
– Откуда ты все знаешь? – спросил майор. – Вроде трезвый мужик.
– Старый шахтер. Пить умеем! Работать умеем и пить! Верно, комсорг? Земляк мой, донбассовец, – сообщил он, обращаясь к Шуре. – Так как? Еще по капочке?
– По донышку, – сказал майор и засмеялся. – По твоему донышку.
Выпили еще – верно, веселее стало, заговорили то по одному, то вдруг все сразу, зашумело застолье.
– Не прозевать бы нам встретить Новый год, – майор посмотрел на часы. – Приготовь, Бутенко, – уже скоро.
Капитан снова наполнил «бокалы», все взяли их в руки, смотрели на майора и ждали команды. Наконец он вскочил:
– Все! Двенадцать! С Новым годом, друзья! С новым счастьем! За победу! За победу в этом году! Пусть она придет как можно быстрее!..
Сдвинув кружки и одну крышку, все слушали майора Кирьянова. Он обвел присутствующих широко раскрытыми глазами, сказал:
– И еще. Пусть у каждого исполнятся его личные надежды и желания! С Новым годом, друзья!
– С Новым годом!
– С новым счастьем!
Шура и Василий смотрели друг другу в глаза и медленно цедили из кружек уже потеплевшую водку.
После двенадцати застолье стало по-настоящему шумным, майор рассказывал анекдоты – веселые и вполне пристойные, капитан несколько раз порывался тоже рассказать анекдот, но всякий раз останавливал себя:
– Не, не… Это не при девушках… Не… Это шахтерский… Давай ты, майор.
Вскоре Шура засобиралась домой. Гурин взглянул на Бутенко, тот разрешающе подмигнул, а потом еще и толкнул локтем в бок – мол, не сиди, собирайся. Пока майор ухаживал за Шурой, Гурин уже надел шинель и нетерпеливо мял в руках шапку.
– Пароль знаете? – спросил вдогонку капитан.
– Знаем, – сказал Гурин, и они с Шурой очутились на воле.
– Ой, как хорошо! А мы сидим в норе… – сказала она, вдыхая легкий морозный воздух.
Гурин взял Шуру под руку, она тут же прижала локоть к своему боку, и они пошли. Отойдя подальше от землянок, остановились. Гурин расстегнул Шуре шинель и, поддев руки ей под мышки, прижал ее к себе. Она доверчиво прильнула к нему, он нагнулся, отыскал ее губы и крепко поцеловал. Она ответила ему робко.
– Шура… – прошептал он. – Неужели это правда?
– Да… – шевельнула она губами, глядя ему в глаза.
Они шли медленно, молча и целовались через каждые несколько шагов.
У ее землянки Гурин приостановился, но она потянула его в дверь:
– Чего мы будем маячить на виду?..
Они вошли в землянку, она закрыла дверь на крючок.
……………………………………………………………………………………………………………
…Она гладила его волосы и приговаривала:
– Милый… Милый мой…
– Шурочка, – шептал он, – неужели это правда?
– А ты все еще не веришь?
– Я счастлив, Шура!.. Я люблю тебя…
– Ия, милый…
Какое-то время спустя дверь в землянку кто-то задергал снаружи. Шура зажала Гурину рот, насторожилась.
– Шура, открой… – послышался мужской голос.
– Кто там? – спросила Шура.
– Я. Открой, – нетерпеливо и настойчиво попросил тот.
– Что вы надумали? Глухая ночь, я сплю…
– Ты не одна?
– Одна. Что за допрос?
– Почему ты не была с нами? Я посылал за тобой…
– Я нездорова…
– Тебя не было дома.
– Я просто не отвечала, потому что нездорова.
– Открой!
– Не выдумывайте, капитан! – строго сказала Шура. – Что вы, в самом деле? Я шум подниму, вам будет стыдно. Завтра поговорим.
Капитан что-то промычал, поскрипел снегом – ушел.
– Кто это? – спросил Гурин.
– Да комбат наш. Напился, наверное, вот и пошел куролесить. Тебе пора, милый. Мне очень жаль расставаться, но мы ведь не дома, в армии, на войне.
Дома, несмотря на поздний час, Гурин долго не мог уснуть, размечтался. «Вот она, настоящая любовь!.. Любовь? Опять любовь… Что же это такое?» Вспомнилась Маруся, а потом и Марыся. Ведь и там была любовь. Была! Он страдал, мучился в разлуке. А теперь Шурочка… Нет, Шурочка – это совсем другое, ни с чем не сравнимое. Это, видать, прочно. Тут лейтенанту Елагину было бы не в чем его упрекнуть: он влюблен по-настоящему.
И Гурин стал мечтать уже о том, что вот кончится война и они с Шурочкой поженятся и поедут – жить к нему домой. Он уже и письмо в голове сочинял матери, но написать его пока не решался.
И вдруг однажды ночью объявили: «В ружье!», он подумал, что это очередная учебная тревога, и собирался с расчетом на скорое возвращение в лагерь.
– Ничего не забывайте, – приказал майор, убегая в штаб. Но и эти слова Гурин принял за обычные, учебные. Однако тревога есть тревога, и они с капитаном, как всегда, аккуратно собрали свои вещи, сложили в железный ящик партийные и комсомольские документы, закрыли на замок и понесли к штабу. Там уже стояла повозка, и Кузьмин грузил в нее штабное имущество. Они положили в эту же повозку свой ящик, связку разной литературы, вещмешки, и Гурин побежал в свою подопечную первую роту. Они с капитаном разделили роты на случай боевой тревоги: Гурину достались первые две, капитану третья, четвертая и разведвзвод. По давней привычке, Гурин больше находился в своей родной первой роте.
Когда он прибежал, курсанты уже были построены и командиры рот докладывали комбату о готовности. Выслушав доклады, комбат почему-то не спешил подавать команду «Шагом марш!», обстоятельно расспрашивал у офицеров о вооружении, боеприпасах и тут же приказывал пополнить запас патронами и гранатами. Похоже, что тревога была не учебной…
Наконец колонны тронулись в путь. Вышли на дорогу и взяли направление на город. Да, теперь уже точно – вперед, на запад. Гурин оглянулся на лагерь, подумал: «А как же пулеметный? Идет ли он с нами? Или остался? Или у него другое задание? Там Шурочка…» Спросить было не у кого и неудобно…
На западе небо полыхало пожаром, земля вздрагивала от тяжелых, приглушенных расстоянием разрывов.
Гурин поравнялся с лейтенантом Максимовым, хотел спросить у него о маршруте, но тот опередил его своим вопросом:
– Ты там ближе к начальству, не слышал куда?
– Нет, не слышал. Все случилось неожиданно.
– Говорят, Наши в наступление пошли. Прорвали фронт, Варшаву окружили.
– Думаешь, на Варшаву?
– Не знаю.
«Вот она, проклятая Германия!»
 очью батальон прошел сквозь спящий, погруженный в темноту польский городок и вышел в поле. Погода была отвратительной – дул сильный ветер, мокрый снег сменился сечкой, дорога сделалась скользкой. Намокшие шинели отяжелели. Курсанты шли молча, устало, втянув головы в оттопыренные воротники.
очью батальон прошел сквозь спящий, погруженный в темноту польский городок и вышел в поле. Погода была отвратительной – дул сильный ветер, мокрый снег сменился сечкой, дорога сделалась скользкой. Намокшие шинели отяжелели. Курсанты шли молча, устало, втянув головы в оттопыренные воротники.
– Не растягиваться! Подтянись! – время от времени передавалась команда. И всякий раз после нее в колонне наступало оживление – передние убыстряли шаг, последние подбегали, погромыхивая котелками; колонна на какое-то время уплотнялась, но потом снова незаметно растягивалась.
К утру стали уставать, все чаще и чаще спрашивали у командира взвода:
– Товарищ лейтенант, привал скоро?
– Прошли-то всего ничего – уже расхныкались, – бодрым голосом упрекал курсантов Максимов, а сам толкал Гурина в бок, шептал на ухо: – Сбегал бы вперед, поближе к начальству… Что они, в самом деле, думают? Люди устали. И сам я уже еле ноги волоку.
Гурин прибавлял шагу, догонял голову колонны, пристраивался к парторгу и замполиту. Майор, тяжело опираясь на палку, оборачивался к нему, спрашивал:
– Ну, что там?
– Устали. Привал просят.
– Известно, о чем солдат мечтает в походе! О привале. – Он усмехался. – Разве не так? А?
«Сам еле идет, а все шутит», – удивлялся Гурин.
– На ветру разве можно делать привал? – вдруг спросил он у Гурина серьезно. – А потом – нам приказ: идти форсированным маршем. Фронт наш прорвал оборону противника и пошел в наступление. На нас возложено выполнение боевой задачи, которую мы сможем выполнить только в том случае, если вовремя прибудем к месту назначения.
– Ясно. Об этом можно, наверное, курсантам сообщить? – спросил Гурин у майора. – Когда хоть приблизительно знаешь задачу – оно и идти легче.
– Пожалуй, можно. Никакого тут секрета нет, – разрешил майор и поморщился от боли в ноге.
– Товарищ майор, разве вам обязательно вот так мучить себя? Что вы, не можете сесть на повозку и отдохнуть?
– Обязательно! – сказал он твердо, заглянув Гурину прямо в лицо и обдав теплым дыханием его щеку. – Обязательно! Иначе хрен мне цена как политработнику. Призываю к одному, а делаю другое?
– Но ведь вы ранены?
– И что? Повесить на грудь плакатик: «Я ранен»? Чтоб знали. А иначе как же? – И, приблизившись вплотную к Гурину, ехидно сощурил глаза: – А ты почему идешь со взводом, а не с нами вот здесь? А? Думаешь, не понимаю твоей тактики? Понимаю: чтобы комсомольцы видели, что комсорг вместе с ними, как все. А будь ты все время здесь – они могли бы подумать, что комсорг где-то там зарылся на повозке в солому и дрыхнет всю дорогу. Разгадал твою тактику?
– Наверное, – согласился Гурин неуверенно, потому что он как-то вот так конкретно не ставил перед собой задачи, как вести себя в подобной обстановке. Просто в роте, во взводе он чувствовал себя свободнее, вольнее, чем среди начальства.
– И правильно делаешь, молодец, – продолжал майор. – Если бы ты сам до этого не дошел, я бы тебе подсказал. Но ты «сам с усам». – Он обернулся к капитану: – Верно я говорю, Бутенко?
Капитан забежал вперед.
– Что? Ничего не слышно, ветер.
– Спишь на ходу, Бутенко?
– Нет, пока только дремлю, – признался тот.
– Пойду к Дорошенко, в самом деле – пора подумать о привале. – Сказал Гурину: – Иди обрадуй хлопцев: скоро привал.
Гурин сошел на край дороги, стал поджидать свою роту. Первым шел взвод разведчиков. Лейтенант Исаев, не отнимая руки от подбородка, взглянул на комсорга:
– Ты, Жёра? Ну, что там, привал скоро?
– Скоро, товарищ лейтенант.
– Серьезно?
– Серьезно.
Исаев тут же опустил руку, поднял голову, взбодрился, крикнул своему взводу:
– Мальчики! Подтянись! Скоро привал!
Взвод ожил, заторопился, курсанты заговорили между собой.
Впереди первой роты шли капитан Коваленков и лейтенант Максимов.
– Узнал? – нетерпеливо крикнул Максимов.
– Так точно! – ответил Гурин, и по его веселому тону Максимов все понял, тут же обернулся к взводу и подал команду: – Подтянись! – и тихо, как бы по секрету, только передним: – Скоро привал!
– Кто сказал? – спросил у Гурина Коваленков.
– Майор Кирьянов.
Капитан вышел на обочину дороги, переждал один взвод, максимовский, второму сделал упрек:
– Ну, что вы растянулись! Ну-ка, подтянитесь! Скоро привал…
Последние слова подхватились, как эстафетная палочка, быстро передались от одного к другому и уже унеслись куда-то в самый конец колонны, уже и не слышно их, а только чувствуется, что они сделали свое, взбодрили людей, колонна закачалась живее, энергичнее. Гурин стоит рядом с капитаном, и его распирает радость, будто это он оживил колонну.
Привал устроили в лесной лощинке – тихой и уютной. Где-то вверху в ветвях шумел ветер, а внизу было затишно и тепло. Курсанты повалились кто на кусты, кто прямо на припорошенную снегом землю, кто прислонился спиной к стволам высоких сосен.
Но привал был недолгим, только успели переобуться, немного передохнуть – и снова в путь, пока не остыли.
Фронт громыхал впереди все ближе и ближе, и все были уверены, что идут они под Варшаву. Но вот грохот уже оставался справа, и похоже было, что они заходят с фланга. Когда же на третьи сутки батальон остановился на короткую дневку в большом польском селе, курсанты перво-наперво стали спрашивать у местного населения дорогу на Варшаву, и поляки неизменно показывали куда-то на северо-восток, где действительно гремел фронт. Но еще сильнее гремел он слева от них.
– А там что?
– Там – Познань.
Получалось, что фронт уже был вокруг них. Не попали ли они в окружение?..
Но командиры были спокойны, и курсанты, позавтракав и посудачив немного, улеглись спать, потому что вечером снова предстоял марш.
Политработники втроем заняли отдельный дом с очень гостеприимными хозяевами. И дети – двое мальчишек и девчонка, и сама мать смотрели на них с радостным любопытством и изо всех сил старались сделать им что-либо приятное. Но они так устали, что отказались даже от предложенного обеда.
– До вечера, матка, – объяснял хозяйке капитан. – До вечера. А сейчас будем спать.
Она поняла, посочувствовала им.
– Война – тёнжка, – сказала она и принесла им свежее белье. И как они ни убеждали ее, что им не нужно белье, что им достаточно какой-нибудь подстилки на полу и они по-солдатски на шинелях отлично отдохнут, – она не согласилась с ними и приготовила обе кровати: одну Гурину с капитаном, другую – майору. После этого, пожелав им «добже спать», увела с собой ребятишек.
Майор так натрудил ногу, что не мог сам снять сапог. Гурин помог ему стащить сапоги, майор размотал портянку и обнажил посиневшую и распухшую выше щиколотки ногу. Морщась от боли, он помял ее, потом попросил Гурина:
– Сходи, пожалуйста, позови Люсю.
Люся – лейтенант медицинской службы, батальонный врач – пришла, осмотрела ногу и сказала, что майор зря так безжалостно относится к больной ноге. Она попросила хозяйку нагреть воды, чтобы майор мог попарить ногу, а замполиту объявила:
– Идти вам больше нельзя, товарищ майор. Вы с этим не шутите.
– Ах ты, Люся, Люся! – заулыбался он. – Так и хочется тебе потерять меня где-нибудь.
– Наоборот!
Вскоре хозяйка принесла горячую воду. Люся попробовала ее рукой, предупредила майора, чтобы он потом замотал ногу потеплее, и ушла. И тут же пришел к ним комбат.
– Ну что, замполит? Распаялся, говорят?
– Уже доложила! – прохрипел майор. – Ничего, оклемаюсь до вечера.
– Я думаю вот что, майор, – сказал комбат серьезно. – Вечером, если тебе не будет хуже, уедешь вперед на попутной.
– Куда? Конечный маршрут неизвестен!
– На сколько известен, на столько и уедешь. Возьмешь себе в помощь курсанта побоевее и уедешь. А там подождете нас, и отдохнешь.
– Посмотрим вечером, – сказал замполит.
– Оно и сейчас видно, – кивнул комбат на майорову процедуру. – После этой припарки надо на печи лежать, – комбат улыбнулся, широкие крылья его носа вздрогнули, он пошевелил правым плечом, словно там что-то задевало старую рану, повернулся к двери. – Ладно, отдыхайте.
Гурин с капитанов разделись до белья и нырнули в высокую постель, утонув в пушистой и мягкой перине.
– Едрит твою за ногу!.. – воскликнул капитан, натягивая на себя вместо одеяла такую же пышную перину. И тут же захрапел, не успев согнать с лица блаженной улыбки.
Проснулись они не от общей побудки, а от приглушенного голоса на хозяйской половине: хозяева явно были чем-то возбуждены. Майор поднял голову, прислушался, посмотрел на Гурина, спросил:
– Что там – случилось что?
– Не знаю.
Словно ждал их пробуждения, дверь в комнату тихонько отворилась и в щель просунулась беленькая головенка самого маленького хозяина. На его мордашке был написан такой восторг, словно ему только что подарили дорогую игрушку.
– Пане майоже, – сказал он тихо, поглядывая на спящего капитана, – юж Варшава визволено!
– Варшава вызволена? – переспросил майор. – То есть добже!
– Так! – подмигнул мальчишка майору и скрылся.
«Варшава, Варшава», – только и слышалось из-за двери, пока они одевались. А на улице было всеобщее ликование: поляки одни группами стояли возле ворот, другие ходили из дома в дом, громко извещая соседей о радостной вести – Варшава свободна! Наших курсантов и офицеров на радостях угощали праздничным обедом, оставляли погостить у них подольше.
Гости не меньше поляков радовались освобождению Варшавы, но праздновать с ними долго не могли. Более того, чтобы курсанты не успели поддаться общему настроению и не напились за компанию с местным населением, комбат приказал срочно построиться и – в путь.
Поляки провожали их весело, и в глазах курсантов стояла нескрываемая тоска: такой праздник остается позади! От некоторых попахивало спиртным – успели-таки «причаститься», но офицеры не наказывали их, делали вид, что ничего не замечают, – понимали: такое событие! И соблазн действительно велик – устоять трудно.
Уже на другой день им стало ясно, что Варшава осталась позади, а они шли строго на запад. Их то и дело обгоняли колонны танков, артиллерия на автомобильной тяге, машины, битком набитые солдатами, которые смотрели на пехоту с высоты студебеккеровских бортов, посмеивались и обязательно отпускали уже известные на всех фронтах шуточки.
Курсанты, переделав поговорку, кричали в ответ:
– Люблю пехоту – только идти неохота.
Идти – не ехать; конечно, неохота, но они шли. Шли днем и ночью, иногда делали броски по пятьдесят и более километров. Гурин уже и счет дням потерял – сколько они находятся в походе?.. То ли неделя прошла, то ли больше, а кажется, что целая вечность. Уже и погода давно изменилась – стоит теплая, весенняя, словно батальон попал в южные края.
Наконец они, кажется, догнали фронт: его дыхание чувствовалось совсем близко, и командиры все больше и больше стали о чем-то совещаться, что-то уточнять; остановки следовали одна за другой, пока они не свернули с дороги и не наткнулись на готовые немецкие траншеи. Командиры взводов развели курсантов по ходам сообщения, заняли оборону, как на передовой. Но той напряженности и нервозности, какая обычно бывает на переднем крае, здесь не было: все ходили в полный рост, курсантам разрешили отдыхать, пули над головой не свистели. Только с наступлением темноты фронт, показалось, приблизился: небо на западе побагровело, видны были сполохи пожаров и даже «фонари», подвешенные самолетами.
Батальон находился во втором эшелоне.
Утром комбат созвал всех офицеров и объявил, что наши войска перешли старую польскую границу и вступили на территорию Германии. Окружена Познань. Фронт быстро продвигается вперед. Батальону приказано очистить тылы армии от остатков немецких групп в лесах и населенных пунктах. В частности – впереди немецкий пограничный город Лукац-Крейц. Передовые части прошли его с ходу, вполне возможно, Что там еще остались фаустники и пулеметные гнезда.
Майор поставил каждому подразделению конкретную задачу и наметил пункт сбора – на западной окраине города.
Центральным направляющим по дороге прямо на город шел разведвзвод лейтенанта Исаева, и Гурин присоединился к нему. Исаев не преминул по-своему откомментировать его появление в своем взводе:
– Мальчики! Теперь не дрейфь: с нами комсорг! – и тут же добавил: – А вообще он парень ничего, я его знаю.
Они вышли на шоссе и, растянувшись в две цепочки, направились в город, который вскоре завиднелся на горизонте островерхими кирхами. Сразу за железнодорожным переездом на обочине дороги был укреплен большой щит с надписью: «Вот она, проклятая Германия!» «И когда только успели? – удивился Гурин этому щиту. – Неужели славяне несли его с собой, когда шли в наступление?.»
– Братцы, Германия! – вдруг заорал истошным голосом сержант Грибков, указывая на щит. – Германия!.. – Лицо его исказилось гримасой мальчишеской радости и яростной злобы одновременно. – Дошел! Братцы… до-ше-ел!.. – Из глаз его брызнули обильные слезы, потекли по щекам, но он не замечал их, стоял, словно обезумевший, с неподвижными глазами, протянутой рукой в сторону щита и твердил одно слово: – Дошел!.. Дошел!..
Грибков – командир отделения, белорусский парень лет двадцати трех, обычно тихий, отличался больше своей замкнутостью, чем экспансивностью, сейчас удивил всех таким своим взрывом. Но чувства его были легко объяснимы – они были у всех такие же.
– Германия! Германия! – подхватили радостно и другие. Отставшие, не зная еще, в чем дело, заторопились, пустились догонять передних, увидели щит, закричали «ура!» и тут же все, словно по команде, принялись палить в небо из автоматов.
Лейтенанту с трудом удалось восстановить порядок, он подбегал почти к каждому, бил по рукам и приказывал:
– Прекратить стрельбу! Прекратить стрельбу!..
Мало-помалу утихомирились, и только Грибков что-то яростно топтал, бил каблуками, словно давил ядовитую змею.
– Вот тебе, зараза!.. Вот тебе!..
Исаев подошел к нему, с минуту смотрел, потом спросил строго:
– Сержант Грибков! Что вы делаете?
– Проклятую землю топчу – на ней выросла фашистская зараза. Вот тебе, вот тебе!..
– Вы что, с ума сошли?
Грибков поднял на лейтенанта искаженное злобой заплаканное лицо, прокричал:
– Хуже! Вы видели, что они сделали с моей Гомельщиной? Со всей Белоруссией?.. Со всей нашей землей, где они побывали?.. Я заходил в свое село – одни трубы! Отца и мать живьем сожгли, а сестренку еще раньше куда-то угнали… Я поклялся: если дойду – за все рассчитаюсь! За все!
– Возьмите себя в руки, сержант Грибков! Нельзя же так распускаться, в самом деле. Всё мы видели, и все мы знаем, зачем идем сюда. Вытрите слезы и постройте свое отделение. – Лейтенант вышел на середину дороги, встал по стойке «смирно», скомандовал: – Взвод, становись!
Когда взвод был построен, лейтенант повернул его налево, прошел вдоль строя, сказал хмуро:
– Мы в Германии. Я понимаю ваше состояние – и радость, и волнение… Но распускаться нельзя, в воздух палить патроны рано: вся Германия еще впереди, мы сделали по ней лишь первый шаг. Это вам не Румыния, тут бои предстоят ожесточеннее, чем где бы то ни было: перед концом фашисты будут хвататься за любую соломинку. Это знайте, помните и будьте все время начеку. Если мы раньше времени расслабимся – будет худо. Впереди город. Первое и второе отделения пойдут со мной левой стороной улицы, третье и четвертое – правой. Идти цепочкой, как можно ближе к стенам, смотреть в оба по всем этажам, по всем окнам. – Он обернулся к Гурину: – Ты с кем пойдешь? Может, со второй группой?
– Хорошо, – согласился Гурин.
Они вошли в город. На улицах тихо и безлюдно, как в глухую полночь. Но был день, окна поблескивали чистыми стеклами в лучах яркого и по-весеннему теплого солнца. Несмотря на разбитые кое-где витрины и вывалившиеся на тротуар осколки, город выглядел чистеньким, будто только что выметенным и помытым.
Гурин шел вслед за сержантом Грибковым, шарил глазами по серым каменным этажам, по непривычным без подоконников окнам, по островерхим крышам и машинально читал длинные вывески: «Bäckerei», «Schuhmacherei», «Brotbäckerei» – и вдруг совсем короткая: «Bier». Напрягая память, старался перевести их, но не сразу соображал, что они значат. И только увидев над входом в металлической рамке бронзовый сапог или нарисованную пивную кружку с большой шапкой пены, догадывался: «Сапожная», «Пиво».
Грибков оглянулся на Гурина, сказал со скрипом!
– Ни души! Смылись, гады!
И тут над головой что-то стукнуло – будто кто-то форточку закрыл. Все остановились, Грибков кивнул своему отделению и нырнул в подъезд, Гурин последовал за ним. На нижней площадке лестницы дорогу им преградил убитый немецкий солдат. Грибков перепрыгнул через него, побежал наверх. На втором этаже оглянулся, приказал двум курсантам обследовать комнаты, а сам заспешил выше. На третьем снова оглянулся, еще двух оставил. На четвертом этаже сам вошел в открытую дверь, крикнув предварительно:
– Хенде хох!
В передней было пусто, на пороге в спальню лежал толстый немец в каске и в зеленой шинели с черным воротником. Грибков переступил через него, заглянул в спальню.
– Никого… Наверное, сквозняк форточкой хлопнул. – Только теперь он посмотрел на убитого. Тот лежал вниз лицом на куче какого-то барахла, которое он, видать, нес в охапке, когда его настигла пуля. – О, видал: и у своих тащил, гад! Привычка, что ли?
Они огляделись. Чистота, блеск хрусталя и фарфоровой посуды в шкафу, на полу коврики, белые салфетки на серванте и на столе. Над столом большой зеленый абажур. Прошли на кухню – там пахло свежим кофе. Две маленькие чашечки в блюдечках на подносе стояли на маленьком белом столике. В белой раковине под блестящим медным краном лежали две тарелочки, словно их только что собирались мыть.
– Смотри, старший сержант, теплый еще, – удивился Грибков, потрогав рукой блестящий кофейник на газовой плите.
Гурин приложил руку – действительно, кофейник был теплым.
– Видал, как быстро смотались: даже кофеек допить не успели.
Они снова вернулись в зал.
– Жили же, гады! Что им еще надо было? От жира взбесились, – Грибков взял автомат за ствол и ударил раз, другой прикладом по шкафу с посудой. Стекла зазвенели, осколки тонких белых чашек с золотыми ободками посыпались на пол.
– Ну, это ты зря, – сказал Гурин осторожно, помня его истерику на границе.
– Что зря? Что зря? – обернулся он.
– Что в нашем тылу – это уже наше. Трофеи.
– Наше? Думаешь, будем это барахло собирать и раздавать нашим пострадавшим? Хрена с два! Да и на кой он мне нужен, этот трофей! Что он, вернет мне мать или отца?
– Не надо. Глупо вымещать зло на вещах, – сказал спокойно Гурин.
– Это фашистское добро! Наверняка – награбленное. – Он взял за ножку низенькую, обитую сверху ярким бархатом табуреточку. – Видал, на чем сидели? – и он запустил ею в огромное зеркало в углу. – Пошли.
Пройдя город насквозь, они вышли в условленное место, не встретив ни одной живой души.
– Смылись! – зло заключил Грибков, поглядывая на запад.
– Запугали фашисты население – вот все и ушли. Они же в своей пропаганде Красную Армию изображают как людоедов, как живодеров, рисуют нас с рогами, с кинжалами, вампирами, – Гурин попытался объяснить обстановку.
– «Запугали»! – покосился на него Грибков. – Просто – знает кошка, чье мясо съела, вот и убегает.
Собрался весь взвод, подошли курсанты и из других взводов, стали ждать дальнейших указаний. Все возбуждены, делятся впечатлениями. Кое-кто обогатился трофеями: один зажигалочку нашел, другой авторучку, третий подобрал портсигар и теперь выяснял, не серебряный ли он.
– Ну, а если серебряный, что ты с ним будешь делать? – спросил его Исаев.
– Ничего, – ответил курсант.
– А все-таки, что случится, если он окажется серебряным?
– Да ничего, товарищ лейтенант! Просто буду показывать всем и говорить: «Серебряный!»
– И что тогда?
– Ничего, – снова сказал курсант.
– Какая ценность в том, что он серебряный? – допытывался Исаев.
– А хрен его знает, – признался курсант. – Говорят же: «Серебро! Золото!» А я его видел, что ли?
– Если окажется не серебряным, выбросишь?
– Ну да! Зачем же? Вещь нужная: табачок спрячу – не промокнет!
Исаев снисходительно улыбнулся.
Стоят курсанты группами, наперебой рассказывают, какой им представилась Германия, и постоянно, как рефрен, слышится:
– Да, видать, жили, черти, по-барски! Нахапали!
– Культурненько жили!
– Чистенько. Порядок любят. Зашли в одну мастерскую – представляешь: каждый инструментик висит на своем гвоздике! На полу ни мусоринки! Как в аптеке.
Вскоре к ним прибежал связной, под мышкой две заостренных фанерки с надписью «Хозяйство Дорошенко». Одну он прибил тут же на столбе острым концом в сторону города и пояснил:
– Комбат сказал, чтобы все шли туда. Наш штаб на Фридрихштрассе. Вот по этим указателям найдете, а я подожду остальных.
В штабе уже было распределено, какой взвод, какая рота в каком доме размещаются. Поскольку первым с задания вернулся взвод Исаева, его и назначили в наряд. Остальные возвращались постепенно до самого вечера.
Политсоставу батальона отвели целую трехкомнатную квартиру в том же доме, где разместился штаб. Гурин с капитаном втащили в комнату свое имущество – ящик с документами, брошюры, вещмешки. Осмотрели новые апартаменты и остались довольны. В спальне стояла огромная, как баржа, деревянная кровать и на ней гора пуховых подушек и, одна на другой, две перины.
Гурину не сиделось в помещении, хотелось на волю, хотелось пройти спокойно по улицам, осмотреть как следует город – все-таки Германия!
Во дворе он встретил Максимова, тот поприветствовал его радостно, будто расстались они с ним бог весть когда.








