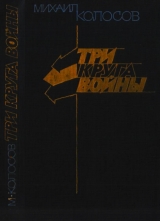
Текст книги "Три круга войны"
Автор книги: Михаил Колосов
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 30 страниц)
Дорогами войны
 высокого правого берега Днепра Гурин оглянулся в надежде еще раз увидеть Марусю, но не увидел ее. И только неутомимый жаворонок продолжал провожать его своей веселой звонкой песней. Невидимый, из высокого поднебесья он весело вызванивал в серебряные колокольцы.
высокого правого берега Днепра Гурин оглянулся в надежде еще раз увидеть Марусю, но не увидел ее. И только неутомимый жаворонок продолжал провожать его своей веселой звонкой песней. Невидимый, из высокого поднебесья он весело вызванивал в серебряные колокольцы.
Солнце пригревало, и солдаты один за другим снимали шинели, перекидывали их через руки или забрасывали на плечи, шли вольготной толпой.
Вел их лейтенант по фамилии Бородулин – человек замкнутый, угрюмый, с усталым, обветренным лицом. Помощником у него был старшина Парыгин – разбитной парень, любивший порядок, однако особыми строгостями солдат не мучил. Утром он выстраивал их, пересчитывал, докладывал по всей форме лейтенанту, тот кивал и молча направлялся в голову колонны. Старшина командовал «шагом марш!», и колонна трогалась вслед за лейтенантом. Старшина расселял их на ночлег, старшина заботился о питании. Особенно проявил он себя, когда у солдат кончился сухой паек. Парыгин шел к председателю сельсовета, объяснял ему положение, и тот помогал, если не продуктами, то хорошим ночлегом: он знал своих сельчан, знал, кто как живет, и расселял солдат по тем домам, где обязательно накормят.
Может быть, они так и не услышали бы голос лейтенанта, если бы не один случай. Где-то уже на подступах к городу Николаеву ефрейтор Бубнов – единственный старый знакомец Гурина, с которым они шли в госпиталь, – догнал попутную машину и на ходу залез в кузов. Оттуда он сделал ребятам «буку», приставив к носу растопыренные пальцы, и прокричал:
– До встречи в Николаеве!
Когда машина поравнялась с лейтенантом и тот увидел в кузове «своего» ефрейтора, он, будто взорвался, закричал истошным голосом:
– Злесь щас же! – и, видимо не доверяя своему голосу, выхватил из кобуры пистолет, выстрелил в воздух. – Злесь щас же!
Ефрейтор полез из кузова, спрыгнул и стоял на дороге сконфуженный и немало перепуганный таким взрывом лейтенанта.
– Дите малое? – спросил у него лейтенант, с трудом подавляя ярость. – Куды ты поехав? Я не знаю, где вон, тот пересыльно-распределительный пункт, – фронт ушев далеко, всё в движении. Видишь, даже продпункты все уже где-то впереди.
– Я хотел только до города… – оправдывался ефрейтор. – Тут же дорога одна.
– В городе тебя патрули заберут: ты же без документов, посчитают дезертиром.
Ефрейтор вернулся в строй, ни на кого не глядя, покрутил головой:
– Во, а я думал, он немой… Контуженый.
– Ты-говори, да не заговаривайся. «Немой», – услышал ефрейтора старшина, подошел к нему. – У него в Белоруссии вся родня погибла: отец, мать, сестренки, братишка. И село немцы уничтожили за связь с партизанами: дома пожгли, жителей – тоже, кого сожгли, кого расстреляли. Так что – онемеешь.
– Откуда ж я знал, – развел Бубнов руками.
Солдаты шли дорогами, по которым совсем недавно прокатилась, прошла, проползла на шершавом своем брюхе война. Они видели разрушенные города, пепелища на месте сел, изрытые снарядами и окопами поля. И там, где война не катилась, а ползла, цеплялась своими железными когтями за землю, там следы ее были ощутимее. А цеплялась она за каждый дом, за каждый бугорок, за каждую речку, овражек, камень. Дороги и поля были усеяны продырявленными «тиграми» и «пантерами», скособоченными орудиями с развороченными жерлами, обгоревшими машинами, обломками повозок. Вдоль железнодорожных насыпей валялись вверх колесами кургузые немецкие паровозы и черные скелеты вагонов. А ближе к фронту – не убранные еще трупы неприятельских солдат и раздувшихся лошадей.
Солдаты смотрели на все это с откровенным торжеством и гордостью, будто это они сами, своими руками устроили немцам такой разгром. Глаза их наливались гневом, в груди клокотала ярость, она распирала их, ими овладевало чувство неудержимой лихости – они горели искренним желанием быть там, на переднем крае, и вместе со всеми гнать врага с родной земли. И это несмотря на то, что они уже побывали там и знали, что такое – гнать. Они знали, что значит «прорвать оборону противника», «взять высотку», «занять населенный пункт» – за каждым из этих понятий десятки, сотни, тысячи угасших жизней, увечий, ужасов смерти…
Но сейчас солдаты были похожи на новичков – восторженных и воинственных, словно они и понятия не имели и ведать не ведали, что такое передовая. Они редко пропускали случай, чтобы не забраться на «пантеру», не залезть вовнутрь «тигра», чтобы не облазить какую-нибудь дальнобойную махину. У одной такой «берты» сделали привал, и почти все уместились на ней – сидели на стволе, как ласточки на проводе. А Бубнов попробовал даже устроиться в ее жерле, но вовремя раздумал – не захотел пачкаться, отошел, посмотрел на пушку издали, покрутил головой:
– Это же надо – такую дуру сварганить. Это же сколько железа на нее пошло! Из нее можно штук десять тракторов сделать – не меньше.
– Отлить такую – что! А вот суметь заставить ее замолчать и уткнуть свой хобот в землю – это задача! – сказал старшина.
– Само собой! – согласился Бубнов и заключил философски: – А все-таки немцы – дураки: лучше б они вместо пушек делали трактора и продавали б их нам за пшеницу. Дешевле обошлось бы. А то сколько железа извели, сколько денег ухлопали, а она пропала даром. Да еще зла сколько людям принесла, а пшенички немцы не получили и землю, где она растет, – тоже.
– Немцев жалеешь?
– Не жалею я немцев. Я говорю: дураки они, могли бы жить богато и при мирной жизни, без войны.
– Политик ты, Бубнов.
– А ефрейторы – все политики: Гитлер ведь тоже ефрейтор, – пошутил кто-то.
– Ну-ну! – обиделся Бубнов. – Ты поосторожней с такими сравнениями, а то я могу и по затылку съездить.
– Становись! – подал старшина команду и пояснил: – Раз начинаете ссориться, значит, отдохнули. Быстро, быстро! Шагом марш!
Пыль, пыль под сапогами, солнце печет над головой, пыль от машин, от танков, а счастливчики, сидящие в кузовах, в бронированных башнях, издеваются:
– Пехота, не пыли!
Несмотря на усталость, у них хватало духу отшучиваться:
– Зато мы царица полей! Главный род войск!
– Ну, топай, топай, царица!
Впереди показался долгожданный город Николаев. Старшина догнал лейтенанта, о чем-то поговорил с ним и, остановив колонну, объявил привал. Все сразу побросали на землю шинели, повалились на них, задрали ноги кверху – отдыхали.
– Отставить! – скомандовал Парыгин. – Всем почистить сапоги. Шинели скатать в скатки. Умыться. Одним словом – привести себя в порядок.
Завыли на разные голоса недовольные: устали, ужарели, отдохнуть не дадут. Кому это нужно сапоги чистить? Да и чем, как?
– Прекратить разговоры! Полчаса сроку! Выполняйте приказание, – и добавил укоризненно: – Посмотрите, на кого вы похожи.
Вид у них был действительно неприглядный: с ног до головы запыленные, лица грязные, на щеках разводья от подтеков пота. Под глазами, под носом черный слой пыли, как у шахтеров: только глаза блестят да зубы сверкают.
Нехотя поднялись, встали на четвереньки, принялись раскладывать шинели, помогать друг другу крутить их в тугие скатки, делиться веревочками, чтобы связать концы. Потом, словно мухи мед, облепили небольшое озерцо в кювете, оставшееся от вешнего половодья.
Умылись, почистились, приосанились. Построил их старшина, осмотрел, остался доволен:
– Ну вот, на солдат стали похожи! Гимнастерки оправьте, застегнитесь. Через город будем идти – держите строй.
А город встретил их мрачной картиной: развалины, пыль, пепел, обгорелые дома…
– Зря только сапоги чистили. Да и смотреть-то на нас некому, – заметил кто-то.
– А вы что, может, и умываетесь для кого-то, а не для себя? – спросил старшина и строго приказал: – Задние, подтянитесь! Шире шаг!
Колонна шла мимо знаменитого Николаевского кораблестроительного завода, он был весь разрушен, весь в развалинах. Железные прутья, перекрытия, двутавровые балки погнуты, перекручены, чуть ли не завязаны в узлы. Какую злобу надо иметь, чтобы столько силы затратить на разрушение!..
Гурин не мог отвести глаз от этого зрелища, они уже прошли завод, а он все оглядывался и думал, каким же образом все это разобрать, растащить, распрямить, чтобы снова восстановить. «Нет, – думал он, – не воскресить его теперь, наверное, во веки веков. Заново придется строить…»
Спустились к Бугу и там у переправы сделали остановку. Лейтенант пошел куда-то уточнять маршрут и искать продпункт, а солдаты, как всегда, повалились на землю. Но Гурин слишком мало городов знал, слишком мало рек настоящих видел, чтобы лежать и дремать, когда рядом такая река. Оставив шинель и вещмешок, он с неразлучной полевой сумкой побежал к воде.
Буг спокойно, неторопливо катил свои воды к морю, мирно плескался у берега, качал настеленную прямо на воде переправу из желтых новых бревен. По переправе сплошным потоком, осторожно, на ощупь шли машины – тяжелые, с прицепами, мост прогибался под ними, поскрипывал, но держал. Движением на переправе руководила девушка с флажками в руках. Вот она подняла флажок, и машины остановились, мост на какое-то время облегченно вздохнул, выгнулся, поднялся над водой, Но не успела последняя машина сойти на берег, как потянулся поток в обратную сторону – «студебеккеры», «форды», «ЗИСы».
Гурин подошел к самой воде, набежавшая волна лизнула носки его сапог и откатилась. За ней плеснулась вторая – не достала, будто смелости не хватило, зато третья, осмелев, обдала сапоги до самых голенищ. Он нагнулся и попробовал воду руками – теплая, приятная. Не долго думая, снял сапоги, ступил голыми ногами в воду – ух, как хорошо, какая приятная прохлада, даже дух захватывает! Помыл ноги, а потом снял гимнастерку, умылся до пояса – легко стало, хорошо. Сел на берегу, смотрит на воду – бежит, бежит она… «Удивительно: сколько же лет она вот течет и течет? Сотни, тысячи лет? И не иссякает. А у нас нет рек… Как хорошо, если бы и у нас внизу у огородов вот такая река протекала!..»
Взглянул на регулировщицу – она уже второй раз пустила поток в обратную сторону…
Стихи откуда-то наплыли, достал тетрадь, стал быстро записывать – про ласковый Буг, про девушку-регулировщицу, про чудесный солнечный день – и не сразу услышал, как его стали звать. Только когда уже старшина появился над ним и раздраженно прокричал его фамилию, он вскочил.
– Рисуешь, что ли? Ушел, понимаешь, и никому не сказал. И не отзывается. Быстро! Продукты кто за тебя будет получать?
Прибежал Гурин к биваку – там на плащ-палатке только его паек остался, все уже свои разобрали. Он быстренько спрятал его в вещевой мешок, завязал, закинул за спину.
– Все покушали, а ты будешь теперь голодный идти до привала, – то ли упрекнул его старшина, то ли посочувствовал.
– Ничего… Не умру.
– Ну смотри, – и скомандовал громко: – Напра-во! Шагом марш!
Обочиной подошли к переправе, девушка преградила флажком дорогу машине, пропустила солдат на мост. Поравнявшись с регулировщицей, каждый считал нужным улыбнуться ей. Остряки бросали разные шуточки, но она не обращала внимания – стояла строгая, недоступная, невозмутимая.
– Эх, где мои семнадцать лет! – произнес Бубнов и остановился перед ней.
– Проходите быстрее, – не выдержала она. – Пошел, пошел, – махнула она флажком на Бубнова.
– Ой, какая сердитая!
– Старшина, побыстрее проводи свою инвалидную команду, не задерживайте движения!
– Почему инвалидную? – обиделись солдаты.
– А что же вы идете, будто семь дней не ели. Ну-ка, живее, живее, – и она сделала знак шоферу – мол, можно осторожно ехать вслед за колонной.
Перебрались на другой берег, вышли на тракт, и пошла опять пылить дорога…
– Эй, пехота! Сто верст прошел – еще охота!
Охота не охота, но они шли, спешили, догоняли фронт. А Гурину было даже интересно, любопытно. Непонятно восторженная натура, он всему удивлялся, хотелось все запомнить, чтобы потом рассказать дома. Его поражали реки – он их никогда раньше не видел, его приводили в изумление огромные села – станицы, раскинувшиеся на много верст и вширь и вдаль; удивляло знакомое: так далеко, а похоже на родное; тем более удивляло все новое, необычное. Ему нравилось открывать новые земли, людей. А сейчас вот пошли черноморские лиманы. Разве можно их представить по песням, по книгам, по карте? Нет… Вон они какие – большие, огромные морские заливы, и в этих заливах, оказывается, своя жизнь, не похожая на морскую: тут мельче, вода теплее… А вот и само море! Черное море! Ни конца ни края! Гурин встал на высоком обрывистом берегу, а внизу, у самой воды, люди ходят – маленькие, как куколки. А там, вдали, на самом горизонте, силуэты настоящих кораблей.
Черное море! Но почему оно «черное»? Оно ведь голубовато-зеленое… Но какое… безбрежное!.. У Гурина не хватает не то что слов, а просто воображения определить, какое оно, море, по своей сути? Как небо: огромное и таинственное. Это там, где-то на той стороне этого же моря, Турция, а вот если вдоль берега плыть – Румынию увидишь, Болгарию, а влево – до самого Кавказа – море и море! Огромное оно все-таки, и это чувствуется по его дыханию – спокойному и величественному.
_______
Одесса тоже в развалинах, особенно окраина, промышленные предприятия – все повержено, превращено в груды обломков. В центре разрушений меньше, солдаты глазеют по сторонам, задирают головы на многоэтажные красивые дома. В центре города, в сквере, их расположили на отдых, а лейтенант снова, как и в Николаеве, ушел уточнять маршрут. В Одессе как раз цвели каштаны – дерево дотоле Гуриным не виданное, но много раз слышанное – каштан, каштаны. Плод его видел где-то на рисунке, а может, даже и в руках держал: гладкий, коричневый, неправильной формы шарик величиной с грецкий орех. А вот само дерево – о нем даже понятия не имел какое… И вдруг вот оно, перед ним, цветущее! Он лежит на спине и удивляется этой необыкновенной красоте – ведь это и не дерево вовсе, а богатая люстра, наподобие той, что он видел когда-то в церкви. А их, этих люстр, здесь вон сколько, и представляется ему сквер этот большим зеленым храмом с зажженными светильниками. «Боже мой! Сколько же на свете разного дива дивного! Вот взять пальмы, тоже не видел. На них растут плоды – кокосовые орехи величиной с голову… Побывать бы везде, посмотреть бы, узнать…»
– Кончай ночевать! В колонну по четыре – становись! Р-равняйсь! Смир-рно! Шагом марш!
Четко, все разом, даже сами удивились, шаркнули каблуками по гулкому асфальту, прошли несколько метров в ногу, потом зачастили, задробили, перешли на вольный шаг.
Прощай, Одесса! Впереди опять дорога – желтая, пыльная, куда-то она их приведет…
К вечеру дорога привела солдат в очередную деревню на ночлег, а утром они уже шли по земле другой республики, где жил другой народ, который разговаривал на незнакомом языке, и одеты люди были необычно: в высоких бараньих шапках, в длинных вышитых белых сорочках, поверх которых надеты были жилеты; на ногах то ли белые носки, то ли онучи, намотанные на манер солдатских обмоток, обуты в самодельные постолы из сырой кожи с длинными ременными шнурками, завязанными повыше щиколоток. Молдаване. Они приветливо улыбались и вместо воды приносили в кувшинах холодное виноградное вино. Солдатам это понравилось, и вскоре не было ни одного, которого бы не мучила жажда, когда на горизонте показывалось очередное молдавское село. Лейтенанту через старшину пришлось проявить строгость и запретить подобный «водопой», тем более что уже близок был конец путешествия – впереди где-то маячил пересыльно-распределительный пункт. Но и от того, что выпили, настроение у солдат поднялось: одни шли веселые, разговорчивые, лихие, готовые в огонь и в воду, другие резвились, как дети, подтрунивали друг над дружкой, подшучивали, затеяли игру «угадай, кто сбил шапку».
Пересыльно-распределительный пункт располагался в большом молдавском селе с немецким названием Бердорф.
Присевшее в глубокой балке, они увидели его только тогда, когда взошли на гребень очередного холма. Окутанное садами, с тремя ровными улицами белых домиков, с виноградниками по склонам холмов – село это показалось Гурину каким-то ненастоящим, игрушечным, картинным.
К селу солдаты спускались прямо по целине. Сочная трава была скользкой, и они катились по ней, как по ледяной горке, – с гиком, хохотом, толкали друг друга, подставляли подножки, кувыркались. Старшина пытался утихомирить, но только рукой махнул и побежал вперед, чтобы внизу остановить эту озорную ораву.
С трудом угомонив, он терпеливо ждал, пока солдаты отряхивались, приводили себя в порядок. Старшина мял мягкую траву своими пыльными сапогами, приговаривал:
– Мальчишки!.. Ей-бо, мальчишки… – И уже построже прикрикнул: – Побыстрее, побыстрее!
– Не торопи, старшина… Ведь уже пришли… А там неизвестно – встанешь ли еще хоть раз в полный рост, – заметил кто-то из солдат. – Вон, слышишь, гремит?..
И все сразу притихли, улыбки послетали с лиц, прислушались – действительно, впереди где-то далеко-далеко погромыхивало глухо, словно землю толкли огромные паровые молоты. Знакомые звуки…
Узкой дорогой виноградника они вышли на улицу села. Лейтенант спросил у встречного солдата, где размещается пересыльный пункт, тот указал рукой на дом. Приведя строй в порядок, старшина повел солдат вслед за лейтенантом. Вошли в просторный двор, совсем не похожий на дворы наших деревень, остановились. Лейтенант пошел в дом, а старшина остался с солдатами.
– Смотри, – толкнул Бубнов Гурина. – Сразу видно – тыловик: новенькое обмундирование, чистенький весь.
Гурин взглянул, куда указывал Бубнов: на крыльце стоял офицер, картинно подбоченясь, выставив одну ногу вперед. Обмундирование на нем ладно пригнано, темно-зеленая гимнастерка и галифе отутюжены, хромовые сапоги зеркально блестели, голова в аккуратной фуражечке гордо запрокинута. Густые черные брови и чуть прищуренные против солнца глаза. И все это ему показалось очень знакомым.
– Лейтенант Исаев! – узнал Гурин своего командира и обрадованно бросился к нему. – Здравствуйте!
Исаев взглянул на Гурина, улыбнулся приветливо:
– Ох ты! Агитатор? Гурин? – Он подал ему руку. – Откуда, Жёра?
– Из госпиталя. А вы?
– Тоже.
– И куда?
– А куда?.. – В голосе его послышалось недовольство: наверное, это «куда?» его чем-то беспокоило.
Из канцелярии выскочил связной:
– Товарищ лейтенант, вас зовут.
– Слушаюсь, товарищ рядовой! – Исаев с серьезной миной козырнул связному. Тот сначала опешил, но, поняв шутку, улыбнулся. – Видал? – он ударил Гурина по плечу. – Ну, пока!.. Может, еще встретимся, – и он скрылся за дверью вслед за солдатом.
– Знакомый, что ли? – спросил Бубнов.
– Вместе воевали. Мой командир роты автоматчиков. Потом его ранило. Геройский мужик и весельчак.
– А на вид – такой чистенький, настоящий тыловик.
– Он и на фронте таким же был. Форсистый парень! Одессит. Наверное, дома побывал. Тут ведь рядом. Жаль, не спросил.
На крылечко вышел лейтенант Бородулин, объявил:
– Располагайтесь на траве, садитесь. Будут вызывать по одному. Старшина, вы останетесь с ними до конца. – Вскинул небрежно руку к фуражке, сказал, ни на кого не глядя: – До свидания… – И, сбежав с крылечка, пошел куда-то со двора навсегда: больше его Гурин никогда не видел…
Вызывали быстро. Спрашивали данные – возраст, образование и прочее, записывали и вручали каждому клочки бумажки с цифрами – 17,2 и разные другие. У Гурина было написано – 45.
Теперь они стали группироваться по номерам, справлялись, у кого какой номер, гадали, что они значат, и, не узнав, все равно радовались, если попадали двое-трое сдружившихся за это время под один номер.
– У тебя какой? – спросил у Гурина Бубнов.
– Сорок пятый. А у тебя?
– Тоже. – Он заглянул в гуринский квиток. – Какой сорок пятый? По-моему, у тебя УБ, а не 45.
– Ошибки не будет, что УБ, что 45, – сказал появившийся на крыльце маленький лейтенант в фуражке с большим козырьком. Он был горд и еле сдерживал улыбку, наверное, оттого, что знает тайну цифр. Чтобы сохранить серьезность на лице, он даже выпятил вперед губы, отчего был немного смешон в своей надменной позе. Просторная фуражка, надвинутая низко на брови, казалось, придавливала его к земле.
– А вот и еще один мой знакомец! – сказал Гурин Бубнову. – Этот узкоглазый наполеончик – лейтенант Максимов. – И он, напустив на себя серьезность, подошел к нему, козырнул: – Товарищ лейтенант, разрешите обратиться?
– Да. – Он вздернул головой, и вдруг узкие глазки его стали медленно разлипаться, лицо озарилось такой неподдельной радостной улыбкой, что Гурин невольно растрогался. – Гурин! – и он шагнул к нему, обнял, как брата родного. – Живой? А я вот все в запасном, – и он указал глазами на свою левую руку, которая, как и прежде, неловко держалась за ремень большим пальцем. – Куда тебя распределили? – Он выхватил из рук Гурина номерок, посмотрел и обрадованно похлопал его по плечу – Нормально! Я тебя возьму к себе во взвод. – Он вернул номерок и, радостный, быстро вскочив опять на крылечко, скрылся в проеме двери.
Минут через пять Максимов выбежал со списком в руках, крикнул:
– Команда сорок пятая, ко мне! – Сделав перекличку – всего набралось семнадцать человек, – лейтенант сошел с крыльца, встал руки по швам, скомандовал: —В колонну по два – становись! – и отошел в сторону. Солдаты выстроились. – Рравняйсь! Смирно! Шаго-ом марш! – и сам побежал вперед.
– Куда же вы нас ведете, товарищ лейтенант? – не выдержал Бубнов.
Лейтенант приотстал, пошел сбоку.
– Всё узнаете в свое время.
Возле канцелярии роты к ним вышел старший лейтенант – белобрысый, нос картошкой, глаза широко поставлены, в фуражке с матерчатым козырьком. Максимов кинулся было доложить по всей форме – одернул гимнастерку, вскинул руку к козырьку, но комроты остановил его жестом, стал внимательно смотреть на солдат. Одни в погонах, другие без погон, кто в ботинках и без обмоток или в обмотках, но небрежно завязанных, кто в сапогах, некоторые в пилотках, большинство в шапках.
Комроты остановил свой взгляд на Гурине, спросил у лейтенанта:
– А этот что, сержант?
– Нет.
– А почему с полевой сумкой? Ну хорошо. Веди в канцелярию, пусть оформляют.
– Придется тебе, брат, проститься с сумочкой, – шепнул Гурину Бубнов. – Зря ты ее не спрятал.
– Теперь уже поздно, – вздохнул Василий.
Когда в канцелярии всех их переписали и они снова оказались на улице, ожидая новых распоряжений, Бубнов принялся подтрунивать над Гуриным:
– Слушай, ух как пристально смотрел на твою сумку старшина! Так и думал, что ты выйдешь из канцелярии без нее.
– Да пусть… – сказал Гурин. – Хочешь, я тебе ее подарю?
– Ну зачем она мне? Что я, офицер?
– Все-таки чин – ефрейтор! Я вижу, эта сумка тебе глаза мозолит, – обиделся Гурин.
– О, завелся! С пол-оборота. Шуток не понимаешь?
Из канцелярии вышел связной, позвал:
– Который с планшеткой – зайди в канцелярию.
– Ну, что я говорил? А ты обижаешься.
В канцелярии старшина, плотный, широкоплечий, стриженный высокой стрижкой – «под бокс», спросил:
– Полевая сумка за вами числится?
– Нет.
– Она вам нужна?
Взвинченный насмешками ефрейтора, Гурин хмуро ответил:
– Да. – И для пущей важности добавил: – Для украшения я ее не носил бы.
Старшина взглянул на него, сказал писарю:
– Запиши. – И потом Гурину: – Хорошо. Идите.
Только он вышел на порог, Бубнов принялся за свое:
– Ты смотри: с полевой сумкой! Неужели не отобрал?
– Отстань.
Прямо от канцелярии лейтенант повел их в баню. Тут было холодно, скользко, пахло сыростью и хозяйственным мылом. Надо было самим натопить ее, наносить воды и нагреть. Лейтенант показал, где вода, где дрова, назначил Гурина старшим, а сам ушел.
В бане солдаты возились долго. Наверное, и до ночи не вылезли бы, если бы не пришел Максимов и не поторопил их на ужин.
А после ужина случилось совсем удивительное: лейтенант построил их и повел в клуб – в кино.
– Ребята, куда мы попали? – не переставал удивляться Бубнов. – А может, мы уже в раю? Кино? Я уже и забыл, что это такое…
Клуб размещался в немецком молитвенном доме. Здесь на высоком крыльце стоял толстенький, солидный майор с палочкой в руке. На плечах у него была плащ-накидка, так как к ночи похолодало и вроде собирался пойти дождь.
– Это замполит батальона, майор Кирьянов, – сказал лейтенант солдатам.
Пухленький круглолицый майор щурил хитро глаза, смотрел внимательно на пришедших, делал вид, будто увидел странную диковинку.
– А что это за лихая-штурмовая? – спросил он густым хрипловатым басом.
– Новички, товарищ майор, – доложил лейтенант. – Не успели обмундироваться.
– А-а-а, – прохрипел майор, не переставая хитро щуриться и улыбаться. – Ну, веди, веди, рассаживай.
Когда они расселись, у экрана, сшитого из белых простынь, снова появился майор.
– Ну как? – и он пытливо зашарил глазами по лицам новичков. – Будем учиться?
– Чему? – удивились они.
– Как чему? На младших командиров, на сержантов.
– Всю жизнь мечтал! – сказал Бубнов.
– Вот оно что! – протянул кто-то разочарованно.
– Гонять нас будут? – спросил третий.
– Куда гонять? – майор сделал наивное лицо.
– Перебежками, по-пластунски?..
– О-о, – пробасил майор. – Нет, у нас не гоняют, у нас – учат.
– И строевая тоже, наверное, есть?
– А как же! – обрадованно подтвердил майор. – И строевая есть!
– Конечно, ведь без строевой на фронте, как без патронов, – сказал Бубнов.
– А ты как думал? – майор посмотрел на Бубнова и погрозил ему палкой. – Шустер! – И уже ко всем: – Вижу, вы народ стреляный, из вас получатся хорошие младшие командиры. А сержанты армии вот как нужны, – он резанул ребром ладони себя по горлу. – Сержант – это, если хотите, самая главная личность на войне: он рядом с солдатом, он ведет его в бой. Поэтому самые большие потери мы несем в сержантском составе, – говорил майор уже сурово, без улыбки. – Вы попали в сержантскую кузницу, и мы сделаем из вас настоящих командиров: знающих, умеющих воевать! У нас хорошо! – Он снова улыбнулся. – Верно?
– Конечно: кино есть!
– Здесь, правда, одного не хватает, – майор, насколько мог, сощурил глаза, выждал паузу, прислушиваясь – не догадывается ли кто, о чем идет речь.
– Чего? – не выдержал Бубнов.
В ответ майор отставил руку в сторону, согнул ее кренделем, склонил к ней голову, будто у него «под крылышком» была маленькая девчонка, прошелся вдоль экрана.
Все засмеялись – уж больно точно и комично изобразил он влюбленную парочку.
– О, це було б добре! – воскликнул кто-то из украинцев.
– Ото ж и я кажу, – в тон ему проговорил майор и развел руками. – Этого у нас нет. Да солдату оно и не нужно. После войны своих подружек приласкаем. Верно? Ух, как приласкаем! – он даже глаза закрыл. – А пока будем учиться на командиров. Договорились?
– Договорились!
– Можно начинать, – махнул майор механику.
Свет погас, затрещал аппарат, на экране замельтешило, появилась надпись – «Сердца четырех», и полилась совсем мирная мелодия:
Все стало вокруг голубым и зеленым,
В ручьях зашумела, запела вода.
Вся жизнь потекла по весенним законам,
Теперь от любви не уйти никуда…
Через минуту солдаты уже были все во власти чарующей музыки и еще более чарующего мирного времени, где люди катаются на лодках, шутят, влюбляются, страдают, смеются, женятся – всё как в настоящей жизни, которая казалась им такой далекой и невозвратной…
Дня через два или через три Гурин снова встретил лейтенанта Исаева. Он вел группу солдат, видать, такого же, как и они, «сброда» – после госпиталей и батальона выздоравливающих. Остановил возле канцелярии, кто-то начал бузить, он прикрикнул строго, солдаты замерли.
– Предупреждаю: дисциплина во взводе должна быть железной! Без дисциплины разведчик – не разведчик. Всегда, в любой обстановке каждый помни, что ты разведчик, и веди себя соответственно: с достоинством, но без бахвальства и нахальства. Всегда будь смелым, находчивым, решительным. Всегда!
– И на свидании?
– Тем более.
Солдаты весело загудели, заулыбались, стали острить, но Исаев был невозмутим, опять пресек шум:
– Тихо! Некоторые думают: разведчик – это вольница, анархия – мать порядка. Чепуха! Это пижоны только так ведут себя, да и то в тылу, а на передовой они как мышки. Рразойдись! – и совсем мирно добавил: – Покурите пока.
Гурин подошел к Исаеву, поздоровался.
– А, агитатор Жёра! Привет! Ну, вот и встретились. Ты где?
– В первом взводе, на сержанта буду учиться. А вы?
– А я вот архаровцев этих должен уму-разуму учить, разведчиков из них делать.
– Разведчиков! Вот здорово! – И его так подмывало попросить лейтенанта, чтобы он взял и его к себе во взвод, так хотелось Гурину быть разведчиком, что даже в горле запершило. Но почему-то не решался попросить, оробел, боялся отказа. Подумал: «Наверное, туда все-таки отбирают особенных, как в летчики». Он смотрел на лейтенанта такими по-собачьи преданными глазами и ждал, что тот скажет ему: «Давай ко мне во взвод!» Но он не сказал так.
– Чего ж здорового? – бросил лейтенант недовольно. – Не нравится мне эта педагогическая деятельность, сбегу я, пожалуй, из этой богадельни. – И он направился в канцелярию.
А Гурин стоял и с грустью смотрел ему вслед, и было до слез обидно, что он не пригласил его к себе во взвод. Наверное, слишком был занят своей судьбой.








