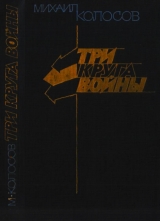
Текст книги "Три круга войны"
Автор книги: Михаил Колосов
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 30 страниц)
– Будешь первым номером. Второй номер… Где второй номер ПТР?
– Я тута, – отозвался как-то вяло рядом стоящий солдат.
– Вот второй номер. Патроны есть?
– Та есть…
– Шагом марш! – махнул им комроты, чтобы отошли подальше.
Гурин и его второй номер отошли. Проторин с Шевцовым возились у пулемета.
– Тебе что досталось? – спросил Проторин.
– А во – дубина, – Гурин со злом поднял свое ружье.
– О! Тогда нам, К-к-коля, по-в-езло! – обрадовался тот.
Направив ствол в сторону немцев, Гурин открыл затвор – в казеннике оказался патрон. Он вытащил его, проверил работу затвора, вложил патрон на место. «Черт знает что за оружие! Даже на затворе не рукоятка, как на винтовке, а крючок какой-то. А ручка, за которую переносить ружье? Ну что это за ручка! Железный плоский кронштейн, а по бокам наклепаны две примитивные деревяшки. Будто дядя Карпо топором выстругал». Все нутро Гурина, аристократическое нутро автоматчика, восставало против противотанкового ружья.
– Патронов много? – спросил он сердито у своего напарника, будто тот был виноват, что Гурину досталось нелюбимое оружие.
– Да вота, – он положил на бруствер сумку. – Богато… Куды их?
Голос у солдата был тягучий, слабый, как у тяжелобольного. Гурин присмотрелся к нему: маленький, щупленький пожилой дядька. «Старик, – определил он. – Ему уже, наверное, лет сорок, не меньше. А я так грубо с ним обращаюсь. Он в отцы мне годится…»
– Ничего, пригодятся, – сказал Василий мягко, заглаживая свою оплошность. – Сейчас выберем местечко, оборудуем позицию…
– Какую п-п-позицию? – услышал их разговор Проторин. – Сейчас марш-б-бросок будем д-делать. Немцы-то д-д-драпанули. Р-разведчики там уже п-побывали.
– Как драпанули? А зачем же мы целый день лезли туда?
– А к-кто ж знал.
Вот почему притихла эта высотка: там, оказывается, уже никого нет!
По траншее пробежал старший лейтенант Кривцов:
– Готовы? Быстро! Быстро! Через пять минут тронемся. Быстро!
Задача ясна, и Гурин переворачивает свою грозу для немецких танков набок, поджимает к стволу ножки-сошки, вешает поудобнее вещмешок на спину, автомат на шею – готовится к походу.
– А на шо автомат, у вас же ружжо? – спросил Гурина напарник, увидев его приготовления.
– Ружье против танков, а автомат против пехоты, – объяснил Гурин ему, а про себя отметил: «Старик ко мне относится с почтением, на „вы“». – Этот автомат мне дорог, я привык к нему. – И он, как живого, погладил свой ППШ по ложе. Подтянул ремень, лопатку сдвинул подальше назад, чтобы не мешала. – Вас как зовут?
– Микола Родич.
– А по отчеству?
– Гнатом батьку звали.
– Николай Игнатович, значит? А меня зовут Василий. Фамилия Гурин. Вот и познакомились. Почему вы так тихо разговариваете? Голос слабенький? Вы больны? – спросил Гурин.
– Не, – сказал тот. – А зачем кричать?
«И то правда», – подумал Гурин.
Когда передали команду «Вперед!», Василий взвалил на правое плечо, словно бревно, длинное, тяжелое и неуклюжее ружье, сказал второму номеру:
– Ну, Николай Игнатович, пошли. Не отставайте только…
Идти было тяжело: глубокий снег напитался водой, стал рыхлым, ноги проваливались почти до колен, каждый шаг стоил огромных усилий. Не снег, а каша крутая. И ноша нелегкая. Ружье с каждым километром казалось все тяжелее и тяжелее. Гурин перебрасывал его с плеча на плечо и натрудил их так, что они горели, как обожженные. И сам был весь мокрый, будто только из парной вышел. Сначала он надеялся, что ношу эту они будут делить пополам со вторым номером, но потом ему пришлось от этой мысли отказаться. Уже на первых километрах Родич отстал от Гурина, и он вынужден был подождать его.
– Вы не отставайте, пожалуйста, – попросил его Гурин. – Вдруг придется отбиваться, а вас нет…
– Та успею… – протянул тот спокойно. – А вы дуже шибко не бежите.
– Ну как же? Вон все уже где, – Василий пошел вперед. Некоторое время он слышал позади себя сопение Родича, но вскоре тот умолк. Оглянулся Василий – не видать напарника, опять остановился, стал поджидать.
– Николай Игнатович, вам тяжело?
– Та ни…
– Так не отставайте, пожалуйста. Ну в самом деле: вдруг сейчас пойдут танки, где я вас буду искать? А у меня в стволе один патрон. Дайте мне хоть пару еще.
Тот охотно развязал сумку, Гурин взял два патрона (не патроны, а целые снаряды!), положил в карман шинели.
– Пойдемте побыстрее, не отставайте, прошу вас.
– Та успею…
«Да, не повезло мне с напарником. Не только не помощник, а хоть самого бери на буксир», – сокрушался Гурин. Его медлительность, тягучее спокойствие, невозмутимость начинали раздражать Гурина. Но он сдерживался: старик, что с него возьмешь. «И все-таки совесть должен бы иметь, хотя бы немножко понес ружье, а я взял бы сумку с патронами… Самому взвалить на него ружье, что ли? А потом что? Он совсем отстанет…»
Оглянулся Гурин – не видать старика, пропал где-то. Ну что за человек! Ведь это сколько сил стоит Гурину по такой дороге – отстав, – потом снова догонять роту! Плюнул, пошел один: три патрона есть, на первый случай хватит. А там подбежит, не совсем же он чокнутый, чтобы оставить товарища без патронов?
Шли всю ночь. И не просто шли, а почти бежали: надо было догнать немцев, не дать им закрепиться на новых вот таких высотках, которые стоят потом стольких жизней.
На рассвете немцы обстреляли роту, и они остановились, залегли. Напоролись на немецкую оборону, но атаковать ее с ходу ночью не решились, приказали окопаться. Гурин сбросил с себя всю амуницию, расчистил площадку от снега и принялся долбить мерзлую землю, поглядывая, не идет ли его напарник. Вдруг заблудился где в ночи, сбился с дороги – еще отвечать за него придется.
Грунт был как камень, даже искры летели из-под лопаты, тут бы лом нужен, а не эта малая саперная. Но где его взять, тот лом, а окоп нужен, вот вот рассветет, без окопа немцы быстро отправят в «могилевскую».
Наконец приплелся и напарник Гурина. Увидел того за работой, стал в сторонке, отвернулся спиной к ветру и будто уснул: стоит, качаясь. «Спит стоя? Ах ты ж паразит такой!» – рассердился на него Гурин.
– Николай Игнатович, а вы почему не окапываетесь?
– У мене лопаты нема.
– Так пойдите и найдите! – приказным тоном сказал ему Гурин. – Там же есть где-то лопаты. Идите!
Потек гуринский помощник куда-то, и долго не было, наконец пришел, остановился вдали:
– Ниде нема… Уси сами копають.
– Какой же вы солдат? Стащили бы…
– А на шо?.. Все одно – скоро пойдем дальше.
И тут, как нарочно, прибежал какой-то офицер, не Кривцов, а другой, незнакомый.
– На сто метров вперед, только тихо, без шума.
– Ну, шо я говорив? – невозмутимо и тягуче сказал Родич.
Собрал Гурин свои шмотки в охапку, подхватил ружье за рукоятку, побежал. На новом месте начал с нуля. Только теперь уже наметил окоп поменьше – земля тяжелая. Да и немцы поближе стали, постреливают.
Долбит мерзлую землю, вспотел даже, шинель сбросил. Поглядывает на восток – чувствует, не успеть ему до рассвета отрыть настоящий окоп, поэтому он долбит круглую яму, чтобы только пролезть в нее, а там, в глубине, когда пройдет слой мерзлоты и достанет мягкий грунт, там он расширит свое убежище.
А Родич, напарник его, стоит, дрожит весь: сырой ветер пронизывает его насквозь. Это Гурину жарко – работает, да и то вертится: то одним боком к ветру повернется, то другим.
– Ну, что же вы, так и будете стоять? Совести у вас нет… Помогите хоть мне, – не выдерживает Гурин.
– А на шо?
– Как «на шо»? День настанет, куда вы денетесь? Вы думаете, я на двоих копаю? Возьмите лопату – хоть согреетесь.
– Та… не надо, – великодушно отказывается Родич.
– Ах ты ж… твою мать. – И Гурин впервые выругался при старших. – И где ты родился такой? Какая земля таких чудаков рожает?
– Я с Донбассу, – проговорил тот невозмутимо, спокойно.
– Врешь, у нас нет таких!
– А из-под Мариуполя.
– И там таких нет. Берите лопату!
– Не хочу…
И вдруг – вой мины. Одна, другая, все ближе, ближе к ним. Гурин присел в свою яму – она уже по колено была, а Родич заметался к одному окопу, к другому, упал на Гурина, головой уткнулся и буравит его, хочет залезть на самое дно. «Ах ты паразит такой!» – взъярился Василий.
Налет был короткий – тут же прекратился, и Гурин вытолкнул своего напарника из окопа.
– Все, хватит. Ну как?
Родич молчал, отряхивался.
По цепи передали команду: «Вперед!» Противник оставил передние траншеи, надо их занять.
– Я ж говорив: все одно бросим окопы, на шо их и копать… – сказал Родич.
– Пошел ты, – огрызнулся на него Гурин и побежал вслед за ротой.
А рассвет все сильнее, уже далеко видно, а немцы, наверное, только и ждали этого – стали поливать из пулеметов.
В несколько перебежек Гурин добрался до траншеи и прыгнул в нее. Траншея оказалась залита водой – зловредные немцы обязательно какую-нибудь пакость устроят. А может, они и бросили эти траншеи потому, что их залило? Как бы там ни было, а делать что-то надо: в воде долго не простоишь. Гурин быстро отцепил лопату и принялся долбить в стенах повыше воды уступы. Выдолбил, уперся в них ногами, раскорячился на всю ширину траншеи, согнулся, чтобы голова не маячила над бруствером, стоит. Но ведь и в такой позе долго не простоишь, а тем более – не навоюешь. Надо придумать что-то понадежнее, соорудить опору для ног покрепче. И он снова начинает долбить стены, стесывать с них землю. Земля сыплется вниз, в воду – растет бугорок под ногами. Еще несколько усилий – и вот уже настоящая плотника поднялась над водой. Встал на нее Гурин – хорошо, прочно. Траншея, правда, стала мельче, но это ничего, зато сухо и твердь под ногами, и руки свободны на случай немецкой атаки.
Пока Гурин мостил себе гнездо, прибежал Родич. Плюхнулся, не глядя, в воду – так и остался стоять, как цапля посреди болота.
Гурин не выдержал, протянул ему лопату:
– Возьмите, нагребите себе под ноги земли.
– Не надо… – отмахнулся тот.
Посмотрел на него Гурин, вода почти до колен, а он ведь в ботинках и в обмотках.
– Простудитесь.
– Нехай… Скоро все одно в наступление.
«Странный тип», – подумал Гурин и стал оборудовать себе позицию для стрельбы. Впереди было ровное поле, залитое талой водой. Она поблескивала под лучами восходящего солнца, и казалось, будто впереди не поле, а глубокое озеро.
Василий пристроил свое ружье, прицелился в одну сторону, в другую, остался доволен: справа пойдут танки – ему все видно и бить удобно, и слева – тоже.
А солдаты все накапливались в траншее: бежали, прыгали, не обращая внимания на воду, потом ругались, кляли немцев.
Один прибежал, увидел воду и забоялся прыгнуть в нее, заметался на бруствере. Ему кричат: «Прыгай! Прыгай быстрее!» А он мечется туда-сюда, ищет где посуше и вдруг: «Ой!..» – и ткнулся ничком в землю.
– Дотанцевался! – упрекнул его кто-то громко, и засмеялись все дружно, захохотали – смешной случай: воды солдат испугался, замешкался и поймал пулю…
– Приготовиться к атаке!
– Приготовиться к атаке! – побежало по цепи.
Гурин давно готов. Услышав команду, прильнул к ружью правым плечом, посмотрел еще раз через прицел; танки пойдут в контратаку – надо будет успеть ударить по ним.
– Вперед!
– Впе-е-ре-ед!
Это «Вперед!», как он понимал, к нему пока не относилось: он должен быть готовым к отражению танков. Пошла пехота, побежали по воде, брызги из-под ног взлетают, сверкают на солнце веселой радугой. Ожили немецкие пулеметы. Присмотрелся Гурин и заметил, что один сидит прямо напротив него и оттуда строчит по наступающей цепи. «Ну-ка, что, если ударить по нему? Танков все равно пока не видно…» – подумал Гурин, прижимая ружье покрепче к плечу, Прицелился, нажал на спусковой крючок. Прогремел выстрел, но Гурин ничего не слышал – все внимание его было сосредоточено на цели: попал ли? Обрадовался: кажется, именно там, куда он и целил, взметнулся фонтанчик земли. Если не попал, то напугал фрица здорово: такая пуля – чуть ли не со снаряд величиной – шпокнулась рядом!.. Ободренный выстрелом, Гурин достал из кармана другой патрон, зарядил ружье…
– Вперед! – продолжал кричать командир роты. – Вперед! – раздалось почти рядом. – А вы почему сидите? – Гурин оглянулся на крик. Рядом стоял старший лейтенант с выпученными от ярости глазами, с пистолетом наголо и сыпал матюками. – Вперед! Кому сказано?
Гурин показал ему глазами на свое ружье: «Мол, у меня ПТР, что же я буду делать с ним в немецких траншеях? Там с ним не развернуться. Жду танки…»
– Впере-ед! Пристрелю!
– За мной! – кивнул Василий Родичу и выскочил из траншеи. Подхватил правой рукой за ручку ружье, побежал. А иначе как с ним бежать? Наперевес, как винтовку, не возьмешь.
Сделал одну перебежку, другую, упал прямо в воду, оглянулся, поискал своего напарника. Увидел: отстал тот, но продвигается. Подождал, предупредил:
– Не отставайте! – и рванулся дальше.
Пробежал, снова упал, поднялся, еще пробежал, еще, залег: пора оглянуться, не отстал ли его второй номер с патронами. Ищет глазами – не видать. Наконец увидел: бежит далеко позади и держит направление куда-то вправо.
– Родич! – закричал ему Гурин. – Ко мне! Ко мне!
Услышал ли тот призыв Гурина, нет ли… Скорее всего – нет: всюду стрельба, крики – разве услышишь? «Идиот ненормальный! Уродится такой на мою голову…» – выругался Гурин, вскочил и побежал дальше, вперед за наступающими. Но не успел он сделать и нескольких шагов, как вдруг что-то дернуло его за левое плечо, дернуло резко, сильно, даже рвануло всего назад. И в тот же миг он почувствовал, что левая рука его онемела и, повиснув плетью, сделалась непослушной. Гурин не сразу сообразил, что его ранило. Лишь какое-то время спустя он почувствовал острую боль в плече и все понял. Уткнувшись головой в ружье, он лежал в воде и думал, что ему делать. С одной рукой он, конечно, не вояка… И тот, идиот, где-то затерялся… Хотел было поискать Родича, но пули не дали ему поднять головы, они роем носились вокруг, падали густым градом в воду, взвихривали ее многочисленными фонтанчиками. Попытался пошевелить левой рукой – не смог, будто ее и не было вовсе. Только плечо отозвалось острой болью. Гурин схватил ружье и побежал обратно в траншею.
– Почему возвратился? Пристрелю! – закричал на него Кривцов, тыча пистолетом чуть ли не в лицо.
– Меня ранило… – сказал Гурин.
– «Ранило», – передразнил тот недовольно. – А где второй номер?
– А я знаю? Дали мудака какого-то, и нянчись с ним… – У Гурина закружилась голова, замутило, он обессиленно привалился к стене.
– Санитара сюда! – крикнул Кривцов, а сам подался куда-то по траншее.
Прибежала санитарка – курносенькая девчушка, две белые косички из-под шапки свисали на спину поверх серой шинели. Она быстро и умело раздела Гурина, вспорола рукав гимнастерки и принялась перевязывать, приговаривая ласковые слова, будто родная мать:
– Крепись, родненький, крепись… О, как тебе повезло, миленький!.. Еще бы немного, и прямо в сердце… Пулей навылет. Ну ничего, ничего… Все будет хорошо.
Забинтовав, она сделала петлю, набросила ему на шею и сунула в нее осторожно его руку.
– Ну вот… – она мягко набросила ему на плечо шинель. – Посиди. А если можешь, иди в санбат. Вот этой траншеей до поворота, а там – ходом сообщения… Как, родненький?..
– Пойду… – решил Василий.
– Иди, миленький…
У хода сообщения уже сидело несколько человек раненых. Тут распоряжался какой-то бойкий пожилой ефрейтор. Назначил старшего, рассказал, где расположен санбат, и отправил первую команду.
В санбате, когда Гурину уже сделали противостолбнячный укол, обработали рану и сестра бинтовала его плечо, заводя конец бинта под мышки, он вдруг услышал тягучий, нудный, так опротивевший ему за эти неполные сутки голос:
– Доктор… а я… буду жив?..
Гурин оглянулся и увидел своего напарника – его несли куда-то на носилках, а он все скулил:
– Доктор… а я… буду жив?..
У Гурина все еще кипела на него злость, и он сквозь зубы процедил:
– Ах ты паразит! Он еще жизнь себе выпрашивает!.. Гнида…
На подножном корме
 есенняя распутица сделала дороги непроезжими. Автомобили оказались совсем парализованы. Из-за отсутствия транспорта в санбате скопилось огромное количество раненых. Днем и ночью здесь стояли стон, крик, ругань. Тяжелораненые – народ капризный, мнительный, им всегда кажется, что их бросили, забыли, что о них никто не заботится. Самых тяжелых эвакуировали «кукурузниками». Но много ли ими перевезешь? С легкоранеными ходячими нашли самый простой выход: формировали в группы и отправляли в госпиталь своим ходом.
есенняя распутица сделала дороги непроезжими. Автомобили оказались совсем парализованы. Из-за отсутствия транспорта в санбате скопилось огромное количество раненых. Днем и ночью здесь стояли стон, крик, ругань. Тяжелораненые – народ капризный, мнительный, им всегда кажется, что их бросили, забыли, что о них никто не заботится. Самых тяжелых эвакуировали «кукурузниками». Но много ли ими перевезешь? С легкоранеными ходячими нашли самый простой выход: формировали в группы и отправляли в госпиталь своим ходом.
Группа, в которую попал Гурин, составилась человек из двадцати. Старшим был назначен из раненых же сержант по фамилии Кропоткин – бывалый вояка: с медалями и орденом Красной Звезды на гимнастерке. Отчаянный и расторопный парень. Роль «главнокомандующего» он принял охотно и не чаял, когда они наконец покинут санбат и тронутся в дорогу, словно где-то там его ждала родная мать.
– Да на кой нам это? – возмущался он, когда им выдавали сухой паек из расчета на три дня пути. – Так прокормимся, по «бабушкиному аттестату».
Однако их снаряжали в путь по всем правилам: выдали продукты, выписали общий на всю группу продовольственный аттестат, вручили Кропоткину необходимые документы на раненых, растолковали маршрут и только после этого отпустили.
И вот они наконец на воле, вырвались из переполненного и гудящего, как вокзал во времена мешочников, санбата, вздохнули легко и свободно. Идти предстояло далеко – госпиталь располагался где-то на левом берегу Днепра, между Верхним Рогачиком и Большой Лепетихой.
Но радостное чувство свободы омрачилось уже с первых шагов: как только вышли за село – окунулись в такую непролазную грязь, которую трудно себе представить. Ноги либо утопали по самые щиколотки, либо разъезжались в разные стороны, и им, одноруким, трудно было удержать равновесие и не упасть. Однако во всем нужна своя сноровка, привычка, опыт. Так и солдаты вскоре приспособились к дороге – научились распознавать твердую кочку от нетвердой, неглубокую лужу от глубокой, научились держать равновесие, балансируя одной здоровой рукой, и все реже и реже стали падать и звать на помощь товарищей.
Команда Кропоткина уже на первых километрах растянулась в длину и разбрелась вширь, он хотел было сорганизовать как-то их, но после двух-трех попыток отказался от этой затеи, махнул рукой.
На большаках, проселках и прямо по полю – всюду были рассыпаны машины. Одни скособочились, провалившись в кювет, другие стояли поперек дороги; одни давно замерли, потеряв всякую надежду сдвинуться с места, другие ревели перегретыми моторами, пытаясь продвинуться вперед хоть на метр. Но напрасно шофера надрывали моторы, напрасно жгли драгоценное горючее – грязь засасывала колеса все глубже и глубже, пока машина не садилась на собственное брюхо и делалась совсем беспомощной. И тогда солдаты впрягались вместо машин и сами тащили пушки, минометы, несли на себе ящики с боеприпасами.
Утопая в глубокой грязи, к фронту двигались караваны лошадей, волов и даже коров, навьюченных продовольствием и боеприпасами. Армии помогало гражданское население. Женщины, старики, подростки сплошным потоком тянулись в сторону передовой. Связав попарно за хвосты стодвадцатимиллиметровые мины и перекинув их через плечо, они несли этот опасный груз не только без боязни, но как-то весело, с шутками, довольные, что стали полезными фронту.
На равнинных полях вода стояла спокойными озерами, серебрилась против солнца, слепила глаза ярким отражением.
В оврагах дотаивал грязный ноздреватый снег, и юркие, быстрые ручейки, журча, убегали куда-то вниз, чтобы тоже где-то разлиться на равнине и напоить землю вешней водой или слиться в один большой ручей и добежать до самого Днепра.
Оголившиеся и пригретые солнцем пашни курились густым паром, словно на них тлели остатки многочисленных костров.
На душе у Гурина было легко и весело. Какая-то свобода, раскованность охватила его, и он шел, наслаждаясь и весной и своей свободой, подставлял заветренное лицо теплому солнышку, жмурился от ярких лучей его, словно изнеженный кот.
– Ребята, мы торопиться не будем, – уже в который раз вдалбливал спутникам свою идею Кропоткин. – Куда нам спешить? Ведь не на фронт идем, а в госпиталь. Верно? Будем идти нормально. Госпиталь никуда не денется. Если и опоздаем на денек-другой, нам ничего не грозит. Успеем еще хлебнуть госпитальной жизни. Мы же не на марш-броске? Верно? – Он был ранен когда-то осколком в щеку, от этого, рот у него кривился немного, и потому казалось, что он вот-вот заплачет, уговаривая солдат, и поэтому они соглашались с ним быстро и охотно.
– Конечно, куда нам торопиться? Да по такой дороге и не очень-то разбежишься.
В первом селе Кропоткин расположил свою команду на ночлег. Сам обегал хаты, договорился и потом развел каждого. Одну хату пропустил, сказал:
– В этом доме я буду, – и Гурин заметил в дверях хорошенькую молодицу, которая с любопытством выглядывала из сеней.
…Утром в назначенное время раненые по одному медленно потянулись в конец улицы – на условленное место сбора. Все были сытые, довольные, терпеливо ждали запаздывающих, делились впечатлениями, травили анекдоты, смеялись, несмотря на ранний час.
За сутки общения уже выявились в группе свои пессимисты и оптимисты, трепачи и молчальники, пошляки и люди серьезные, рассудительные.
Хорошим трепачом оказался ефрейтор Бубнов – нос с большую картофелину, губы мясистые, большие, глаза посажены широко – природный тип шута. По характеру милый, добродушный губошлеп. По крайней мере, он носил такую маску, на самом же деле Бубнов губошлепом не был. Ушлый парень. Еще издали – уже у него рот до ушей, глаза смеются: так и знай – приготовился что-то рассказывать.
– Сейчас начнет врать, будто его и накормили и напоили, – сказал вслух Володя Горохов – пессимист.
– Неужели тебя голодным отпустили? – удивились солдаты.
– Да-а… – Горохов махнул лениво здоровой рукой. – Вечером борщ да сало, а утром картошки нажарила – и все. Молока, говорит, нет, корову вроде немцы угнали, – и Горохов поморщился недовольно, отвернул лицо в сторону: мол, и говорить об этом не хочется. – А утром голуби начали ворковать под окном, спать не дали.
– А ты бы заказал себе бифштекс, ромштекс и кулебяку, – посоветовал Бубнов, услышав жалобы Горохова. – Чудак, не смог организовать!
– Бяку ему с хорошим рожном, а не кулебяку, – заметил рассудительный Григоренков, в прошлом учитель-химик в сельской школе Смоленской области.
– Вот у нас попалась старуха – настоящий ерш! – начал Бубнов очередную свою байку.
– Где, здесь?
– Нет. Здесь что, здесь все зер гут! Тут наш брат пока не надоел, принимают что надо. Даже чарочку поднесли, – и он с видом завзятого выпивохи щелкнул себя по кадыку. – А то дело было еще перед Днепром, За день марш сделали километров пятьдесят, наверное. Устали как собаки. И голодные – кишки марш играют. Наконец село, останавливаемся на ночлег. Захожу во двор, куда нам показали, и вижу – на стене дощечка прибита, а на ней написано: «Мисливець». Ну, думаю, повезло: мыслитель живет, значит, человек сознательный. Философ!..
И тут не выдерживает Шпак – пожилой украинец, не терпевший, когда искажают или не понимают «украинську мову».
– «Мыслитель»! – передразнил Шпак. – Мыслывець – это охотник, а там було напысано прызвище, фамилия, ну як у вас Охотников, напрыклад.
Бубнов слушал замечание Шпака, затаив в глазах ехидных чертенят.
– «Наприклад». Откуда ж я знаю: охотник он или пчеловод? Ведь я украинцем и в детстве никогда не был.
– А чому ж я розумию по-российски? – не унимался Шпак.
– Потому и разумеешь, что я на понятном языке говорю, а ты коверкаешь зачем-то слова: жена – жинка, муж – человек, а бумага – папир. Ну? «Папир» – это ж по-немецки?
– У нас е и «бамага». Ты ж истории не знаешь, – упрекнул Бубнова Шпак. – Шо Украина, шо Билоруссия, шо Россия – то все одно, один народ, браты родные. Самая найпершая Русь яка була? Киевская!
– Значит, ты больший русак, чем я! – восклицает Бубнов и привлекает к себе Шпака.
– А ты как думал? А то – «папир», «папир». Дался тебе той папир.
– Да ты не сердись: я ж шуткую, разве не видишь? – говорит Бубнов.
– Так и я ж шутю, – вторит ему Шпак и хохочет.
– Эх, перебил рассказ, Шпак! – досадует ефрейтор. – На чем я остановился? Да… Ну, заходим. Только на порог, а навстречу старуха – злая, как баба-яга из кино «Василиса Прекрасная», сразу нам предъявляет ультиматум: «Чого вам треба?» – «Да так, говорю, просто зашли… водички попить, а то кушать охота, да и переночевать негде». – «Скильки вас буде, хоч бы одну ночку без вас обойтись… Надоели». – «Да, говорю, бабушка, надоело под самую завязку. Но ничего не поделаешь – надо! Фрицев уже немного осталось, добьем и по домам». – «Та дай бог, шоб уже вы скорей кончали да вертались до дому». – «Да, говорю, по дому соскучились… Так где у вас водичка?» – «Оно стоить…» Старуха вроде обмякла немного. Зашли мы в хату, пригубили по очереди кружку, сели на лавку. В хате чистенько, свежей травкой присыпано. На стенах фотографии висят.
Набор баек у Бубнова был известный, нового он пока ничего не рассказал, но солдаты слушали от нечего делать, улыбались, будто сами не переживали подобного. «Сейчас, наверное, древнюю сказку о том, как солдат из топора суп варил, себе присвоит. Или переиначит как-нибудь…» – подумал Гурин и съехидничал:
– И тут ты попросил у старухи топор, чтобы сварить из него суп?
– Нет. Ты слушай. Вижу: на одной карточке парень в красноармейской форме. Подошел и говорю: «Эх, бедолага, тоже, наверное, где-то пить просит, а сам голодный!..» А бабка услышала и в слезы. Парень-то этот ее сын, еще до войны взят в армию, и она не знает, где он. Эх, думаю, пересолил: на больную рану соли насыпал. Надо уходить. Киваю ребятам: «Попили, хлопцы, пошли дальше». А ей: «Спасибо, мамаша, за водичку». – «Куды ж вы? Шо у мене, хата не така, як у людей?» Ну, короче, остались мы, а мне все стыдно было ей в глаза глядеть.
– История скорее грустная, чем смешная, – сказал Григоренков.
– Ну, а я о чем? – удивился Бубнов. – Привыкли, что я всё хохмы рассказываю. А вообще-то я человек серьезный. Сегодня, например, безо всяких там хитростей по «бабушкиному аттестату» получил сполна, и даже доппаек. – Он похлопал по вещмешку – Хлебушек, сальце. Ну где же наш старшой?
– Идет…
Все оглянулись. Сержант выбежал со двора – шапку на ходу поправляет, торопится. Подошел, смущенно улыбнулся, вытер губы, удивился:
– О, уже все собрались? Ну, народ дисциплинированный! Слушайте, а может, еще денек тут поживем? Куда спешить? Уж очень мне эта деревня понравилась.
– Так мы до госпиталя не доберемся, – возразил Григоренков. – Да и неудобно возвращаться.
– Верно, неудобно, – поддержали учителя и другие.
Сержант с тоской оглянулся на гостеприимную хату, вздохнул и нехотя поплелся вслед за своей командой.
Так они шли от села к селу. Но не все села были столь гостеприимны и хлебосольны, как первое, многие были разорены войной, разграблены оккупантами, и тогда раненым приходилось делиться с хозяевами своим солдатским пайком.
На четвертый день солдаты начали менять вещи на продукты. Сменял и Гурин свою телогрейку на кусок сала и полбуханки хлеба. Он знал, что это преступление, но голод – не тетка. Да и жарко было уже тащить на себе телогрейку и шинель.
На пятый день взбунтовался Григоренков, предъявил сержанту ультиматум:
– Вот что, сержант: или будем идти как следует, или отдай наши документы, а сам оставайся, приставай к любой тетке и живи.
– Ты что, отец, бунтовать? Это тебе не в колхозе, – насупился Кропоткин. – И что ты рвешься в тот госпиталь? Или тебя там ждет кто-то – так ты скажи прямо. Там же хуже, чем в санбате: жрать нечего.
– У меня рана загнивает и повязка, вся сползла. Может заражение получиться, а я буду тут с тобой по хатам милостыню выпрашивать.
– Вот беда с этими стариками, – Кропоткин сплюнул с досады. – Ладно, пошли.
Но у первой же встретившейся войсковой части он упросил командира, чтобы их врач или санитар сделал перевязку Григоренкову. И конечно же ему не отказали, – врач наложил новую повязку и даже похвалил рану: «На зажив пошла».
– Ну, вот видишь, а ты, дура, боялась, – упрекнул Кропоткин Григоренкова.
– Все равно нам пора уже быть на месте. Мы в армии, и дисциплина для всех одинакова – и для раненых и для здоровых.
– Ого! Крепко грамотный! – обиделся Кропоткин и выругался.
А Гурина сама рана не беспокоила, лишь сильно чесалось под бинтом, и он подозревал, что подхватил где-то чужих «зверюшек». У него болело все плечо – ни лежать на нем, ни мешок повесить. И рука все еще была как онемелая, пальцы не сгибались, поэтому он так и нес эту руку на перевязи под накинутой шинелью.
В госпиталь они пришли лишь на седьмой или восьмой день. Никто не знает, был ли нагоняй за опоздание, – Кропоткин один ходил в канцелярию. А оттуда вышел с сопровождающим санитаром, и их всех повели в баню. Раздели донага, и все их барахло, кроме сапог и вещмешка, отправили в жарилку, а самих – мыться.
– Воду экономьте, – предупредил солдат-банщик. – По три котелка на брата: один голову помыть, второй – тело, третий – скатиться.
– Что ж так мало? – возмутился Бубнов. – Тут же Днепр недалеко.
– Вот ты и будешь носить из Днепра.
Бубнов остановился перед солдатом, форсисто отставил в сторону ногу.
– А вы почему на меня тыкаете? А может, я генерал, только голый?
– Иди, иди, тебя и голого видно, какой ты генерал, – сказал сердито банщик.
Бубнов не обиделся, пошел в моечную комнату.
– А я вам, ребята, такой случай расскажу – умрете! Пришел я как-то в баню, иду с шайкой, место себе ищу. Смотрю – сидит на скамейке брюхан какой-то. Одна шайка под ногами, другая слева, третья справа. «Эй, говорю, пузач, ты чего так широко расселся? А ну, давай сокращай линию фронта». И вдруг вижу: подбегает к нему какой-то шустрик и спрашивает: «Товарищ генерал, вам не подбавить водички?» Ну, тут я под прикрытием пара давай смываться в другой конец бани, в самую гущу солдат. Обошлось как-то…
Помылись, принесли одежду – она горячая, пахнет сухим паром. Шинель у Гурина в одном месте даже поджарилась. Оделись, пошли на осмотр, на перевязку.
Подошла очередь Гурина. Разделся до пояса, ждет, когда врач обратит на него внимание. Врач – женщина, одета в глухой белый халат, – погон не видно, но чин, наверное, не маленький – уж больно суровая. Волосы черные гладко назад зачесаны, на затылке собраны в лучок. Подошла, осмотрела рану спереди, сзади, спросила хмуро:
– А вы зачем сюда пришли?
– Как зачем?.. – растерялся Гурин. – Вот…
– Сестра, подайте йод. – И она сама помазала ваткой на палочке входное и выходное отверстие. – Все. Рана ваша зажила.








