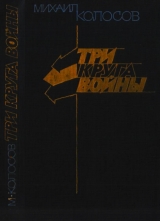
Текст книги "Три круга войны"
Автор книги: Михаил Колосов
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 30 страниц)
Раздумья
 едели не прошло – Гурина вызвали в Карлсхорст, в политотдел, на совещание комсоргов, на котором было сделано два больших доклада. Первый – о комсомольской работе в частях и подразделениях в мирных условиях и второй – об отношении к немецкому населению.
едели не прошло – Гурина вызвали в Карлсхорст, в политотдел, на совещание комсоргов, на котором было сделано два больших доклада. Первый – о комсомольской работе в частях и подразделениях в мирных условиях и второй – об отношении к немецкому населению.
Во втором докладе по существу ничего нового не было: об этом начали толковать еще с тех пор, как вступили на территорию Германии, сейчас лишь просто напомнили общие положения нашей политики, уточнили некоторые детали, предостерегли от возможных ошибок, тем более что и опыт уже кое-какой накопился. Однако ни примеры, ни детали для Гурина не были открытием. Его поразил первый доклад: как-то странно было слышать даже сами слова «мирное время», «мирные условия»! С трудом поворачивалось сознание на эти новые понятия. Удивляло и другое: как быстро сработали политорганы! Уже были заготовлены темы бесед и докладов, распечатаны брошюры, плакаты, которые в ближайшие дни поступят в подразделения.
После совещания комсоргов повели на экскурсию в бывшее немецкое военно-инженерное училище, где был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии.
Еще два дня назад это было обыкновенное здание училища, и зал офицерской столовой был просто столовой, а теперь все это стало историческим. И само здание, и зал, и стол, и стулья – все наполнилось новым большим историческим смыслом.
Комсорги шли по коридорам торопливой, притихшей стайкой экскурсантов, ловили каждое слово ведущего, с благоговением толпились у входных дверей в зал, не смея прикоснуться к тамошним вещам, как к дорогим музейным реликвиям.
Гурин и Шура держались вместе, словно школьники. Он то и дело ловил ее руку и тащил за собой, заботясь, чтобы и она не пропустила ни одной детали из рассказа офицера, который присутствовал на исторической процедуре и теперь охотно рассказывал о ней во всех подробностях.
Сердце Гурина полнилось гордостью от соприкосновения с историей, от сознания, что и он был хоть маленьким, но участником этих событий. «Мы – победили! Сокрушили такую махину! Сбили спесь с фашистов, заставили их не только поднять руки, но и подписаться под собственным крахом!..» – торжествовал Гурин. От волнения он крепко сжимал Шурину руку. Та морщилась от боли, с трудом выпрастывала ее из его кулака, но он снова ловил ее и, чтобы не потерять, сжимал еще крепче.
Когда кончилась экскурсия и все, словно школьники, заторопились к выходу, Шура подняла на Гурина глаза, попросила:
– Отпусти руку-то, совсем пальцы раздавил… Откуда и сила! Что с тобой? – Она разминала онемевшие пальцы, смотрела на него удивленно.
– Ты знаешь, Шура!.. Вот хожу я здесь… Да и не только здесь, – по городу, вижу все, слышу, сознаю, что произошло, что происходит, но где-то в глубине во мне все время сидит неуверенность: не верится все еще мне, что это свершилось в реальной жизни, что все это сделали мы и что я здесь! Понимаешь, боюсь проснуться.
– А ты ущипни себя.
– Да нет… Не то… – Гурин досадливо поморщился: не поняла она его состояния. Предложил: – Давай махнем в центр, побродим по Берлину.
– Давай! – она охотно согласилась. – Съездим в рейхстаг?
– Точно!
На попутных машинах они быстро добрались до центра. Прошли по широкой Унтер-ден-Линден к обшарпанным снарядами Бранденбургским воротам и далее – к рейхстагу.
Обугленная серая каменная громада рейхстага грузно сидела особняком сразу за воротами направо. Кое-где из черных оконных глазниц ее еще курился дым. Вокруг этой громады, словно муравьи, сновали люди. Это были наши солдаты и офицеры. Они фотографировались у рейхстага, взбирались по обгорелым лестницам на верхние этажи, писали на стенах и колоннах свои имена.
По хрустящим под ногами стеклам, по кускам отбитой штукатурки, по выщербленным ступеням Гурин и Шура вошли в круглый вестибюль рейхстага и огляделись. Сейчас, конечно, трудно определить, что это было – то ли вестибюль, то ли зал какой: в нем все выгорело до самого верха. Там, где-то далеко вверху, лазили солдаты, не боясь сорваться с искореженных лестниц, перекликались весело, отпускали шуточки в адрес Гитлера.
Шура подняла кусок кирпича, выбрала на стене свободное местечко, царапнула по штукатурке, оглянулась на Василия, застенчиво улыбаясь:
– Давай и мы распишемся?
– В поссовете.
– Нет, здесь. На память.
– Здесь неудобно…
– Почему? – удивилась она, опустив руку.
– Мне кажется, мы не имеем на это права: мы ведь не штурмовали рейхстаг. А теперь вроде примазываемся к чужой славе.
– Ну, какой-то ты… – огорчилась Шура, бросила кирпич и стала отряхивать руки.
Походив по вестибюлю, они наверх никуда не полезли, вышли на волю.
Тут подбежал к ним немец и стал уговаривать сфотографироваться на фоне рейхстага. Гурин было заупрямился, и тогда немец быстро переключился на Шуру – стал показывать ей раскрашенные образцы фотографий – целехонький рейхстаг, Бранденбургские ворота, довоенную Унтер-ден-Линден, композиции из всех этих видов и с надписями: «Привет из Берлина», «Знамя Победы над рейхстагом».
– Вася, ты взгляни, взгляни, как чудесно! Давай на память?..
Гурин посмотрел на образцы и удивился: «Как быстро перестроился фриц! Вчера еще, наверное, всюду лепил свастику, а сегодня – серп и молот. И на куполе рейхстага уже реет красный стяг!» Но следы спешки оборотистого фотографа были видны почти на каждой открытке: печатное «л» в слове «Берлина» написано в зеркальном изображении, серп и молот на знамени над рейхстагом тоже были нарисованы как-то по-чужому – шиворот-навыворот.
– На память?.. – не унималась Шура.
Немец сам выбрал место, поставил их на выигрышном фоне и принялся старательно наводить фокус.
– Ты чего такой сегодня? – упрекнула Шура Василия, настраиваясь на непринужденную улыбку. – Даже сфотографироваться не хочешь.
– Примета есть. Бабушка моя говорила: если вдвоем сфотографироваться – к разлуке, – отшутился он.
Шура глянула на него удивленно.
– Бабушка?.. Так ты еще и суеверный?
– Гу-ут!.. – протянул немец заискивающе. – Зер гут! – И он дал Гурину квиток, пояснив: – Луизенштрассе, сорок пять…
Гурин закивал головой, мол, понял: за карточками надо будет прийти на Луизенштрассе. Но немец не отпускал его, он продолжал втолковывать, что, если им удобно, за карточками можно приехать и сюда, к рейхстагу, он будет иметь их при себе. Гурин не знал, как ему быть: к рейхстагу в ближайшие дни он вряд ли приедет, делать ему здесь нечего, а на Луизенштрассе…
– Где эта Луизенштрассе?
Немец показал в восточную сторону. «Ну и хорошо – к лагерю поближе. Пусть будет Луизенштрассе, когда-нибудь забегу. Приеду в Карлсхорст в политотдел по делам и забегу на Луизенштрассе».
– Карлсхорст? – уточнил Гурин.
– Найн, – закрутил головой немец. – Лихтенберг.
Лихтенберг где-то там рядом, он слышал такое название. «Найду!..» – решил Гурин.
К себе в лагерь они возвращались в кузове попутного «студебеккера».
Проехали разрушенный город – тихий и какой-то безлюдный. Немцы, работавшие кое-где на разборке развалин, не нарушали этой тишины: работали они медленно, передавая по цепочке кирпичик по кирпичику. Пригород был совсем безлюдным – чистенькие, ухоженные особнячки стояли в глубине садов с опущенными жалюзи, будто необитаемые.
Лихой шофер гнал машину на полной скорости, как по загородному автобану. Миновал на окраине небольшую кирху, круто свернул по шоссе влево и сразу на выезде из города остановился.
– Приехали! – прокричал он. – Мальсдорф.
Гурин выпрыгнул из кузова и поднял руки, предлагая Шуре свою помощь.
– Я сама… Я сама… – замахала Шура рукой. – Отойди…
Подтянув зауженную юбочку и оголив крепкие круглые колени, она перекинула через низкий задний борт ногу в хромовом сапожке и стала осторожно нащупывать железную скобу. Он подошел, хлопнул ладонью по гладкому голенищу, сказал:
– Прыгай!
Она оглянулась и прыгнула ему в руки. Ловко поймав ее, он не сразу опустил Шуру на землю.
– Да ну же!.. – вырываясь из его рук, она била его кулачком по плечу.
Гурин отнес ее на обочину и только там отпустил.
Высунувшись из кабины, солдат, улыбаясь, наблюдал за ними. От смущения Шурино лицо покрылось румянцем, который всегда так нравился Гурину. Он любовался ею, а она, оправляя на себе юбку, обиженно ворчала:
– Вот еще… Люди же смотрят…
Она поддела под ремень два пальца, разогнала складки, сняла с плеча планшетку, собрала в кулак тонкий ремешок ее, сбежала с дорожной насыпи вниз.
– Спасибо, славяне! – Гурин поднял руку, помахал солдату.
– На здоровье! – подмигнул тот, сверкая белыми зубами. – Не заблудитесь?
– Нет! Вон только поле перейти – лес, там наши землянки.
– Лейтенанта не обижай.
«Студебеккер» заурчал, стал выруливать на дорогу. Шура взглянула ему вслед, помахала планшеткой. Солдат ответил ей взмахом пилотки.
Они шли узкой полевой тропкой гуськом – Шура впереди, Гурин за ней. Ему хотелось идти рядом, но сырая пашня с обеих сторон не позволяла это сделать, и он в душе проклинал немецкую аккуратность, немецкий рационализм, которыми в другое время не переставал восторгаться. «У моей бабушки на огороде между грядками тропки шире, чем здесь в поле!..» – негодовал он про себя.
Наконец пашня немного расступилась, и Гурин тут же догнал Шуру. Перебросив плащ-накидку на левую руку, он правой взял ее под локоть. Она доверчиво прильнула к нему, и он поцеловал ее в щеку. Шура вскинула на него благодарные глаза и в ответ локтем прижала его руку к себе.
– Шурка, я люблю тебя… – прошептал Гурин ей в самое ухо. В ответ она лишь крепче прижалась к нему.
Солнце уже лежало на горизонте и, прежде чем совсем скрыться, на прощание поливало землю яркими лучами. Весенние запахи травы, земли обострились, кружили голову. Он преградил Шуре дорогу и, поймав ее губы, страстно стал целовать. Она отвечала ему с какой-то жадной готовностью.
Гурин бросил на траву плащ-накидку, и они опустились на нее, не отрываясь друг от друга. Ее узкое военное платье, перепоясанное широким офицерским ремнем и портупеей, мешало ему, он тщетно пытался пробраться к ней сквозь эту амуницию. И тогда Шура прошептала горячо:
– Я сама… Только ты не смотри…
Они лежали под маленьким, совсем еще подросток, вишневым деревцем, сплошь усыпанным цветами. И от этого деревца исходил такой родной, такой домашний запах цветущего вишневого сада.
– Точно как у нас дома! – воскликнул он невольно. – Шура, посмотри – вишня! У нас сады такие. Представляешь, когда они цветут – всё как в молоке, а воздух становится от запаха такой густой, ароматный, настоянный на вот такой белой пене цветов. И в это время, как правило, солнышко пригревает, трава на глазах растет и – такая тишина в природе! Только слышен пчелиный гул, сплошной, будто басовая струна гудит. Красота!
И тут, как бы в подтверждение его слов, взлетела с цветка запоздалая пчела, стала парить над веткой, выбирая, в каком бы цветке еще напиться сладкого нектара, выбрала, прильнула к нему, изогнулась полосатенькой спинкой, уперлась остреньким брюшком в лепесток, заработала с жадностью.
– Да вот она, смотри! – обрадовался он пчеле, как чему-то родному.
– Глупенький, ты еще совсем мальчишечка: букашке радуешься, – приласкалась к нему Шура.
– Нет, понимаешь, странно: точно как у нас дома… И запах такой же. Вот увидишь! Поедешь к моей маме… Да? Поедешь?
– Очень я ей там нужна…
– Нет! Ты так не говори! У меня мама хорошая, понятливая. Она тебя будет любить. Я ей все напишу. Я сегодня же ей напишу все про нас, чтобы она знала.
– Не надо…
– Почему?
– Ну не надо раньше времени расстраивать.
– Какое же тут расстройство? Радость! – и он обнял Шуру, поцеловал ее в губы.
– Пойдем, поздно уже.
– Шура, ну чего ты боишься? Мама…
– Подумай сам хорошенько… Ну, приедем мы к твоей маме… Ни у тебя никакой специальности, ни у меня. Сядем маме на шею?
– Вот слово даю тебе, Шура, – я обязательно добьюсь своего в жизни! Ради тебя все сделаю!
– Глупенький. А пока добиваться будешь, как жить будем? Трудно придется тебе, Вася.
– Ты имеешь в виду оккупацию?
– Не только… Вообще…
– Знаешь, насчет оккупации я тебе скажу так. Это было мне испытание, и я его выдержал с честью. Откровенно тебе признаюсь: во время оккупации я часто думал, что, когда придет освобождение, когда придут наши, меня призовут куда надо и похвалят за то, что я был смелым и честным перед Родиной, перед комсомолом. И вот увидишь: еще придет такое время! Майор Кирьянов прав: в суете войны не до этого было.
– Похвалят, похвалят, – Шура по-матерински погладила его по голове. – Не паникуй только.
– Знаешь, кем бы я хотел стать, чем заниматься?
– Офицером.
– Да… мечтал. Всю войну мечтал стать офицером. А теперь это желание почему-то поприутихло. Во время войны мне казалось, что офицером я больше пользы принес бы, а теперь чувствую, это уже не так важно, и меня все больше одолевает мечта стать… журналистом. Буду разъезжать по стране, видеть новые места, узнавать новых людей и описывать. А?
Шура в ответ грустно улыбнулась.
– Не веришь? – вздохнул он. – Конечно, трудно будет этого добиться. В институт трудно будет поступить: все, чему учили в школе, забыл. Повторять – учебников нет, да и некогда этим заниматься. А что делать? Скорее бы уж что-то определялось: либо в офицеры, и тогда бы я твердо уже знал: моя судьба – армия! Либо демобилизация – и тогда… И тогда – не знаю, что день грядущий мне готовит… Но, – вдруг он оживился, – если ты будешь со мной – я все преодолею! Ты – цель моя, а ради этой цели…
Она будто не заметила его оживления, посоветовала просительно:
– Что бы ни случилось, будь мужественным…
– Ты о чем? – насторожился Гурин.
– Да обо всем, Вася… – она запнулась, стушевалась почему-то, но быстро оправилась, сказала рассудительно: – В жизни всякое случается: неудачи, разочарования, крушение мечты…
– Если очень хотеть, стремиться!.. – запальчиво начал он, но она его перебила:
– Часто бывает так, что от тебя это не зависит. Обстоятельства иногда складываются сильнее твоих стремлений. Тебе будет очень трудно, но ты…
– Да о чем ты? – забеспокоился он. – И ты мне не веришь? Поэтому ты боишься идти со мной до конца? Боишься трудностей? И все это из-за проклятой оккупации?
– Успокойся, Вася. Ничего этого я не говорила. Я только прошу тебя: будь мужественным.
– А я трус разве?
– Нет. Но одно дело быть смелым на войне и совсем другое быть мужественным в мирной жизни. Не теряй самообладания.
– Что-то не совсем понятны мне твои призывы… – сказал он скорее себе, чем ей. Потом он взял ее за обе руки, заглянул в глаза: – Что-нибудь случилось?
– Нет, ничего… – необычно быстро ответила она и высвободилась из его рук. – Пойдем, поздно уже.
_______
Так случилось, что после этого Гурин и Шура видеться стали реже, чем раньше: она ссылалась на занятость, да и сам он тоже был занят делами по горло и поэтому верил ей и часто удовлетворялся разговором по телефону или коротким свиданием при случайной встрече. Охлаждения в их отношениях Гурин не почувствовал, у него было просто очень плохое настроение, которое ему не хотелось показывать Шуре. «Вот пройдет все, – думал он, – и все встанет на свое место». А пройти в его жизни должно безвременье, неопределенность, которые тянулись уже третий месяц, и конца им пока что не было видно. Уже на исходе было лето, не за горами – осень, а у него никаких перемен: ни утверждения в существующем положении (на что он уже мало надеялся), ни увольнения в «гражданку», которая пугала его своей неизвестностью. По-прежнему, как когда-то в школе, мечталось об институте журналистики, но по всему похоже, что для поступления в институт время в этом году будет упущено. А это значит – еще один год пропал…
Особенно тоска охватила Гурина, когда был опубликован указ о демобилизации из армии солдат и сержантов первой очереди. Под этот указ подпадали военнослужащие 1905 года рождения и старше. Гурин прикинул, когда при таких темпах дойдет очередь до него, и загрустил: выходило, что служить ему предстояло еще не один год.
Тоска стала грызть его с неимоверной силой, у него пропал аппетит, он исхудал, щеки ввалились, глазницы потемнели. Волосы стали выпадать. Доктор Люся при встречах сокрушенно качала головой, говорила:
– Да, климат этот немецкий нам, русским, не подходит. Нездоровый климат.
Шура тоже видела, как на глазах свечкой истаивал парень, старалась отвлечь его от мрачных мыслей, но посвящать все свое время ему она не могла.
Однажды она прибежала к нему сама без предупреждения и увела его погулять в лес. Они долго бродили вдалеке от лагеря и к заходу солнца вышли к знакомой вишенке. Плотные листья молодого деревца блестели в лучах заходящего солнца. Гурин окинул вишню взглядом, но ни одной ягодки не увидел. И не удивительно – было уже поздно, вишни давно прошли. Лишь на самой верхушке он заметил сморщенную высохшую ягодку. И вновь нахлынули воспоминания: именно в эту пору он мальчишкой любил лазить по деревьям и собирать вот такие сухие ягоды, которые еще не успели стать добычей скворцов, уже собиравшихся к этому времени в многочисленные стаи. Сморщенные, сухие, наполовину склеванные птицами вишни были сладкими и вкусными. Старшие поддакивали ребятам и многозначительно говорили, улыбаясь друг дружке: «Да, надклеванная ягодка всегда слаще!» Теперь только до Гурина стал доходить скрытый смысл этой поговорки.
Василий достал вишню и вложил ее Шуре в рот:
– Попробуй. Это вкус моего детства, моей родины. – Он привлек ее к себе, стал целовать.
Она сначала противилась его ласкам, была какой-то упругой, неподатливой, но вдруг обмякла, проговорила тихо:
– Ладно… Теперь уж все равно…
…К лагерю они подошли потемну. Вдали за деревьями уже завиднелись тусклые лампочки у штабных домиков, уже потянуло запахом солдатской кухни, когда Шура остановилась и придержала его за руку:
– Подожди, попрощаемся…
Он остановился и расставил руки для объятий. Она вдруг уткнулась лицом ему в грудь и заплакала.
– Ну чего ты?.. Шура?.. Меня зовешь мальчиком. Сама ты девочка. Девчонка. Не надо, Шура… Все будет хорошо. Я же говорил уже тебе: если что, поедешь к моей маме. Я ей сегодня же напишу. Хочешь?
– Прости меня, Вася… Ты очень хороший… Прости…
– Да что случилось, глупенькая? Все очень хорошо…
– Прости…
Ну вот, заладила: «прости» да «прости». Все будет хорошо. Я люблю тебя еще больше. Понимаешь, я тебя совсем-совсем люблю!
– Прощай… – Шура сдавила его рот крепким поцелуем.
– Не прощай, а до свиданья… – еле переводя дыхание, поправил он ее. – Приходи завтра в это же время к нашей вишенке.
– Не смогу, наверное…
– Почему?
– Уеду.
– Куда?
Она не ответила.
– Куда? – спросил он снова.
– В командировку…
– А молчала. Далеко? Надолго?
– Не знаю… – и она быстро отступила от него. – Прощай, милый. Я напишу тебе.
– Позвони. Я буду в штабе.
– Не знаю… – Шура отвернулась и, склонив голову, направилась в свой батальон.
Вскоре он услышал строгий окрик часового:
– Стой! Кто идет?
– Свои, – сказала Шура.
– А-а!.. Товарищ младший лейтенант!.. – голос часового потеплел. Он что-то еще ей сказал, но Гурин не расслышал.
К себе в расположение Гурин возвращался в растрепанных чувствах: с одной стороны, его несло как на крыльях от любви – гордость и радость распирали его; с другой – беспокоило странное прощание с Шурой. «Переживает, бедняжка… – думал он. – Ну конечно же мучается… Да и какая порядочная девушка не будет переживать после этого? Может, думает, я подлец? На лбу же не написано, что там у меня на уме. Глупая Шурка! Не доверяет мне… А ведь я ее никогда не брошу! Никогда! Я не из тех, не обману». И ему захотелось закричать эти слова ей вдогонку. Но она была уже далеко, да и он уже шел по расположению батальона.
– Долгонько, братец, ты сегодня! – упрекнул его майор. – В роте при отбое присутствовал? – он хитро сощурил глаза.
– Нет… Я с Шурой был, – признался Гурин.
– А-а!.. То-то комбат пулеметного весь телефон истерзал – все спрашивал: не вернулся ли?
– Зачем я ему? – удивился Гурин.
– Да ты ли ему нужен! – прогремел майор своим хриплым басом и закрутил головой, удивляясь гуринской наивности. – Своего комсорга потерял…
– Шуру? Мировая девушка!
– Мировая!..
– Я на ней женюсь, – похвастался Гурин.
Майор, по обыкновению своему, когда хотел изобразить сильное удивление, вытянул в трубочку губы, раскрыл широко глаза и стал поводить головой, как бы ища кого-нибудь, кто мог бы подтвердить услышанное.
– Правда, – сказал Гурин доверительно.
Майор посерьезнел.
– Ты вот что… Давай иди-ка ты ужинать, потом поговорим, – и он указал ему палкой в сторону столовой.
Но разговор на эту тему больше не возобновился. Да и какой мог быть разговор: это ведь дело сугубо личное, их дело – Гурина и Шуры. Майору он сказал об этом только потому, что любил его и доверял ему во всем, как отцу родному.
Шура уехала в командировку, и новая тоска навалилась на Гурина в придачу к старым раздумьям. По мере возможности свое дурное настроение он пытался утопить в работе, хорошо, что в ней не было недостатка: собрания в ротах, наглядная агитация, самодеятельность. Особенно самодеятельность помогала: он любил это дело. Материала было мало, ни скетчей, ни одноактных пьес, ни текстов песен, ни нот, ни рассказов, ни стихов – ничего этого не было. Собирал он с бору по сосенке. А постановку чеховской «Хирургии» сделали по памяти. Был у них в хозвзводе старый учитель-литератор Семен Семеныч – тоже любитель самодеятельности, вот вместе с ним они и вспоминали текст, записали его, присочинив немало своего, а потом и поставили эту сценку: Гурин играл больного, Семен Семеныч – хирурга. Инструмент для «доктора» – пассатижи-«щучки» – взяли у батальонного сапожника Васи, зуб величиной с полено вытесали из дерева, корень зуба Семен Семеныч покрыл красной краской. Этот огромный зуб прятался в повязку больного и вытаскивался «хирургом» якобы изо рта страдальца пассатижами. Успех сценки был необыкновенный.
Это – днем. А вечерами Гурин скучал, думал о Шуре, о себе, о своем будущем. Чтобы хоть немного отвлечься, он читал книги.
В один из таких вечеров, когда Гурин дочитывал, толстую исповедь, у них в домике появился младший лейтенант Малышев.








