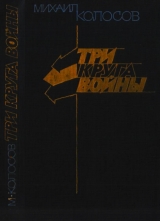
Текст книги "Три круга войны"
Автор книги: Михаил Колосов
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 30 страниц)
На Берлин!
 ано утром 16 апреля 1945 года от залпа сотен орудий и взрывов тысяч бомб и снарядов земля на Кюстринском плацдарме за Одером вздрогнула и заходила ходуном, словно плавучий островок на зыбкой основе.
ано утром 16 апреля 1945 года от залпа сотен орудий и взрывов тысяч бомб и снарядов земля на Кюстринском плацдарме за Одером вздрогнула и заходила ходуном, словно плавучий островок на зыбкой основе.
Гурин проснулся от ощущения какого-то обвала. Деревянный барак раскачивало, будто лодчонку в штормовую погоду, стекла непрерывно дребезжали.
Нашарив в темноте на привычном месте обмундирование, он торопливо натянул брюки, гимнастерку, сунул ноги в сапоги, выскочил на улицу. У крыльца уже стояли комбат Дорошенко, майор Кирьянов и капитан Землин. Они молча смотрели на запад. Комбат единственный, кто был одет по всей форме. Остальные, видать, как и Гурин, выскочили наспех.
Слегка согнув левую ногу в колене, комбат стоял в свободной позе, крепко держась правой рукой за пряжку ремня и изредка дергая правым плечом и поводя шеей, словно ему давил тугой воротничок. Землин, застегнув только что ремень, одергивал гимнастерку, искал на голове фуражку, чтобы поправить, и, не найдя ее, ладонью приглаживал волосы, ровнял на лбу чапаевскую челочку, подкручивал по-чапаевски остренькие усы. Кирьянов без ремня и без фуражки стоял, опершись двумя руками на палочку, и с застывшей улыбкой смотрел вперед. Там, за вершинами сосен, по всему горизонту небо было высветлено каким-то непонятным заревом и беспрестанно что-то обвально грохотало. Казалось, все перевернулось, и восход начинался не с той стороны, и от этого было жутко. Гурин оглянулся на восток, небо там предрассветно еле-еле серело, все больше и больше наливаясь голубизной. Нет, с восходом было все нормально… Но что за зарево, такое необычное, на западе? На пожары не похоже – отсвет не такой – белый, ровный, и дыма не видно, и пламя не полыхает.
Землин недоуменно поглядывал на комбата, ждал объяснения, а комбат молчал, сам, видать, не знал, что там происходит.
– Что-то новое применили? – предположил Землин озабоченно.
Оба майора молчали: кто применил – мы или немцы? И что применено – никому пока ничего не ведомо.
Только потом узнали, что это «новое оружие» применили наши войска: они включили больше сотни прожекторов и ослепили немцев.
А в то утро все стояли и гадали, что происходит на передовой? Оттуда слышался лишь сплошной грохот артподготовки да видно было это необычное зарево.
В то утро быстрее обычного, будто по тревоге, весь лагерь без побудки поднялся на ноги. Командиры рот, выбежав из своих домиков, устремлялись к штабу, но, увидев спокойно стоящих старших командиров, останавливались на полпути и, оправляя гимнастерки, оборачивались на запад. Дальше от них, поближе к курсантским землянкам, в таких же позах застыли командиры взводов. А у самих землянок восторженной толпой замерли сержанты и курсанты – они смотрели в одну сторону – на запад.
Земля продолжала дрожать, выстрелы и разрывы слились в один сплошной грохот, за которым Гурин не сразу услышал самолетный гул. В посеревшем рассвете штурмовики появились неожиданно – низко, почти цепляясь за вершины сосен, они прошмыгнули на запад густой черной массой. А вслед за ними на порядочной высоте туда же поплыли бомбардировщики, надрывно, тяжело гудя моторами.
Началось!
Представлял Гурин, что сейчас творится на передовой – земля и небо смешались в первозданном хаосе, и тем не менее ему хотелось быть там – в этом последнем и решающем наступлении.
Через какое-то время гул, удаляясь, стал затихать. И только штурмовики, волна за волной, волна за волной – одни на фронт, другие с фронта, непрерывно ревели над головами.
– Похоже, прорвали! – вздохнул Землин. – Ну, сынки! Удачи вам!..
А у Гурина комок подступил к горлу, не может сдержать волнения: не верится – неужели это последний рывок, неужели скоро конец?.. Поднял руку, хотел вытереть глаза и только теперь увидел, что он держит в руке и крепко сжимает свои портянки. Откуда они? Наверное, схватил впопыхах, а наматывать не стал, выскочил на босу ногу. Пока никто не увидел, спрятал руку с портянкой за спину, вытер глаза по-мальчишески – кулаком.
Командиры рот подошли поближе, поглядывали на комбата, ждали распоряжений. Комбат понял состояние офицеров, посмотрел на часы:
– Ну что, товарищи офицеры? Скоро шесть часов. Подъем и – занятия по расписанию.
Не сразу и как-то неуверенно, с неохотой расходились командиры рот по своим подразделениям…
* * *
Наступление развивалось, однако не так быстро, как это казалось со стороны. За целый день армия продвинулась вперед всего лишь на шесть – восемь километров, прорвав несколько оборонительных линий главной полосы обороны немцев. В особенно трудное положение попала соседняя армия, надолго увязнув на сильно укрепленных Зееловских высотах.
К исходу второго дня, прорвав вторую полосу обороны, армия продвинулась еще на шесть, а местами до тринадцати километров.
Поэтому в учебном батальоне слышали недалекий гул фронта и весь первый день, и ночь, и все вторые сутки… Гул этот то затихал, и тогда казалось, что фронт двинулся вперед, то он вдруг нарастал с новой силой, и тогда всё вслушивались в него с тревогой: а не пошел ли немец в контрнаступление?
Наша авиация без устали работала круглые сутки. Штурмовики, будто рой пчел, не покидали небо – одни стремились к фронту, другие, чуть повыше первых, летели в тыл за боекомплектами. И по тому, как быстро они возвращались после бомбежки, в батальоне определяли: фронт все еще близок.
Занятия в эти дни шли трудно, курсанты скорее походили на сторожких гусей, опустившихся на незнакомое поле, чем на солдат: с задранными головами, с вытянутыми шеями они напряженно слушали фронт и горячо обсуждали свои догадки о ходе боевых действий.
Нет, лучше быть на передовой, чем сидеть во втором эшелоне и почти втемную гадать, что там происходит!.. Официальные сводки, как всегда, приходили с опозданием, а пока были только слухи, слухи, слухи. Притом слухи самые разноречивые, хотя фронт и был под боком. Одни превозносили наши успехи до небес, другие рассказывали о коварстве противника, о каком-то новом оружии у него, о крупных силах, якобы собранных на Берлинском направлении, о тайном сговоре с союзниками против нас. Правда перемешивалась с ложью, действительное с вымыслом, серьезное с шуточным. Говорилось, что немцы подвезли из Берлина и ввели в бой две танкоистребительные бригады – «Гитлерюгенд» и «Дора», состоящие из отъявленных головорезов и вооруженные каким-то новым противотанковым оружием, почище фаустпатронов. С деталями и подробностями, с большой долей солдатского воображения смаковался случай, когда немцы бросили в атаку женский батальон с широкими лентами через плечо, на которых было написано: «За смерть мужей!»
После Гурин узнал, что многие слухи основывались все-таки на реальных фактах, хотя и были сильно преувеличены в ту или другую сторону. Оказывается, были и «Гитлерюгенд», и «Дора», а кроме того, еще и разные отдельные батальоны – пулеметные, охранные, полицейские, отряды фольксштурма, специальные команды, школы, дивизия СС «Нордланд», караульный полк и много других частей и подразделений, и в том числе женский батальон.
…На пятый день наступления учебный батальон был поднят по тревоге и построен возле штаба. Выслушав рапорты командиров рот, комбат сделал два шага поближе к строю, необычно взволнованно произнес:
– Товарищи курсанты!.. – Выдержав время, продолжил спокойнее: – Командование армии возложило на нас новую серьезную задачу. Наши войска прорвали оборону противника и продолжают наступление. Передовые части с тяжелыми боями рвутся к Берлину, преодолевая одну за другой сильно укрепленные оборонительные полосы. Немцы оказывают упорное сопротивление, все города они превращают в опорные пункты, в своеобразные крепости. Нашим войскам дан приказ: обходить города, в уличные бои не ввязываться, все силы сосредоточить на Берлин. Взять как можно скорее Берлин – задача первоочередной и военной и политической важности. Уничтожение окруженных группировок в городах и разрозненных групп в лесах возложено на второй эшелон, в том числе и на нас с вами. Поэтому я требую максимальной собранности и бдительности: мы находимся в боевой обстановке. Очистить тылы нашей армии от немецких группировок – это задача не простая. Фашисты перед концом лютуют, они все еще надеются остановить нас и перейти в контрнаступление. И я должен сказать вам, что сил у них еще немало, и думать, что мы их уже победили, – рано. Нам нужно быть максимально собранными, до конца быть в боевой готовности. – Комбат оглянулся на майора Кирьянова, тот кивнул ему и, встав рядом с ним, сощурившись, окинул строй из конца в конец, кашлянул, прочистил горло, заговорил:
– Я заметил, что у нас последнее время как-то поослабла дисциплинка. Учиться стали с неохотой, то, другое… Расхлябанность, разболтанность появились: мол, война уже кончается, зачем нам учеба, зачем нам дисциплина? Все равно, мол, скоро по домам. Рано, дорогие товарищи, распоясываетесь! Рано! Впереди, может быть, самые большие трудности. Пружина немецкой армии сжата до предела. Если мы расслабимся, она может еще так распрямиться, что бед наделает немало. Очень дорого нам может обойтись наша расхлябанность. Это первое. Второе. Отношение к немецкому населению. Мы пришли в Германию как освободители от фашизма. Поэтому мы должны завоевать народ на свою сторону, помогать прогрессивным немецким силам. Наша армия с мирным населением не воюет! Ясно? Вот так и будем действовать.
– Ты хотел что-то сказать? – обернулся комбат к Гурину. – Пожалуйста.
– Товарищи коммунисты и комсомольцы, – Гурин вышел вперед, – сейчас прошу всех собраться на киноплощадке – на очень короткое собрание.
– Всё, – сказал комбат. – Через час выступаем. Быть в полной готовности к боевым действиям. Командирам рот лично проверить все, до мелочей. Можно разойтись.
Скамейки на киноплощадке заполнились быстро. Поскольку Гурин был один в двух лицах – и парторг и комсорг, он и решил провести объединенное партийно-комсомольское собрание. Тем более что задачи-то у всех были одни. Да и собрание это было скорее общим инструктажем: никаких прений, просто он лишний раз напомнил им о роли коммунистов и комсомольцев на марше и в бою, призвал агитаторов усилить свою работу, используя каждую свободную минуту, особенно на привалах, перед боем. Раздал газеты, бланки «боевых листков».
Припадая на больную ногу, приковылял на собрание и майор Кирьянов. Здесь он повторил, что говорил перед строем, только сейчас речь его была более конкретной и эмоциональной. Он напомнил некоторые факты нарушения дисциплины, случай со старшиной Грачевым, призвал к сознательности, к бдительности, успел пошутить и распустил всех по подразделениям.
Через час все три учебных батальона большой колонной вышли из леса и направились на запад, а точнее – на Берлин. О том, что дорога вела именно в этот город, говорили многочисленные указатели и плакаты. Они не просто говорили, а кричали об этом, звали: «До Берлина 60 километров!», «Добьем фашистского зверя в его логове – в Берлине!», «На Берлин!» На огромном фанерном листе не плакат, а настоящая красочная картина: лихой парень в пилотке набекрень, с улыбкой до ушей, сидит на пеньке, перематывает портянку. Внизу подпись: «Дойдем до Берлина!» Этот плакат Гурину особенно понравился, он даже погордился за людей, которые успели все это сделать, тем более что это сделали люди его профессии – политработники.
Приотстав от своего батальона и присоединившись к пулеметчикам, он шел вместе с Шурой. Настроение было приподнятым, чувство близкой победы, чувство последнего перехода пьянило людей, они шутили, болтали, смеялись, как дети. Шурочка, как всегда, когда она была в хорошем настроении, подтрунивала над Гуриным.
– Ой, смешной ты, Вася! – она поглядывала на него счастливыми глазами, сверкала ямочкой на щеке. – Радуешься так, будто это ты нарисовал такого бравого солдата.
– Нет, не я… Мне бы и не придумать такое. А вот кто-то придумал, и получилось очень здорово: и остроумно, и метко, и политично.
– И тебе завидно?
– Завидно.
– Ты завистливый? – Шура сделала строгие глаза, заранее осуждая этот его недостаток. Строгость, конечно, была напускной, но ответа она ждала всерьез.
– Да, завистлив. Это плохо?
– Конечно! А если без шуток? – она сощурилась, глядя ему прямо в глаза.
– Завистлив, – повторил он.
– И ты не стараешься избавиться от этого недостатка?
– Нет. Он мне не мешает. Да я и не считаю это недостатком. Мне кажется, зависть – это движущий стимул.
– Интересная философия!.. – сказала она, оттопырив губы и склонив голову набок. – Ты очень самолюбивый, отсюда и зависть…
– Может быть. Но мне кажется, и самолюбие не порок. Все дело в том, как это понимать и как оно проявляется.
– Ты тщеславен?.. – продолжала она то ли спрашивать, то ли утверждать.
– Есть и такое, – согласился он.
– Легко раним?..
– Это – да! От этого я страдаю…
– И ревнивый?..
– Как Отелло! – улыбнулся Гурин, пытаясь свести разговор на шутку: ему почему-то расхотелось продолжать эту живую анкету.
– Ревнив, ревнив, я это заметила.
– Но не без причин? Правда?
– В том-то и дело, что…
Мимо, в голову колонны, проскакал на лошади комбат пулеметного батальона капитан Курбатов – кургузенький, в большой, надвинутой на глаза фуражке, он сердито взглянул на Гурина и тут же отвернулся, хлестнув лошадь плеткой. Шура осеклась на полуслове, и краска залила ее лицо.
– Вот она и причина, – сказал Гурин. – Легка на помине.
– Глупости!.. – рассердилась Шура.
– А покраснела?
– От глупой твоей ревности.
– Не сердись.
– Ты очень сложный человек, – сказала она серьезно. – Мне трудно с тобой… То ты безмятежный и безрассудный, как мальчишка, то вдруг как накатит на тебя, даже страшно становится. Комплексуешь ты часто…
– Есть причины, Шура… Вот кончится война, если живы будем, надеюсь, все утрясется.
– Что утрясется?..
– Товарищ старший сержант Гурин! – окликнул его кто-то с еле уловимым кавказским акцентом. Гурин оглянулся – рядом катил на шульгинской двуколке старший лейтенант Аспин. – Вы, кажется, батальоны перепутали? – и он улыбнулся Шуре. – Садись, довезу.
– Верно, пора мне уже… А то Кирьяныч будет беспокоиться, – Гурин сунул руку Шуре в карман и там крепко пожал ее руку. Потом чмокнул ее в щеку и побежал к Аспину.
– Мальчишка, – услышал он вслед обычную Шурину «дразнилку».
Взбираясь на двуколку, Гурин оглянулся, помахал ей рукой, прокричал:
– Твой вопрос остался открытым!
В ответ она еле заметно кивнула, прикрыв дрожащими веками глаза.
– Я помешал? – спросил Аспин. – Главный вопрос так и остался открытым?
– Ничего… – успокоил его Гурин. – Закроем!
Вскоре колонна остановилась, но никто не повалился устало на обочину, все в недоумении ждали объяснений остановки: для привала было еще слишком рано. Оказалось, с этого места по заранее намеченному плану все соединение разбивалось на три группы и дальше следовало тремя параллельными дорогами, не теряя связи друг с другом. Каждой стрелковой роте придавалась пулеметная рота и минометная батарея. Левой и правой группами командовали комбаты пулеметного и минометного батальонов, общее руководство оставалось за майором Дорошенко. В центральной группе были, кроме приданных подразделений, две стрелковые роты и взвод разведчиков.
Дальше двинулись уже не колонной, а несколькими цепочками, готовые в любую минуту к бою с неожиданным противником то ли в лесу, то ли в поле, то ли в населенном пункте…
Первый город встретил солдат затаившимся безлюдьем и морем уныло повисших из каждого окна белых флагов. В глазах рябило от сплошной белизны, как в березовой роще. Солдаты молча шли сквозь это белое безмолвие, поглядывали на пустые, будто вымершие окна. Нигде ни души, ни звука, ни шороха занавески. Пусто и мертво!.. Однако по каким-то неуловимым признакам каждый чувствовал, что город не пуст и не мертв, обитатели его лишь затаились в страхе. Иногда мелькнет в окне любопытное лицо, но, увидев на улице русских, тут же шарахнется в испуге в темную глубину комнаты или спрячется за стенку.
Гурин смотрел на белые полотнища, и сердце его колотилось в непонятном волнении: то ли его будоражила гордость при виде позорного конца чванливых и безжалостных завоевателей, то ли его ошарашило само это необыкновенное зрелище, это необычное «убранство» города. «Сволочи! – думал он, поглядывая на окна и мысленно разговаривая с теми, кто за ними прятался. – Испугались, затаились!.. То-то – за неправое дело дрались!.. А ведь ваши солдаты прошли по нашей земле от границы до Волги, огнем и мечом, что называется, прошили все насквозь, но, уверен, они нигде не увидели белого флага. Как ни зверствовали, как ни устрашали, – нет, не выбросили мы ни одного даже маленького белого флажка. А вы – пожалуйста, как по команде, словно у вас в загашниках рядом с гитлеровскими красно-черными флагами со свастикой в круге, которые вывешивались в дни празднеств, лежали и эти, белые, на случай неудачи».
– Ага, гады! Испугались! – громко восторжествовал Куликов, оглядывая этот обильный урожай белых флагов. – Сразу лапки кверху: «Сдаемся!.. Лежачих, мол, не бьют». А надо бы побить! Проучить ох как надо бы, чтобы и внуки и правнуки их больше никогда не зарились на чужое.
Обернулся Гурин на голос, слишком громко прозвучал он в этой тишине, но ничего не сказал Куликову, у самого голова была полна каких-то разноречивых мыслей по этому же поводу.
Прошли город, кончились каменные кварталы, остались позади белые флаги одного города, впереди были другие.
А на дорогах, больших и малых, пыхал из-под солдатских сапог, вздымался облаком и носился метельным вихрем белый пух распотрошенных перин и подушек.
И шли солдаты сквозь это белое безумие, сквозь белую метель из пуха и перьев, рассыпанных по всем дорогам, сквозь белые флаги затаившихся городов и поселков…
Ближе к Берлину пошли особняки, дачи, богатые виллы – ухоженные, чистенькие, нигде ни соринки, ни лишней травинки. Тропки, клумбочки, ажурные металлические оградки, воротца, калитки, хитрые замочки на дверцах, электрические кнопочки, вынесенные на столбик аж до самого тротуара.
Увидели в стороне от дороги такой особнячок из желтого кирпича – стоит как игрушка, украшенная молодыми невысокими пушистыми серебристыми елочками. Не особняк, а настоящий маленький дворец: центральный вход – с колоннами, два крыла – полукругом. Арочные окна. Из металлических прутьев заборчик окаймлял участок со всех четырех сторон. Чистота кругом – будто языком вылизано.
Отрядили двух курсантов обследовать дом, побежали они, придерживая на груди автоматы.
Аспин кивнул Гурину:
– Пойдем посмотрим?
– Пойдем!
И они заторопились вслед за курсантами.
Внутри дома полы паркетные, узорчатые, везде ковры, вазы, камины, облицованные голубой в рисунках плиткой. На стенах в золотых рамах живописные картины.
Обежав мигом особняк, курсанты открыли дверь в большой зал и оробели от богатого убранства его, застыли на пороге, а потом заспорили. Один толкал товарища, понукая его идти все-таки вперед, а тот упирался, боясь наследить своими сапогами.
– Во, видали такого? – оглянулся на подошедших Гурина и Аспина курсант, стоявший сзади. – Боится ковер фрицам испачкать! Ну? – он снова толкнул переднего в спину.
– А зачем? – отозвался тот. – И так видно: никого тут нет. Красота-то какая!
– На…ть мне на эту красоту посреди того ковра! – выругался второй. – А еще лучше – взорвать все это противотанковой гранатой. Это же тут наверняка жил какой-то эсэсовский генерал, не меньше.
– Зачем взрывать? Теперь это наше.
– «Наше»! Сохрани для фашиста его домик, он тебе спасибо скажет.
– Генерал тот уже сюда не вернется, – рассуждал первый. – Тут бы детский садик устроить!.. Очень удобное помещение. – Он оглянулся, увидел Аспина и Гурина, отступил от двери, давая и им полюбоваться. – Смотрите, как в музее!
– Наверное, так оно и есть, – сказал Аспин. – Музеи где-то обобрал, а свой особняк украсил.
Они прошли в зал, полюбовались картинами, вазами, мебелью.
– Нет, такое уничтожать, конечно, нельзя, – сказал Аспин курсантам. – Все это надо сохранить и вернуть в музеи.
Заводская окраина Берлина пустынна. Серые каменные здания, закопченные от времени, в руинах. Улица перегорожена баррикадой из огромных каменных глыб, противотанковых металлических ежей и перевернутого набок трамвая с номером 69 на его «кокарде». В баррикаде брешь, через которую солдаты вошли в город.
Идут тротуарами, смотрят во все глаза: они в Берлине!
Низкая, на уровне первых этажей, улицу пересекает эстакада городской железной дороги, серый каменный забор испещрен разными надписями. Среди них выделяется одна, чаще других повторяющаяся:
«BERLIN BLEIBT DEUTSCHEN!»
Намалеванная метровыми буквами белой краской, фраза эта вопиет о бессилии людей, сочинивших ее, она как истеричный, панический крик перед неминуемым: «Берлин останется немецким!»
Конечно же – немецким, каким же еще? И даже в панике тот сочинитель оставался лицемером, и это очень легко доказал наш солдат, который такими же метровыми буквами, такой же белой краской продолжил фразу еще тремя словами:
«ABER OHNE FASCHISTEN!»
«Но без фашистов!» – лаконично, просто и всем понятно. И перевернули напрочь эти три слова весь тот глубокомысленный, но лживый смысл, который вкладывал в них какой-то подручный Геббельса, а может быть, и сам Геббельс, обращаясь к национальным чувствам немецких солдат и жителей Берлина.
Гурин снова узнает почерк того же бойкого, остроумного и убежденного нашего политработника, который нарисовал еще там, у Одера, лихого парня, перематывающего портянку перед последним рывком.
«Молодец! Умный, видать, замполит прошел с передовыми частями!» – погордился Гурин за своего незнакомого коллегу, которого он представлял почему-то именно замполитом и похожим именно на майора Кирьянова.
– Что там, смешное что-нибудь написано? – спросил Аспин у Гурина. – Почему улыбаешься?
Гурин перевел ему надпись сначала только немецкую, а потом с нашей добавкой.
– Как здорово! – изумился Аспин. – Какая быстрая контрпропаганда! – Поинтересовался: – Ты хорошо знаешь немецкий?
– Разбираю, если текст не очень сложный. С четвертого класса учил. Плохо учил, не думал, что пригодится.
– А я в школе английский учил, – сказал Аспин. – Встретимся с союзниками, попробую поговорить.
Начались жилые кварталы, и снова – белые флаги из каждого окна.
Сколько их, этих белых капитулянтских флагов! Наверное, весь запас простынь в эти майские дни сорок пятого года Германия извела на белые флаги…
Батальон прошел окраинными улицами, потом где-то на сложном перекрестке, где пересекались на разных уровнях автобан, железнодорожные и трамвайные пути, перекидной пешеходный мост, где находился спуск в тоннель, над которым возвышалась огромная латинская буква «U», что означало «U-Ban» – метро, – повернул в сторону, миновал зеленый пригород и вышел снова за город. Отсюда их повели, как показалось курсантам, в обратную сторону, чему они необыкновенно удивились и ворчали, не скрывая своего разочарования.
Вскоре они оказались в лесу, где, видать, уже стояла недолго какая-то часть, успевшая лишь начать сооружение здесь военного лагеря. Теперь это место занял учебный батальон и сразу же приступил к делу: часть курсантов принялась строить лагерь, а другую, притом большую часть, отрядили на сооружение оборонительной линии в поле перед лесом. Лагерь – на случай длительной стоянки, оборона – на случай прорыва немцев из окруженного Берлина.
После они узнали, что лес этот именовался Хёновским, по расположенному неподалеку селению Хёнов. И в приказах комбата внизу делалась приписка: «с. Хёнов». А курсанты звали его Мальсдорфским, потому что Мальсдорф тоже находился рядом, а главное – это уже был Берлин.
Лагерь этот оказался последним в жизни учебного батальона, и последние десять дней, которые курсанты и командиры провели в нем до конца войны, были самыми беспокойными за всю фронтовую жизнь. Днем и ночью, глядя на окутанный дымом и грохочущий, как сотни разверзшихся вулканов, Берлин, они ждали ежечасно, ежеминутно важных известий. И вести оттуда приходили – важные, радостные, иногда тревожные, но пока не было той главной, единственной, которую в те дни ждал весь мир.
Каждый тот день Гурину врезался в память, потому что каждый из них был вехой, притом значительной, на пути к столь жданной победе. Вот-вот, вот-вот придет она!..
28 апреля командующий армией, назначенный комендантом Берлина, издал первый свой приказ. В нем говорилось, что вся полнота власти в Берлине переходит в руки Советской военной комендатуры, что национал-социалистская фашистская партия распускается и ее деятельность запрещается. Населению Берлина устанавливаются определенные правила поведения.
«Вся полнота власти в наших руках!..» – повторял торжественно Гурин. А Берлин все еще грохотал, горел, рушился, сеял смерть – гитлеровцы все еще отчаянно сопротивлялись, переходили в контратаки, пытались прорвать кольцо, и на отдельных участках им это удавалось, но окончательно вырваться из него уже никто не смог.
29 апреля наши войска штурмуют здание министерства внутренних дел – «дом Гиммлера». Наверное, это очень важный объект, если о нем так говорят. Но дело, пожалуй, тут было не в самом объекте, а в том, что это была очередная сильно укрепленная крепость в городе на пути к главной цели и ее с отчаянием обреченных обороняли эсэсовцы.
В тот же день в учебный батальон приехал представитель штаба полка и вручил личному составу награды. Комбат майор Дорошенко, начальник штаба капитан Землин, замполит майор Кирьянов и парторг капитан Бутенко – все четверо были награждены орденами боевого Красного Знамени за храбрость и умелое руководство при штурме города-крепости Кюстрин. За то же самое награждены орденами Отечественной войны разных степеней и другими орденами командиры рот и взводов.
«Жаль, Бутенко нет, уж он-то порадовался бы своей награде: умел радоваться капитан!» – с грустью вспомнил парторга Гурин.
И вдруг услышал:
– Старший сержант Гурин Василий Кузьмич. Награжден орденом Красной Звезды.
«Я?.. Мне?.. За что?.. Не ослышался ли?» – удивился Гурин. Голова его была как в тумане – от неожиданности, от стыда, от радости. Ему пожимают руку, вручают коробочку с орденом, потом темно-красную книжечку – удостоверение, потом еще такую же книжечку с проездными билетами: раз в году он может бесплатно съездить в любое место Советского Союза – туда и обратно!..
«У меня орден! Я награжден орденом! – одна мысль молотком стучит в голове. – Боже мой, да правда ли это? Показать бы маме, Алешке, Танюшке!.. Бабушке, дядьям – всем-всем, всей родне: я первый, я один из всей родни награжден орденом! А потом, вечером, прийти в клуб на танцы…»
От сладкой истомы у Гурина кружилась голова, тело его было напряжено…
А война гремит… Гремит нарастающим обвалом и остервенением.
30 апреля – наши уже у рейхстага! Начали штурм, но наткнулись на сильную оборону немцев. Вечером штурм повторился – наши ворвались в рейхстаг!
1 мая. Утром радостная весть: наши водрузили Знамя Победы над рейхстагом! Ура!
Значит, все?.. Победа?..
Нет, оказывается, еще не конец: война все еще продолжалась, и рейхстаг все еще не был взят – в нем шли ожесточенные бои.
Где же проклятый Гитлер?
Днем – будто бы затишье: неужели конец? Слух пронесся: генерал Кребс перешел линию фронта – идут переговоры о перемирии.
Через час новая весть – Гитлер покончил с собой. Ура!
Наше командование заявило Кребсу: только безоговорочная капитуляция. Никаких условий. Ответа пока не поступило. Канонада притихла. Ждут. Все ждут! И вдруг вечером стрельба вспыхнула с новой силой, заработала артиллерия, авиация. Было ясно: немцы отвергли наше предложение.
2 мая. Снова затишье. А вскоре пришло и объяснение этому затишью: немцы капитулировали. Сдаются в плен. Геббельс покончил с собой. Ура!
Ну, теперь-то наконец это уже победа?..
И снова оказывается – нет… До окончательной победы еще надо было дожить. Почти целую неделю еще надо было вести упорные бои, чтобы заставить немцев прекратить сопротивление и подписать акт о капитуляции. Войне надо было унести еще несколько тысяч молодых жизней, прежде чем окончательно издохнуть.
8 мая. День какой-то небывало праздничный, хотя еще ничего не произошло. Но все в ожидании чего-то важного, о чем пока не решаются говорить вслух.
Постепенно из Берлина в лагерь просачиваются новости: прилетели представители союзного командования… Потом прилетели представители немецкого верховного командования. Будут подписывать акт о безоговорочной капитуляции Германии. И состоится вся эта процедура в Карлсхорсте – этот район Берлина совсем недалеко от лагеря, курсанты не раз уже бывали там…
Последние часы ожидания были самыми длинными. Все сидели в штабе. Все батальонное начальство, и Гурин в том числе. Сидели молча, боясь прозевать телефонный звонок. Иногда комбат не выдерживал и звонил какому-нибудь соседу, спрашивал коротко:
– Ну как? Ничего?
Бывало, раздавался звонок, все вздрагивали, бросались к телефону, жадно и нетерпеливо смотрели на комбата. Но это, оказывалось, звонил такой же нетерпеливый, как и Дорошенко, сосед…
И случилось это, как всегда, не так, как ожидалось. Узнали о победе не по телефону, а по переполоху в лагере.
Не успело стемнеть, как на территории лагеря вдруг поднялась беспорядочная автоматно-винтовочная стрельба. Всех офицеров словно ветром выдуло из штаба: первая мысль была, что на лагерь напал какой-то бродячий отряд немцев. Но уже на крыльце, увидев часового с восторженной до ушей улыбкой и палившего вверх короткими очередями, все поняли, в чем дело.
Небо над лагерем и над Берлином и вокруг до самого горизонта все было исполосовано трассирующими пулями и расцвечено многоцветными сигнальными и осветительными ракетами. Прожектора со всех концов елозили упругими лучами по облакам, скрещивались в дружеских объятиях, образуя римские десятки, расходились в стороны, скрещивались с другими.
Вокруг стояла непрерывная стрельба и сплошной крик. Радостный крик солдат, переживших войну.
Непродыхаемым комком Гурину сдавило горло, слезы душили, и только два слова бились у него в голове: «Победа!.. Жив!.. Победа!.. Жив!..»








