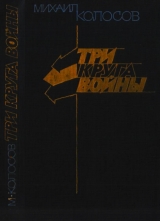
Текст книги "Три круга войны"
Автор книги: Михаил Колосов
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 30 страниц)
– А ничего, товарищ майор, мы уже привыкли, – вступил в разговор с ним Бубнов. – Еще бы с месячишко поползать по виноградникам: виноград как раз поспевать стал. Хорошо: залег под кустиком и рви ягодки поспелее.
– Ишь ты! Разобрал! А сначала артачился: «Не буду, не хочу голодать тут…» – майор передразнил его, как он действительно бунтовал поначалу.
– Ну, че уж там вспоминать! Мало ли мы в молодости ошибок допускаем…
Захохотал майор, погрозил ему палкой:
– Ох, ефрейтор!.. Извините, пожалуйста, – сержант. Сержант!
Комбат не спеша прошел на центр, остановился, свесив голову на грудь, задумался. Потом поднял глаза, шевельнул ноздрями:
– Ну что, товарищи сержанты?.. Настала пора расставанья – грустная пора… Я должен вам сказать от имени всех офицеров, что мы вами довольны. Хороший был набор, отличный подобрался состав. Мы надеемся, что и вы довольны нами, своими учителями. Может быть, мы были иногда чрезмерно строги, придирчивы, но вы сами понимаете, что это делалось для вашей же пользы: за короткий срок мы должны были вас многому научить, и наши офицеры старались это сделать, работали с вами, не жалея сил. Нашей армии, фронту нужны умелые, знающие младшие командиры. Думаю, что вы вполне отвечаете этим требованиям. Сейчас вы разъедетесь по частям, примете под свое начало отделения, а кто-то, может быть, и взвод, и от вас, от ваших знаний будет зависеть их судьба, их успех или неуспех. Желаю вам, товарищи сержанты, только успеха. Победы вам в трудных боях! Пусть вам сопутствует удача. До свидания, товарищи!..
А сзади, за майором, уже толпились чужие офицеры – «покупатели», представители частей. После речи комбата они стали вызывать по списку «своих» сержантов и уводить в сторону. На площадке оставалось народу все меньше и меньше. Наконец их осталось всего человек пятнадцать, они поглядывали друг на друга, ждали своей судьбы. Из первой роты «невостребованных» осталось четверо: Гурин, Хованский и еще двое старших сержантов – стоят, ждут, поглядывают друг на друга. И вдруг команда:
– Остальным разойтись по подразделениям.
Что-то непонятное творится. А может, за ними придут позднее? Не терпится узнать свою судьбу. Хованский подскочил к Максимову, умоляющим голосом спросил:
– Товарищ лейтенант, вы наверняка знаете, скажите нам по секрету: куда нас определили?
– Как куда? – охотно и весело откликнулся лейтенант. – Остаетесь в батальоне, будете учить новичков. Завтра пойдем за новым набором.
Хованский оглянулся на Гурина, присвистнул. Это было для них и неожиданным и до какой-то степени ошарашивающим сообщением. Гурин невольно посмотрел в ту сторону, куда увели их товарищей.
– Но ведь это неудобно, товарищ лейтенант, – сказал он Максимову. – Ребята ушли на фронт, а мы…
– Неудобно? – пропел Максимов, и улыбка слетела с его лица, глаза сузились, губы обидчиво выпятились. – Неудобно? А нам, офицерам, удобно? Мы находимся в армии и делаем то, что прикажут. «Неудобно», понимаете!.. Вы что, по своей воле остались? Вас спрашивали, чего вы изволите? Им «неудобно», видите ли!.. А потом, еще неизвестно, что важнее: или пойти самому на передовую, или научить сотни людей умению воевать и тем самым сохранить десятки сотен жизней.
– О чем спор? – подошел к ним комроты Коваленков.
– Им неудобно, – с издевкой сказал Максимов, указывая головой на Гурина и Хованского.
– А-а… Обычная интеллигентская раздвоенность, – Коваленков, против ожидания, не принял всерьез это «неудобство», улыбнулся. – Идите отдыхайте и готовьтесь к приему очередного набора. Будете работать помкомвзводами: Гурин в первом взводе, Хованский – во втором.
Все, задача ясна и их ближайшее будущее определено: то, что во взводе лейтенант делал один, теперь они с Гуриным будут делать вдвоем.
Вечером Гурин и Хованский свободны, делать нечего – даже странно, не верилось, что такое может быть. Понаписали домой письма, похвастались своими успехами и разрешили своим писать на эту же полевую почту. Оба и понесли письма в канцелярию. Идут вдоль линейки – в лагере пусто, тихо, просторно. У ротной землянки им встретился Шульгин, они поприветствовали его, он еле заметно дернул рукой и вдруг остановился:
– Гурин? Тебя что, оставили?
– Так точно, товарищ старший лейтенант!
Рот Шульгина искривился в ехидную улыбочку, он хмыкнул и, качнув головой, пошел дальше.
– Чего он? – спросил у Гурина Хованский.
– А спроси его чего…
* * *
На другой день группа офицеров и сержантов была снаряжена за новым пополнением в тот же Бердорф, где еще с весны стоял армейский пересыльный пункт. Фронт на Днестре застрял, наши держали оборону и готовились к новому наступлению, поэтому все тыловые службы оставались без движения…
Шли они в Бердорф веселой гурьбой. Гурина и Хованского – новичков в таком деле – волновала необычность поручения: они должны отбирать людей для учебного батальона, будущих курсантов. Они в роли «покупателей»! Хотя они и не самые главные, ответственными за эту операцию были офицеры, но – все-таки…
Нежаркое летнее утро будоражило ребят, выйдя в поле, они разыгрались, как козлята: бегали, боролись, смеялись. Солнце, трава и высокое чистое небо – мир и покой вокруг! Максимов тоже поддался общему настроению – шутил, дурачился, называл ребят по именам – Вася, Коля. Совсем другим человеком стал, даже не поверишь, что это тот самый – строгий и непроницаемый лейтенант, который учил их военному делу.
На лужайке устроили привал, повалились на траву, разомлели под летним молдавским солнцем, расчувствовались, размечтались, разоткровенничались. Преобладала тема: кому что хочется. Коля Хованский хотел бы оказаться сейчас в своей кубанской станице и появиться в клубе.
– Люблю даже запах клубный! Запах сцены. Он особенный: декорации, сваленные в углу, пыль на них, краска, не масляная, а которая водой растворяется. Уборщица тетя Поля только что побрызгала пол водой и подмела – от пола идет такая прохладная свежесть. Вот весь этот «аромат» мне хочется вдохнуть еще хоть разочек!..
Хованский любитель самодеятельности, пел в местном ансамбле, учился на клубного работника.
Гурин тоже любитель этого дела, на него закулисный запах действовал тоже как-то необычно, пьяняще. Особенно во время постановок – ко всему примешивался еще и сладковатый запах грима. Но больше, чем закулисный, Гурин любил запах киноаппаратной: кинопленка, ацетон – вот действительно вещи, которые с детства кружили ему голову. Но сейчас ему хотелось бы просто побывать дома – хоть часок: показаться матери, порадовать ее, что он жив, здоров и даже в звании старшего сержанта. И в клуб, конечно, не плохо заявиться. Только кого он там встретит?..
– Это хорошо… – сказал Максимов. – А мне некому показаться. Росли мы без матери, она умерла еще до войны. Отец погиб, брат не знаю где: может, воюет где-то, а может, тоже погиб. Мне бы хотелось хоть на один день выбраться куда-то, снять с себя гимнастерку, белье и в одних трусиках спокойно поваляться на песке против солнышка. Только – спокойно… – Он сощурил свои узкие глазки, поднял лицо к солнцу, представил, как бы он «пил» это тепло своим телом.
На подходе к Бердорфу Максимов проинструктировал своих помощников:
– С новичками обращайтесь строго. Без придирок, но строго, никакого панибратства, а то трудно будет работать. Строго, по уставу, по-военному. Чуть вожжи распустишь – потом не совладать. Не робейте!
…И вот они перед ним. Стоят, перед Гуриным, тридцать с лишним человек – разболтанных, неотесанных, расхлыстанных, с оторванными хлястиками, стриженых и чубатых, бывалых и не очень бывалых фронтовиков. А он для них – это Гурин видит по их глазам – хитрая тыловая крыса, сумевшая прижиться в запасном полку. Это же видно по всему: по чистенькому обмундированию, по выправке, по аккуратно пришитому подворотничку, по новеньким погонам. Разве фронтовики такие? Фронтовики – это вот они: настоящие, без подмеса! На них еще окопная грязь видна, и гимнастерки еще в крови, и раны еще не совсем зажили…
– Первый взвод, становись! Равняйсь! – Гурин делает паузу гораздо большую, чем положено, дает возможность солдатам выравняться. – Смиррно!
– Ой, как страшно! – раздается в ответ, но Василий сделал вид, будто не услышал, а про себя отметил: «Так, один хохмач есть…»
– Вольно! – и начал перекличку по списку, который ему вручил Максимов. – Антипов…
– Есть!
– Отвечать следует: «Я», – поправляет его Гурин и продолжает: – Бобров…
– Я!
– Семенов.
– Я!
До Харламова шло все нормально. Этот ответил:
– Здесь!
Гурин повторил его фамилию, он вызывающе бросил:
– Я же сказал: здесь.
Гурин узнал голос, которым была брошена реплика: «Ой, как страшно!» «Значит, этот Харламов из породы Бубновых – тот все поначалу донимал лейтенанта. Но Бубнов все-таки не был таким злым и ядовитым, он больше хохмил, упражнялся в остроумии, а этот настроен, видать, зло».
– А я предупредил: надо отвечать «я». Слышали?
– Какая разница? Что ж… что задница…
Солдаты засмеялись.
– Разница та, – спокойно объяснил Гурин, – что вы не дома, а в армии. А в армии все делается по уставу. Вы, наверное, недавно служите? Не знаете еще этого?
– С меня хватит, – и добавил: – Побольше твоего.
– Может быть, – сказал Гурин и сделал вид, что разговор с ним окончен, продолжал перекличку. Кончил, спросил: – У кого какие жалобы? – Молчат. – Нам предстоит небольшой марш. Больные есть?
– Идти далеко?
– Нет, не очень. К вечеру будем на месте. Могу обрадовать вас: лагерь оборудован, землянки и постели в них готовы, ждут вас. Нам пришлось хуже – мы сами строили.
– А что это за учебный? Чему там будут учить?
– Учить будут на младших командиров.
– Гоняют сильно?
– Сильно. По всем правилам. Может, даже побольше, потому что программа сжата до предела.
– Н-да, попали…
– Ничего, не унывайте. Первые дни трудно, потом легче – привыкнешь, – успокоил Гурин солдат.
– А каких сержантов? Пехотинцев или артиллеристов готовят? – подал голос Харламов.
– Пехотинцев.
– А на кой мне это? Я – артиллерист, на кой мне пехота?
– В армии нет такого понятия «не хочу». Тут приходится делать все, что прикажут. Знаете военное правило: не умеешь – научат, не можешь – помогут, не хочешь – заставят?
– Ты меня присказками не баюкай! Я – артиллерист, понятно? Снилась мне твоя пехота!
– Об этом не мне надо говорить. Раньше надо было подумать, – Гурин кивнул на дверь, за которой размещался пересыльно-распределительный пункт.
– А кто же знал? – Харламов, здоровенный, с короткой сильной шеей парень, плечом раздвинул строй, вышел наперед. Намотал на руку лямки вещмешка, словно собирался им бить кого-то, направился в дом. На крыльце столкнулся с Максимовым.
Тот взглянул на Гурина и без слов понял, в чем дело, насупил брови, вытянул губы трубочкой:
– Это что такое?
– Я – артиллерист…
– А я вас не спрашиваю, кто вы! Безобразие, понимаете! Шагом марш в строй! «Артиллерист», понимаете…
Харламов не послушался, оттеснил Максимова и скрылся в доме, лейтенант поспешил вслед за ним. Вскоре на крыльцо вышел Харламов – злой, разъяренный, не спеша встал на левый фланг, потом появился Максимов – строгий, насупленный, весь вид его говорил: «А ну, кто еще тут из артиллеристов?»
– Старший сержант Гурин, у вас все в порядке?
– Все.
– Старший сержант Хованский?
– Так точно!
– Третий взвод? Четвертый? Тогда – шагом марш.
В лагерь они пришли еще засветло, поужинали – и отбой. А утром началась обычная жизнь учебного батальона. Обычная для Гурина: очень все похоже было на прошлое начало: так же не хотели вставать по сигналу, так же ворчали от постоянных «Становись! Равняйсь! Смирно!». Но было и отличие – Харламов. Лейтенанта он, правда, побаивался, ему он лишь изредка дерзил, а Гурина буквально изводил. Когда тот один занимался со взводом, Харламов всякий раз старался его унизить, будто Гурин был виноват в том, что он не попал в свою артиллерию. Хотя Гурин уже знал, что Харламов такой же артиллерист, как сам Василий – пэтээровец, а может быть, и того хуже: Гурин из пэтээр хоть один раз да выстрелил, а тот был просто подносчиком снарядов, да и пробыл он в этом качестве недели две, ранило Харламова осколком в ягодицу.
Однажды Гурин вывел взвод в поле на очередное занятие. Отрабатывали тему «скрытный выход на огневой рубеж», надо было научить курсантов ползать по-пластунски, коротким перебежкам, использованию естественных укрытий на местности. Было жарко, и, конечно, каждому хотелось поваляться в холодке, а не ползать на животе под палящим солнцем. Но все исполняли команды, и только Харламов заартачился. Он не стал ползать, а прошел вялой походкой до куста и залег там в тенечке. Лег навзничь и закурил.
На замечание Гурина Харламов спокойно возразил:
– И чего ты стараешься? Чего ты выслуживаешься? Зарабатываешь себе характеристику, чтобы подольше продержаться здесь? Боишься попасть на передовую? А ты не бойся, мы же вот побывали там – и ничего, целы остались. Пороху ты, брат, не нюхал. А пластунция твоя мне ни к чему, и отстань от меня: я – артиллерист и все равно уйду в артиллерию. Дал бы ребятам отдохнуть, полежали бы в холодочке. Думаешь, выдадут? Не бойся.
– Я не боюсь, – сказал Гурин.
– Боишься. Передовой боишься! Трус ты все-таки, Гурин.
Этого Василий вынести не мог и, прекратив занятия, собрал взвод, построил и попросил Харламова выйти из строя.
– Я хочу поговорить с Харламовым при всех. Он только что назвал меня трусом за то, что я вместо того, чтобы поваляться с вами в тенечке, гоняю вас по-пластунски; что я это делаю из боязни попасть на передовую; что я не нюхал пороха и все такое в этом роде…
– Ну а что, неправда? – развел руками Харламов.
– Нет, неправда. К вашему сведению, на фронте я был и знаю: если я вас сейчас положу загорать, то вы вместе с вашими солдатами на передовой очень быстро уляжетесь навсегда. Это я знаю по собственному опыту. И вы, кому пришлось участвовать в боях, тоже это знаете.
– Может, хватит морали? – поморщился как от зубной боли Харламов.
– Нет, не хватит, подонок ты эдакий! – закричал Гурин, не сдержавшись. – Не хватит! Я хочу сказать тебе еще, что трус ты, а не я. Ты боишься пехоты и рвешься в артиллерию, потому что трусишь. А какой ты артиллерист? Ты две недели подносил снаряды, и было это в километре от передовой. Но ты не ходил в атаку, ты не выскакивал из окопов под пулеметным огнем, ты не бегал под снайперскими пулями, не врывался в немецкие траншеи, не штурмовал высотки, не ходил в разведку боем – ничего этого ты не делал и боишься этого как огня. Ты хвастаешься своим ранением, а у меня их два, и оба при наступлении, одно пулевое, навылет, а не от случайного осколка, как у тебя, и – в грудь, вот сюда, в грудь, понимаешь, в грудь, а не в задницу, как это случилось с тобой. Наверное, поэтому ты и любишь щеголять этим словом…
Харламов машинально почесал то место, в которое был ранен, сказал:
– Зря ты раскричался… Шуток не понимаешь…
– Хорошенькие шутки! А теперь, артиллерист, я тебя от занятий освобождаю и разрешаю идти к командиру роты и подать ему рапорт, чтобы тебя отчислили в артиллерию. Идите. Взвод! Десять минут – перекур, и продолжим занятия. Разойдись!
Гурин отвернулся и пошел в сторону, подальше от курсантов, словно искал место для нужды. На самом деле он торопился поскорее уйти подальше с глаз курсантов: нервы его были на пределе. Гурин не знал, правильно ли он поступил, одобрит ли его поступок лейтенант. Он, конечно, ничего лейтенанту не скажет об этой стычке – так лучше будет, иначе она может продолжиться. Но интересно, как бы в таком случае поступил Максимов? Наверное, не стал бы выставлять свои раны. Ему легче: он – лейтенант, офицер, а Гурин всего лишь старший сержант, да и то без году неделя. «Наверное, все-таки зря я так, не стойло… Впрочем, пусть знают, а то и впрямь, может, думают, что я пороха не нюхал…» Хотел было возвратиться к взводу, но не пошел – все еще кипел.
«…Гад… Попадется один такой, как паршивая овца в стаде, всех перебаламутит. Почему вот вместо него не попал к нам во взвод Яша Лазаренко?..»
В Яшу Гурин влюблен больше, чем в Хованского. При одной мысли о нем у него на душе становится теплее.
Появился Лазаренко в батальоне с новым пополнением. Интересный парень, Гурин сразу проникся к нему такой симпатией и относился потом к нему так нежно и бережно, как к любимой девушке.
Лазаренко – стройный, рослый, чернявый солдат. Красавец – хоть картину с него пиши. Да плюс ко всему – на груди у него три ордена Славы.
Когда Гурин увидел его впервые, у него голова закружилась: «Как же его, должно быть, девчата любят! Ну почему бы мне не иметь хоть долечку его счастья – роста, красоты, скромной уверенности в себе, наград?» Гурин закрыл глаза и представил себя на его месте. – Вот он появляется такой в родном поселке, в школе… Нет, в клубе, на танцах… Сорокин от зависти сразу прекратил бы играть на своем баяне, а девчонки замерли бы от счастья… А Валя Мальцева?.. Как бы она смутилась, как бы пожалела обо всем. А Василий спокойно, без всякой рисовки, запросто так подошел бы к ним, со всеми поздоровался бы за руку, пошутил бы. И с Сорокиным – тоже, а они все пялятся на его ордена Славы… «Наконец-то я его обштопал, а то своим баяном всех девчонок к себе притягивает, как магнитом… Да, представляю, сколько шороху будет, когда такой парень заявится домой!..»
Жалел Гурин, что Яша не в его взвод попал, а к разведчикам. Лейтенант Исаев умеет подбирать ребят. Закон подлости все время Гурина преследует: вместо Лазаренко к нему попал Харламов, и вот теперь мучайся с ним…
Гурин искоса посмотрел в сторону взвода – курсанты толпились кучей и что-то бурно обсуждали. Обычно в перекур они разбредались по полю или валились на траву, а тут стояли и о чем-то спорили. Наверное, всех задело.
Подошел Гурин, как ни в чем не бывало спросил:
– Ну, накурились? Продолжим занятия. Взвод! В две шеренги становись!
Загасили окурки, затоптали сапогами, заспешили на свои места.
Видит Гурин: Харламов тоже становится, в роту не пошел. Угрюмый, носом подергивает, молчит. «Пусть, я его не замечаю», – решает для себя Гурин и подает команду:
– Равняйсь!
– Товарищ сержант, кто-то бежит к нам.
Гурин оглянулся – связной, запыхавшийся, машет рукой, показывает в сторону лагеря. Не поймет Гурин, что это значит. Наконец тот приблизился, сказал:
– Все – в лагерь! Быстро, по тревоге. А где остальные?
– Второй взвод вот там, за тем холмиком, и остальные где-то в той стороне, – указал он связному и скомандовал своим курсантам: – В лагерь – бегом!
В лагере было необычно оживленно: все суетились, бегали, куда-то собирались. Запыхавшийся старшина Богаткин побежал из штаба батальона к себе в хозвзвод. Вслед за старшиной из штаба повалили офицеры, в том числе комбаты пулеметного и минометного. Значит, опять объединяются для выполнения какой-то задачи. Максимов издали махнул Гурину:
– Ко мне. Привел взвод?
– Да. А что случилось?
– На передовую выступаем. Нам поручено занять оборону в излучине Днестра. Сейчас привезут боепитание, получим и вечером форсированным маршем двинем. Готовься сам и ребят предупреди, чтобы никто никуда ни на шаг.
К ним подошел комсорг батальона:
– Гурин, надо срочно провести в роте комсомольское собрание. Короткое, но четкое: комсомолец в бою.
– А кто доклад сделает?
– Сам сделай.
– Но я же никаких подробностей не знаю! Задачу надо ставить.
– Какие тут подробности? Уходим на передовую. Задача одна: быть храбрыми, быть первыми в бою, бить немцев без промаха.
– Я помогу, – сказал Максимов. – Сделаю доклад. Пошли.
Заглянул Гурин в свою землянку, курсанты беззаботно валялись на соломе – рады были отдыху.
– Что там, товарищ старший сержант?
– Вечером выступаем на передовую. Будьте готовы. – Гурин взглянул на Харламова. Он сидел, жевал что-то, усиленно работая своими могучими челюстями. Услышав, перестал жевать, рот так и остался раскрытым. – Комсомольцы, на собрание. Срочно. – Гурин вышел из землянки. У ротной канцелярии столкнулся с Хованским. Идет – шинель на руке, в другой – автомат, за спиной вещмешок.
– Ты куда, Мальбрук, в поход собрался? Сейчас комсомольское собрание.
– Не могу. Уезжаю.
– Далеко ли?
– В штаб дивизии связным от батальона. Желаю тебе, Вася!..
– И тебе, Коля… Будь!.. – Гурин пожал Хованскому руку, долго смотрел ему вслед.
В ночь все три учебных батальона выступили на передовую, навсегда покинув свой лагерь. Вместе с ними покинул и Гурин свою первую военную «академию».








