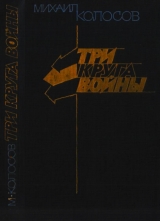
Текст книги "Три круга войны"
Автор книги: Михаил Колосов
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 30 страниц)
Тут подскочила санитарка – откуда она взялась, первый раз увидел: молоденькая блондиночка, шустрая такая.
– Тебя ранило?
– Наверное, – оказал Гурин, силясь улыбнуться ей.
Она помогла снять с него скатку, задрала гимнастерку, потом сняла ее совсем, стала перевязывать плечо – через грудь, через спину, накрутила бинтов – тепло от них сделалось, будто в телогрейку одела. Помогла снова надеть гимнастерку, подмигнула:
– Тебе повезло, родненький: кость, кажется, цела, не пробило. Недельку прокантуешься в госпитале и пойдешь дальше!
– А что там? – кивнул он себе на правое плечо.
– Осколок от мины. Ничего страшного! – И она быстро склонилась над другим солдатом.
Пока она перевязывала Гурина, в траншею набилось полно раненых – стонущих, нетерпеливых, и девчушка успевала ответить, помочь, успокоить.
– Потерпи, родненький… Потерпи, милый… Все будет хорошо.
В сумерки раненых стали выводить с передовой. Тяжелораненых вывозили телегами, легкораненые, ходячие шли своим ходом. Гурин тоже был ходячим и относился к числу легкораненых, хотя чувствовал себя совершенно обессиленным и, превозмогая боль, еле плелся в санбат. Возле кухни, которая привезла ужин, остановились передохнуть и поужинать. Гурину есть не хотелось, он сидел, терпеливо ждал, когда их поведут дальше.
Повар узнал его, окликнул:
– Эй, солдат! Это ты вчера со мной ехал на передовую?
– Я, – сказал Гурин.
– А сегодня уже обратно?
– Ранило… – Василий чувствовал себя скверно, ему было не до шуток. Наверное, крови много потерял.
Повар заметил это, подбодрил:
– Крепись. Сейчас раздам ужин, подвезу.
Кончил кормить людей, задраил винтами крышку, махнул Гурину:
– Иди, садись. – И когда тот подошел, помог ему забраться наверх.
Усевшись на самую верхотуру округлой крышки, которая была еще теплая от недавнего варева, Гурин вцепился левой рукой за винты-барашки, и повар тронул лошадь. По бездорожью ехать было тряско, каждая неровность отзывалась острой болью в плече, и Гурин тихо стонал. Сидеть на куполообразной крышке было неудобно, на глубоких выбоинах его подбрасывало, и он готов был сорваться под колеса. И лишь неимоверным усилием левой руки он удерживал себя на этой колеснице.
Наконец добрались до санбата, Гурин сполз с кухни и присел у палатки: тут была очередь на перевязку. Среди раненых ходили санитарки, выбирали самых тяжелых, кому нужна была срочная помощь, клали на носилки и уносили в палатку.
Гурин уже знал, что он легкораненый, и потому приготовился к долгому ожиданию.
Только далеко за полночь дошла очередь и до него.
В центре палатки Василий увидел большой, блестящий от воды стол. Над ним горела электрическая лампочку, Вокруг стола, скрывая свои головы в тени примитивного абажура, стояли в белых халатах врачи.
– Быстрее! – нетерпеливо поторопил один из них – высокий и худой. Голос его Гурину показался сердитым, резким.
Один из санитаров помог Гурину раздеться и заставил его лечь на мокрый и холодный стол голым животом. Василий молча повиновался. Ему сделали противостолбнячный укол, потом чем-то холодным вытерли лопатку, и он, вдруг почувствовав острую боль, невольно рванулся левой рукой к правому плечу. Врач резким ударом отбросил его руку и снова сделал ему больно.
– Пинцет, – потребовал он, и снова Гурин ощутил нестерпимо болезненный рывок. – Все, – сказал врач и бросил что-то в тазик на полу. Это «что-то» металлически звякнуло. То был осколок мины, застрявший у Гурина в правой лопатке. Чтобы вытащить его, врач разрезал рану. – Повязку, – приказал он и отошел от операционного стола. – Готовьте следующего.
На рану наложили большой тампон и, посадив Гурина на табуретку, стали бинтовать. Василий взглянул на доктора. Он стоял в сторонке, сдвинув брови, сосредоточенно курил. Глаза у него были красные, усталые, вокруг глаз – темные набрякшие круги.
Забинтовав, Гурина одели, повесили ему на шею петлю из бинта, вложили в нее правую руку и вывели из палатки. Подвели к группе раненых, которые в самых разных неестественных позах сидели и лежали на земле, сказали:
– Жди.
Вскоре пришла грузовая машина, их посадили в кузов и повезли.
Всячески оберегая правое плечо, Гурин привалился левым боком к борту, подтянул свои колени почти к самому подбородку – чтобы дать место другим, приготовился к нелегкой дороге.
В кузове было тесно, дорога была тряской, и он, превозмогая боль, изо всех сил крепился и старался ничем не выдать своих мучений. Гурин не стонал и не охал, а только крепче сжимал зубы на колдобинах и говорил себе: «Стыдно… Рядом сидят люди, у которых ранения гораздо серьезнее, чем у меня… Потерпи, – уговаривал он себя. – Скоро приедем в госпиталь, там будет белая палата, койка, постель, тумбочка…»
Везли их долго. Только к утру они приехали на место.
Длинные кирпичные коровники были оборудованы под полевой госпиталь: полы вычищены и устланы толстым слоем свежей соломы. На этой соломе головами к стене в два ряда лежали раненые.
Волоча в левой руке свой мешок, Гурин прошел в глубь коровника, нашел свободное место и лег. Натруженная в дороге рана дергала, словно там бился обнаженный нерв. Постепенно усталость сморила, и он уснул.
Разбудили его санитары – раздавали завтрак. Они волокли по проходу большой бак и, черпая из него суп, разливали по котелкам. Однорукие с непривычки неумело терзали свои вещмешки здоровой рукой, неловко подставляли котелки, ругались беззлобно.
Кроме супа раненым дали по куску хлеба и по два квадратика пиленого сахара.
Через какое-то время санитары снова волокли по проходу большой бак и предлагали чай. О, это совсем уже была такая роскошь, в которую не сразу и верили. Чай! Настоящий чай – горячий, коричневый, с плавающими чаинками! Правда, он сильно отдавал запахом супа и на поверхности его обильно поблескивали жировые кружочки, но все равно это был чай. Он согревал душу.
Позавтракав, Гурин снова улегся.
От соломы пахло знойным летом, хлебом, миром. Гурин вдыхал этот желанный запах и понемногу приходил в себя, отходил от того напряжения, испуга, в состоянии которых он был последние дни. «Сколько же дней я пробыл на передовой? Всего три?.. Пять?.. Не больше недели. А сколько событий, сколько людей промелькнуло! Как в кино… Неужели все это возможно на самом деле, неужели все это было и я участник всего?..» – удивлялся Гурин.
Устав лежать на левом локте, он хотел сменить положение и не смог – потревожил рану, боль разлилась по телу.
«Было, все было… И кошмар этот был… И сейчас еще продолжается, и люди там… наши люди. Что с ними, с остатками нашей роты?..»
«А сколько же дней прошло, как я ушел из дому? Девятого сентября ушел… А сегодня? Какое сегодня число?..»
– Какое сегодня число? – спросил Гурин у соседа, который держал на груди загипсованную руку и все трогал чуть видневшиеся из-под бинта кончики посиневших пальцев, проверял – живы ли они.
– Что? – обернулся тот.
– Какое сегодня число?
– Четырнадцатое, кажется.
– Октября?
– Ну да.
«Четырнадцатое октября, – стал считать дни Гурин. – Всего месяц и пять дней, как я из дому? Так мало? Не может быть! Если рассказывать кому все день за днем – больше времени займет. Как там дома?..» Он силился припомнить лица родных. Мать, похудевшая, сидит на табуретке, руки положила в подол, думает. Танюшка, черноглазая девчонка, заплетает медленно косы из своих жестких волос, смотрит на мать, выводит ее из задумчивости: «Ну, мам! Ну, што вы все думаете?..» – «Как же не думать?..» – отвечает мать. «А где же Алешка? – вспоминает Василий братишку. – Наверное, бегает на улице. А может, в школе? И Танюшка, может, в школе. Теперь, наверное, школа открылась. Интересно, как она могла открыться? Немцы ведь сожгли школу. Может, в четыре смены учатся, на выгон все ходят – там уцелела начальная школа, построенная еще земством…»
«Неужели только месяц и пять дней прошло с тех пор?» – Гурин снова возвращается к пережитому и удивляется краткости времени.
На улице шумел дождь, барабанил по черепичной крыше коровника. Первый осенний дождь. «Опять мне повезло, – думал Гурин. – За все это время не пережил ни одного серьезного дождя, а на передовой – так и вовсе все дни было сухо и солнечно. Каково в такую погоду в окопах? – Он невольно поежился. – Повезло…»
Пришел замполит и прочитал последнюю сводку Совинформбюро:
– «На Мелитопольском направлении наши войска после трехдневных ожесточенных боев прорвали сильно укрепленную оборонительную полосу противника севернее и южнее города Мелитополь, форсировали реку Молочная и, продвинувшись от 8 до 10 километров, с боями заняли свыше 20 укрепленных: пунктов противника. Бои идут в центре города Мелитополь. Немцы несут огромные потери в живой силе и технике.
…По неполным данным, за три дня только южнее Мелитополя уничтожено свыше 4000 немецких солдат и офицеров, 38 танков, 16 самоходных и 82 полевых орудия. Нашими войсками взяты большие трофеи…»
Гурин слушал сводку внимательно, боясь пропустить хоть одно слово. Ведь это сообщение за вчерашний день, как раз когда его ранило. Он ждал, что там будет расписана вся жуть, какую он пережил, но сводка сухо сообщала лишь итоги, да и то неизвестно где. И он разочарованно подумал, что сводка об ихнем наступлении совсем ничего не сообщает…
Прочитав сводку, политрук пошел вдоль прохода, заговаривая с ранеными.
– А Зеленый Гай взяли? – спросил у него Гурин, когда он поравнялся с ним.
– Зеленый Гай?.. Не знаю… Это что, твоя родина?
– Нет. Там меня ранило…
– На каком направлении? – спросил замполит.
– На Зеленый Гай.
– Мелитопольское?
– Не знаю.
– Постараюсь выяснить, – пообещал замполит и пошел дальше.
Позднее от соседей Гурин узнал, что он наступал действительно на Мелитопольском направлении, и ловил теперь его в сводках, как что-то свое, родное.
Наши наступали, занимали сильно укрепленные пункты, города, а Зеленого Гая все не было, будто его и вовсе не существовало. Даже обидно было – столько там полегло, а в сводках – ни слова. И только в сообщении за 22 октября он вдруг услышал:
«В течение 22 октября в районе севернее города Мелитополь наши войска, в результате упорных боев, сломили сопротивление противника и овладели сильно укрепленными пунктами его обороны – Карачекрак, Эристовка, Украинка, Калиновка, Кренталь, Зеленый Гай, Ильиновка…»
«Наконец-то! – чуть не закричал Гурин, услышав знакомое название. – Вот, оказывается, сколько дней еще там бились! Сколько же там полегло наших?.. Зеленый Гай… Зеленый Гай…» – шептал он.
Зеленый Гай, которого он, по существу, и не видел, запомнился на всю жизнь. С тех пор война, фронт, наступление – все эти понятия связывались у него только с Зеленым Гаем: здесь он впервые почувствовал запах тротилового смрада, пороха, здесь он впервые видел бой, здесь впервые его ранило…
Встречи
 исьмо в Букреевку пришло поздней слякотной осенью. Дрожащими руками распечатала мать затертый треугольник, не читая обшарила его глазами – искала число. Нашла, улыбнулась: свежее письмо! Пришло оно из госпиталя. Чтобы успокоить мать, Гурин сразу сообщал подробности: ранен легко, в плечо. Осколок мины в лопатку угодил, но кость цела. «Так что вы на госпиталь мне не пишите: не успеет письмо прийти, как я выпишусь отсюда», – добавлял он.
исьмо в Букреевку пришло поздней слякотной осенью. Дрожащими руками распечатала мать затертый треугольник, не читая обшарила его глазами – искала число. Нашла, улыбнулась: свежее письмо! Пришло оно из госпиталя. Чтобы успокоить мать, Гурин сразу сообщал подробности: ранен легко, в плечо. Осколок мины в лопатку угодил, но кость цела. «Так что вы на госпиталь мне не пишите: не успеет письмо прийти, как я выпишусь отсюда», – добавлял он.
Мать несколько раз перечитывала письмо, слезы застилали ей глаза, она вытирала их и читала еще и еще раз.
– Стреляли в него, хотели убить… Бедный мой сыночек, какую страсть пришлось пережить. Но живой, живой, – думала она вслух. Потом бежала к соседям, показывала письмо, говорила: – Ранен, но живой! Миною проклятый немец ранил. В плечо. А вот подробностей не сообщает. Может, еще чуть – да и в самое сердце. Бедный мальчик… Ну, хоть отделался легко да живой остался. Отбыл свой долг, теперь уж ему ничего не грозит. – И она совсем успокоилась и почему-то ждала его домой. А когда в одном письме в нижнем уголочке прочитала мелкое «с. Чапаевка», совсем потеряла покой: узнавала у раненых, пришедших на поправку домой, где эта Чапаевка. И узнала-таки! Оказалось, той же дорогой надо ехать – до станции Пологи. Быстро снарядились с Алешкой и тронулись в путь…
* * *
Раненые все прибывали, в коровниках – а их было четыре или пять, таких длинных и просторных, как вагонное депо, – становилось все теснее.
Госпитальное начальство нашло выход: всех ходячих стали расселять по хатам. Повели первую группу, в нее попал и Гурин, потекли они медленно по мокрой улице, останавливаясь у каждого двора.
– Сюда три человека, – указывал провожающий. Трое направлялись в ворота, а остальные шли дальше.
– Сюда – пять.
– Ого!
– Пять! Вот вы, – отсчитал он пять человек. – Идите.
Наконец дошла очередь до Гурина.
– В этот дом шесть.
– Ого!
– Ну что «ого»? Надо же куда-то людей размещать? Так. Шесть. Ты шестой, – отделил провожатый Гурина от остальных. – Идите. Вы будете старшим, – сказал он самому пожилому из группы. – Как ваша фамилия?
– Ефрейтор Харабаров.
Тот записал фамилию и повел толпу раненых дальше.
Раненые вошли в хату и остановились у порога: перед ними была чистенько смазанная земь и на ней разноцветная домотканая дорожка. Солдаты поглядывали на свои мокрые шинели, на грязные ботинки, сапоги и не решались ступить дальше порога.
– Ничого, ничого, – пропела хозяйка в белом платочке. – Проходьте… Там вы будете жить, – указала она на дверь в горницу.
У стола сидел бородатый старик, крутил цигарку, смотрел на солдат хмуро и так же хмуро поддержал свою старуху:
– Проходите, чого уж там, – кивнул он на ноги солдат.
В горнице для них была приготовлена постель: аккуратно разложенная свежая сухая солома на земляном полу застелена сверху чистым рядном. В головах вместо подушек возвышался соломенный валик. Пока другие разглядывали опрятную горницу, рушники, развешанные в углу над иконами и над увеличенными фотографиями на стенах, Гурин поспешил занять крайнее место, обеспечив себе спокойствие с правого фланга. Бросил под лавку вещмешок, сам опустился на постель и утонул в рыхлой, взбитой заботливыми руками соломе.
Пока раненые устраивались, обминали свои ложа, к ним никто из хозяев не заходил, и солдаты решили, что те так и будут вести себя отчужденно. Да и кому понравятся такие квартиранты? Беспомощные, грязные, бесплатные, да еще в таком количестве. Но они ошиблись. Вскоре дверь в горницу открылась и на пороге появился старик. Оглядел их и, почесывая в бороде спросил:
– Ну як тут? Вмистылись? Тисновато?..
– Ничего… – не сразу ответил за всех ефрейтор Харабаров – мрачный, малоразговорчивый сибиряк.
– В тесноте, да не в обиде, – помог ему сосед Гурина – юркий белобрысый парень. Харабаров покосился на него: видать, он не терпел выскочек.
– Може, що треба?
Раненые молча переглянулись, пожали плечами – вроде никому ничего не надо. Харабаров ответил:
– Нет, спасибо. Мы и так вас стеснили.
– Об этом не турбуйтэсь, – проговорила из-за спины старика хозяйка. – Може, голодни, зварыты щось треба? У нас е картопля.
– Варить ничего не надо, хозяюшка, нас кормят.
– То, може, постирать?
– Это пожалуй… – Харабаров посмотрел на своих, спросил: – Как? – и снова к хозяйке: – Соберем, если вам не трудно будет.
– А шо ж тут трудного? Може, и наш Ивашка дэсь отак, бидолага, маеться…
– Сын, что ли?
– Да. На хронти, – и она засморкалась, заплакала, ушла к себе.
Наступила пауза, и тогда сосед Гурина спросил у старика:
– Папаша, а как ваше село называется?
– Чапаевка.
– Чапаевка? – переспросил Харабаров, удивленный почему-то ответом. – Какая же это область?
– Запорожская.
– Ну? Разве тут Чапаев был?
– Ни. Тут Махно лютовав, – оживился старик. Он указал на окно рукой: – Отуточки, верствы з три, станция Пологи, а там дали – Гуляй-Поле… Ото он тут и бигав.
– И вы видели Махно?
– Да! Он шел з Гуляй-Поля через Пологи на Бердянск. И тут усих мужиков, у кого кони были, в обоз мобилизовав. А у меня была коняка.
– Ну и как же? Служили у Махно?
– Та ни. Яка там служба! До Бердянську дошли, а там поразбигалысь. И я утик з конякою. Ото и уся служба.
«Пологи? – удивился Гурин. – Опять Пологи? Это же те Пологи, где нас обмундировывали!» – обрадовался он: все-таки знакомое место.
Разговор кончился, старик ушел, а квартиранты занялись своими делами, кто чем. Гурин достал из мешка тетрадь со стихами, вырвал с конца чистый лист, стал писать матери письмо. Белобрысый увидел, попросил листок себе. Василий выдрал и ему, и потом уже было неудобно прятать тетрадь, оделил всех чистыми листочками. С бумагой было туго, он знал это, а у него тетрадь толстая, стихами исписана только наполовину, останется и на стихи.
К ночи рана его, как обычно, начала давать знать о себе.
Ныло плечо, и нельзя было шевельнуть рукой, чтобы не ойкнуть. Каждое движение, даже левой рукой, даже ногой – все тут же отзывалось в плече и долго потом не утихало. Гурин не находил себе места, а когда наконец приловчился, и плечо успокоилось, и рана затихла, и он начал забываться сном, пришла другая беда – ему нестерпимо захотелось на двор. Он крепился, чтобы оттянуть это дело как можно дальше, ведь вставать для него – целое несчастье: опять натрудит рану, и будет он потом долго корчиться, возиться, пока найдет то единственное положение, в котором боль начнет затихать.
Но делать нечего, встал осторожно, сунул в холодные ботинки босые ноги, превозмогая страшную боль, натянул на плечи шинель. В сенях долго возился с запором – не знал, как он открывается, и поэтому никак не мог с ним совладать в темноте, Слышит: кто-то идет ему на помощь. Хозяйка.
– Извините, бабушка, – сказал ей Гурин, а самому и стыдно и больно.
– Ничого, ничого, – успокаивает она его, открыла дверь и вернулась в хату. Вышел Гурин на волю, поежился. Мелкий холодный дождь сечет лицо, ноги разъезжаются по грязи.
Возвратился, разделся, а лечь не может: больно нагибаться. Он и так, он и эдак – никак. Наконец, стиснув зубы, упал на левый бок, застонал: «Ой-ой-ой!.. Мама!.. Мамочка!..»
Днем Гурин подарил бабушке кусок сахара. Хотел отдать и печенье, но раздумал, оставил до другого раза.
Увидев сахар, она обрадовалась, а потом стала отказываться:
– Куды ж його? Так много! Ни, ни, сами з чаем выпьете.
– Нам дают, – оказал Гурин, и тогда она взяла сахар и спрятала его в большую эмалированную чашку, задвинув поглубже в шкаф.
На курево раненым давали листья табака. Гурин не курил и весь свой пай дарил старику. Старик не скрывал своей радости, и Гурину было приятно, что он нашел чем хоть немного отплатить старикам за гостеприимство. А оно было по тем временам безгранично. Первым делом бабушка Оксана перестирала все их исподнее и портянки, хотя этим можно было и не обременять ее: их потом каждые десять дней водили в баню и давали чистое белье. Чуть погодя постирала гимнастерки и погладила их. Угощала постояльцев своим борщом и извинялась, что в нем «нэма ни сала, ни мяса».
Прошел день, другой, и жизнь в доме наладилась. Солдаты регулярно ходили на перевязку, и каждый день по очереди – за обедам на кухню. Котелки были не у всех, да они оказались и не очень удобными в этих условиях: в одной руке лучше держать одну большую посудину, чем пять или шесть котелков. Такую посудину им дала хозяйка – большой, толстопузый выщербленный кувшин – «глечик». Дед Гнат обвязал вокруг шеи «глечика» пеньковую веревку и из нее же сделал петлю – будто дужка на ведерке. Удобно и вместительно. Держишь за веревку кувшин и несешь в нем суп на всю компанию.
Вскоре, правда, эта компания стала распадаться: у двоих оказалась совсем недалеко их родина, и они каким-то образом умотались домой. Двое, в том числе и гуринский белобрысый сосед, проникли в ближайшие хутора, пристроились там у одиноких вдов и оттуда ходили на перевязку. Остался Гурин вдвоем с Харабаровым. Но и Харабаров вскоре, встретив земляка, перебрался к нему.
Гурина тоже подмывало махнуть домой, но он не решался: это все-таки не близко. А их предупреждали: всякое отсутствие более трех суток считается дезертирством. И он остался один со стариками. За обедом по-прежнему ходил с щербатым кувшином и угощал госпитальским супом своих хозяев, которые жили очень бедно. В погребе у них была одна «картопля» да бочка соленой капусты.
У Гурина оказалось много свободного времени, он читал Короленко, почти каждый день писал домой письма, сидел со стариками, слушал дедовы рассказы о махновщине. В хорошую погоду бродил по селу и раза два дошел даже до станции Пологи. Толкался среди толпы на вокзале, смотрел на поезда, которые уходили на восток. Два перегона всего до родины: Пологи – Волноваха и Волноваха – Сталино. И все. А там три часа пешего хода, и он дома. А случится попутка – так и за полчаса можно добраться. «Рискнуть, что ли? – приходила сладкая до одурения мысль. – Сесть вон на тормозную площадку. Ну, пусть сутки до Волновахи, да там сутки, да там?.. Максимум – трое суток. И обратно трое… Вполне можно успеть: на перевязку я хожу через семь дней. Ну, а один раз приду через восемь – какая беда? Рискну? Маму увижу, Алешку, Танюшку. Вот удивятся!»
И уже совсем было решался, направлялся к поезду, и тут приходила другая, здравая и потому неприятная мысль: «Ну и что? Ну, приедешь, покажешься, расстроишь всех – и в обратный путь. Опять слезы, проводы, беготня, суетня – мама побежит по соседям взаймы просить денег, продуктов… А тут? Вдруг кинутся – нет на месте. Три дня пождут, а потом подадут в розыск. Дезертир. Нет, потерплю!..»
И Гурин, уже стоя у тормозной площадки, в последний момент отговаривал себя. Состав медленно трогался и, набирая скорость, проходил мимо. Вот отстучал колесами последний вагон, Гурин смотрит ему вслед – качается на тормозной площадке одетый в тулуп старший кондуктор, нее дальше уходит поезд… Он уже скрылся за поворотом, и шум от него затих, а Гурин все стоит… «Может, напрасно не рискнул?..» Наконец медленно поворачивается и медленно идет в свою Чапаевку.
Но ему определенно везло в жизни: все равно что-нибудь хорошее, радостное да случится.
Однажды стоит он в длинной очереди раненых к кухне и видит – идет какая-то женщина в их сторону. Идет медленно, в солдат всматривается, будто ищет кого. И вдруг показалось ему, что на ней очень знакомая телогрейка: точно такая у них дома была, в ней он в армию уходил; в Пологах, когда уже их обмундировали, он отдал ее матери. Присмотрелся – и сама женщина показалась тоже очень похожей на мать, только постарше будет, скорее похожа на его бабушку…
И так, пока мысли разные в голове спорили между собой, сам он уже машинально направился к ней. Подошел и видит: точно – мать, только постаревшая сильно, поседевшая. Морщины избороздили лицо. А она все смотрит по сторонам, не видит сына, не узнает…
– Мама!.. – сказал он тихо.
Она вздрогнула, вскинула на него глаза, узнала, а все еще не верит глазам своим. На нем шинель наполовину внакидку – левый рукав надет, а правый болтается пустым.
– Ой, сыночек мой! Руки нема?! – вскрикнула она, вскинув руки к лицу.
– Есть, цела рука, – сказал он улыбаясь и показал ей подбородком себе на грудь под шинель.
– И шинель в крови… – продолжала она оглядывать Василия, а губы ее плаксиво дергаются, в глазах слезы стоят.
– Как вы сюда попали? Откуда?
– Третий день ищу… – И не сдержалась, заплакала, жалуясь: – Отчаялась совсем. Это ж я на станцию уже иду. И думаю, дай еще раз пройду, посмотрю, поспрашиваю… Как чуяло сердце. А пройди я мимо?.. Я ж была уже здесь.
– Да откуда вы узнали адрес?
– А ты же письмо прислал, и в уголке написал: «с. Чапаевка». А Чапаевка у нас уже известная, многих домой на поправку поотпускали. А про тебя слух прошел, будто убитый. – И снова у матери губы задергались, слезы покатились по щекам, она заплакала, уже не сдерживаясь.
– Не надо, мама… Живой же, чего ж плакать?
– Извелась вея, пока получили письмо…
– Почта, наверное, плохо работает: я сразу написал.
– Людская молва быстрей всякой почты разносится. Значит, все-таки правда: кто-то ж тебя видел, – она кивнула на окровавленную шинель.
– Вряд ли… Знакомых никого не было. Как же вы не побоялись в такую дорогу пуститься?
– А я не одна. Я с мужиком. Алеша увязался. Как отговаривала, нет, не отстал…
– Алешка с вами? – удивился и обрадовался Гурин. – Где же он?
– В другой конец деревни пошел тебя искать. Договорились встретиться возле сельсовета. Может, он уже и ждет меня там.
– Алешка здесь! Так вы идите к нему, а я сейчас получу обед и тоже приду.
– Как? Тебя оставить одного? – всерьез испугалась она. – А вдруг опять потеряешься?
– Не потеряюсь! Теперь я вас буду искать.
Она согласилась, пошла к Алешке. Гурин дождался своей очереди у кухни, получил полный кувшин супу – ему теперь много надо: хозяев кормить, гостей угощать – и пошел к сельсовету. Еще издали увидел своих. Вернее, Алешку он не узнал, а догадался, что это он: забрызганный осенней грязью, неумытый, глаза красные от усталости, улыбается смущенно, подойти к брату не решается, словно чужой. Кидает растерянно глазами то на окровавленное плечо шинели, то на пустой рукав, не знает, как вести себя. И все-таки радость от встречи побеждает, он кидается к Василию, прячет лицо у него на груди, прижимается крепко. А Василий не может его обнять: одна рука на перевязи, другая занята ношей, стоит, подбородком прижался к голове братишки.
– Тише ты, ему же больно, – говорит мать, и Алешка виновато отступает от Василия.
– Да нет, не больно. Рана на спине… Отчаянный вы народ! – восхищается своими Гурин. – Это ж вы ехали, наверное, и на буферах, и на ступеньках вагонов?..
– И на крыше, и в теплушке с солдатами, – добавила мать. – Страшней всего было на буферах. За Алешку боялась: вот как уснет да свалится под колеса.
Алешка машет рукой – мол, делать матери нечего, как о нем беспокоиться: что он, маленький?
– Стоило рисковать… – упрекает их Василий.
– Стоило, стоило, – быстро говорит мать. – Ну, веди на свою хватеру, что же мы, так и будем на улице стоять?
Привел он их к себе и поселил рядом с собой на солдатской соломе. Делился с ними своим солдатским пайком. А мать добыла за какие-то гроши, а может, выменяла на какую-нибудь барахолину на местном, базаре муки и бутылочку подсолнечного масла, испекла пирожков с картошкой. Румяные, пахучие, вкусные. Угощала ими стариков – хозяев сына, и те были очень довольны, хвалили мать, какая она мастерица куховарить.
С неделю прожили у него мать и братишка, наступило время расставаться. Василий засуетился, забеспокоился – подарок бы нужен, как же без подарка провожать гостей? А у него, как у нагиша, – вещмешок да душа. Все на нем военное, казенное. Гимнастерка, шаровары солдатские – всего по одной паре, да и то б/у – бывшее в употреблении. Даже запасной пары портянок нет, чтобы подарить Алешке – пригодились бы, за войну совсем обносились, на хлеб обменяли все. И обрадовался безмерно, когда вспомнил о пачке печенья. Вытащил из-под лавки вещмешок, достал пачку настоящего фабричного печенья, протянул матери:
– Вот вам гостинец. Танюшке повезете от меня подарок.
– Печенье? Откуда? – удивилась мать.
– На фронте давали, – сказал он небрежно и про себя поблагодарил Иванькова: как он выручил его!
Провожать своих Гурин пошел до самой станции Пологи. Шли дорогой, разговаривали. Мать совсем привыкла к нему такому – в шинели с засохшими бурыми пятнами крови на ней, с рукой, на привязи – и успокоилась: ничего страшного с сыном не случилось, жив и даже не калека. Руки, ноги целы, и слава богу… Правда, натерпелся страху, пережил боль, ну что ж… На то и война. Спасибо, господь помиловал, спас от худшего – многие вон совсем головы посложили…
– Ну, выздоравливай, сынок, поскорее. Наконец-то твоя душенька успокоилась. Отбыл свое, пролил кровь, совесть теперь тебя не будет мучить, и мне легче. Да оно, я тебе скажу, другие вон как-то сумели, затаились, дома сидят – и ничего. Брони заимели… Не вижу, штоб их дужа совесть мучила… Ну не морщись, не морщись. Это я так, к слову пришлось. Я ж их не хвалю?.. А только мне обидно: за што нам такая доля? У них отцы, у них все… И война их не коснулась, стороной обошла. Живут все дома – не тронуты, невредимы. А мой сыночек и детства как следует не видел – все в нужде, да в голоде, да в холоде, и теперь ему больше всех достается. За какую такую провинность? – Мать заплакала.
– А говорила, успокоилась. Не надо, мама. Всё теперь уже позади. Пусть, мало ли кто как живет! Зато мы можем людям прямо в глаза смотреть: мы никогда не ловчили.
– Это правда, – согласилась мать, вытирая глаза кончиком платка. – Это правда. Нам нечего стыдиться, оттого и ходим прямо и свету больше видим. А у них голова вниз – всё глаза прячут. Я всегда говорила вам: будьте честными. В этом наше богатство.
Они стояли на перроне и только теперь разговорились, за неделю этот разговор почему-то не возник.
Алешка был рядом, слушал, смаргивал белесыми ресницами набегавшие слезы, глотал их незаметно, силясь не расплакаться.
– А ты почему сырость распустил? – Василий подбодрил братишку, но тот сконфузился, махнул на него рукой:
– Иди ты… – и отвернулся, стыдясь своих слез.
– Как же: жалко брата, – сказала мать и обернулась к Алешке: – Ничего, не плачь, сынок: теперь мы его повидали. Все самое страшное позади уже, верно… Все позади.
Василий обнял Алешку, прижал к себе, сказал как можно бодрее:
– Держи хвост пистолетом! – Глупая какая-то поговорка вырвалась, самому стало неприятно, и он тут же, чтобы замять ее, наставительно произнес: – Учись только как следует.
– Да, с учебой у него не очень, – подхватила мать. – Голубей больше любит.
– Голубей завел? – удивился Василий. – Хороших хоть?
– Ага! – погордился Алешка, выворачивая голову из-под братниной руки. – Черно-рябые. Летают – как свечечки стоят над двором.
– Ух ты! – позавидовал Василий.
– Ну вот! Пожалилась, а они оба ишо дети, – усмехнулась мать. – Твоя невеста объявилась, – сказала она. – Чуть не забыла сообчить.
– Какая невеста?
– Какая? У тебя их много было? Валя Мальцева. Живет в Красноармейском, вышла замуж.
– Ну и ладно, – хмуро сказал Василий.
– Так что ты ее в голове не держи.
– А я и не держу. Откуда вы взяли?
– Паша Земляных со мной очень ласково здоровкается. И все спрашивает про тебя. Никогда мимо не пройдет, чтобы не спросить за тебя. Очень хорошая девочка. Красивая стала!
Василий молчал. Паша их соседка, одноклассница Гурина, они с ней с самого первого класса вместе в школу ходили, к ней он относился, как к сестре, – безразлично, но защищал и в обиду не давал. Чернобровая дивчина эта Паша, черные как смоль волосы расчесаны на пробор, и две тяжелые косы лежат на спине до самого пояса.
– Привет передавала, – не унималась мать. – Так что ей сказать?








