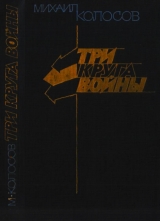
Текст книги "Три круга войны"
Автор книги: Михаил Колосов
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 30 страниц)
– Как что сказать? – удивился Василий. – Привет передайте.
– Хорошо, передадим. Она говорит: «Письмо б написала, да стесняюсь». – «А чего стесняться? – говорю. – Товарищи по школе. Напиши, возьми адрес». На писала?
– Нет…
– Вот какая стеснительная!
– Ладно, давайте о чем-нибудь другом, – оборвал Василий разговор.
– Ну вот, и ты такой же… О другом – о всем, кажись, уже рассказали. Пойдем мы. Поищем поезд в нашу сторону.
– Так и я с вами.
Они подошли к порожняку, который стоял в парке отправления, К нему уже был прицеплен паровоз, нетерпеливо попыхивавший струйкой пара. Гурин увидел капитана – он забросил в пустой вагон вещмешок, подошел к нему.
– Товарищ капитан, этот поезд до Сталино идет?
– Не знаю. Пока у него маршрут до Волновахи, – сказал капитан, не оборачиваясь, – он влез в вагон и принялся мостить себе из соломы гнездо.
– Это в том же направлении… Можно к вам посадить вот маму и братишку?.. Они ко мне в госпиталь приезжали…
Капитан оглянулся.
– Конечно, можно. Я ведь тоже зайцем еду. Садитесь. Веселее будет, – и он протянул руку, чтобы помочь матери забраться в высокий вагон без подножки.
Мать неловко, с трудом, несмотря на то что и Василий и капитан помогали ей, взобралась в вагон, застеснялась своей неловкости:
– Баба, так она и есть баба: в вагон залезть как следует не умеет.
– Давай, Алеш, – Василий обнял братишку, поцеловал в щеку. Капитан подхватил его за обе руки, поднял в вагон.
– Ну, вот теперь прощай уже по-настоящему. А то «прощай, прощай», а сами стоим, – у матери задергались губы. – Теперь все хорошо будет. Выздоравливай.
Вагоны лязгнули буферами, и поезд медленно тронулся. Василий несколько метров шел рядом, потом стал отставать.
– Выздоравливай! – крикнула мать напоследок. – Не скучай. Будет возможность, может, еще приеде-е-ем!..
Поезд заизвивался на выходных стрелках, и вагон уплыл в сторону. А потом вдруг снова показался, Василий еще раз на мгновение увидел своих в проеме вагонной двери, прокричал:
– Не надо!
Проводив своих, он направился прямо на перевязку. Его срок перевязки был еще вчера, но он пропустил его из-за гостей. Несмотря на ожидание взбучки за пропуск, настроение у него было хорошее: мать уехала спокойная и ему вселила это спокойствие. Немного грустно было от расставания, но ничего. «Все позади, все позади…» – звучали в нем как музыка материны слова, и ему от них было легко и радостно.
Врач тоже был в хорошем настроении, о том, что Гурин пропустил свой день, он даже ничего и не сказал, а только спросил весело:
– Ну, как дела, Гурин?
– Хорошо.
– Посмотрим! Разбинтуйте-ка его, – попросил он свою помощницу, которая и без его просьбы уже сматывала с Гурина длинный бинт. Врач – высокий, седой – встал и, нетерпеливо постукивая себя по ладони каким-то блескучим инструментом, ждал. – Запеленали, как младенца. – Голос у врача был басистый, но добрый.
Сестра стала потихоньку отдирать от раны присохший тампон, причиняя Гурину нестерпимую боль. Как ни крепился Гурин, все же ойкнул и взглянул виновато на врача. Но тот не обратил на него внимания, смотрел на руки сестры. Наконец тампон полетел в железный тазик, и врач склонился к ране.
– Действительно – хорошо! Повязку, – приказал он сестре своим рокочущим басом. – Только не забинтовывайте. Сделайте марлевую наклейку.
Сестра взяла тампон, намазала его вонючей мазью, к которой Гурин уже привык, приложила к ране. Потом кистью смочила кожу вокруг нее и покрыла все это куском марли и ласково пригладила. В одном месте еще раз мазнула кистью – не пристал, наверное, уголок марли. Растрепавшиеся белые нити она состригла ножницами.
– Одевайтесь.
Без бинтов стало совсем легко и непривычно, будто Гурина лишили теплой душегрейки.
Врач что-то писал, кончил, бросил сестре:
– На выписку. – Потом повернулся к Гурину, повторил: – На выписку, – и уставился вопросительно, словно ожидал возражения. И, ничего не дождавшись – для Гурина это было неожиданным, и он не знал, как на это реагировать, врач пояснил: – В батальоне выздоравливающих долечишься. Рана заживает хорошо. Завтра к десяти ноль-ноль быть возле канцелярии с вещами. Все. До свидания.
– До свидания… – промямлил Гурин и вышел.
«Выписывают? – удивился он почему-то такому решению. – Ну да! А ты что же думал, будешь вечно в госпитале болтаться? Да нет… Но как-то все-таки неожиданно… И мама уехала, не узнав такой новости». Сделалось грустно. Сам не зная почему, он совсем сник. Стариков жалко, привык он к ним, и они к нему. Сынком звали…
– Ну шо, проводив своих? – спросила хозяйка Гурина, когда он вернулся.
– Проводил… А завтра и меня выписывают! – сообщил он как можно веселее.
– Як выпысують? Ще ж рука он… – старуха указала на петлю, в которой лежала рука.
– В батальон выздоравливающих, – сказал Гурин.
– А, значит, ще выздоравливать будешь, – закивала старуха. – Ну шо ж, в добрый час.
Ночью спал он плохо: беспокоило неизвестное завтрашнее.
Утром распрощался со стариками, закинул за левое плечо свой вещмешок и поплелся к госпитальной канцелярии. Там собралась довольно большая группа выписанных. Распоряжался здесь лейтенант Елагин – худой и пожилой дядька. Именно «дядька», потому что фуражка на нем сидела совсем не по-военному, а как у больничного завхоза, и командовал он как-то неумело, непривычно. Перед тем как подать команду «смирно», он сам вытягивался в струнку, словно собирался с духом, и потом, будто испугавшись своего же голоса, вздрагивал и стоял какое-то время «смирнее» солдат. Помощником у Елагина был сержант – круглолицый, плотный паренек по фамилии Бутусов. Бутус, он и есть бутус: среди всех сержант выделялся, как свиная бита в куче бараньих бабок.
Каждого приходящего сюда Елагин сначала гнал на кухню завтракать, а потом уже интересовался его фамилией, выдавал госпитальную справку и отсылал к сержанту за сухим пайком. Расположившись в сенях крестьянской хаты, тот выдавал каждому по банке тушенки, по буханке хлеба, по две пачки концентрата и сыпал по несколько ложек сахарного песку. Это был самый неудобный продукт, под него подставляли что попало: газету, чистую запасную портянку, носовой платок, крышку от котелка. У старых солдат для этого нашлись баночки-закрывушки. Гурин достал из мешка платок с синей каемочкой и в него завязал песок.
Когда все было получено, лейтенант приказал построиться и, стоя в проеме двери, чтобы дождь не размочил список, сделал перекличку. Голос у него был какой-то дрожащий, на предельно высокой ноте – казалось, вот-вот сорвется. Но он не срывался.
– Продукты все получили? – спросил Елагин, пряча список.
– Все… – ответил кто-то не очень уверенно.
– Справки все получили?
– Все! – уже несколько голосов раздалось.
Госпитальную справку получил и Гурин. На кусочке серой оберточной бумаги слева был оттиснут чернильный штамп госпиталя, а справа от руки значилось:
«Справка.
Дана кр-цу 1 вз. Гурину Василию Кузьмичу в том, что он находился на излечении в ППГ 3536 с 13/X по 22/XI 1943 г. по поводу осколочного слепого ранения груди в области правой лопатки. Ранение легкое.
Начальник ППГ 3536,
майор м/с Пшеничный».
«Зачем она, эта справка?..» – недоумевал Гурин, однако не выбросил, свернул вдвое, вложил в красноармейскую книжку.
– Позавтракали все? – продолжал допрашивать Елагин.
– Все!
– Хорошо! Предупреждаю: идти нам далеко, так что набирайтесь духу. И прошу не отставать. Кто совсем не может идти?
Молчание.
– Нету таких? Хорошо. Тогда: сми-ир-на! Нале-во! Шагом арш!
И колонна человек в восемьдесят потянулась вдоль Чапаевки на запад.
Дождь не переставая сыпал мелким сеянцем. Расквашенная дорога была скользкой, ноги расползались в разные стороны, и колонна быстро расстроилась, растянулась: каждый искал куда половчее ступить, чтобы потверже, чтобы не упасть, чтобы не зачерпнуть в ботинок воды. В поле вообще колонна поломалась, она вытянулась в две длинные серые нитки: шли двумя обочинами вдоль дороги. Бровки, как всегда, крепче – они не разъезжены и не разбиты, целиной легче было идти.
Лейтенант хотел было навести порядок, но быстро отказался от этой затеи, понял, что воинство его не совсем здоровое и требовать от них дисциплины бессмысленно. Некоторые хромали и шли с палочками – нелегко таким, у многих руки висели на перевязи, и Елагин ограничился тем, что послал сержанта в самый хвост колонны, а сам поспешил вперед. Разбрызгивая грязь большими кирзовыми сапогами и скользя, он бежал серединой дороги между понуро идущими солдатами.
Шли медленно и без привалов, потому что «привалиться» было негде – кругом мокрядь, и села, которые они проходили, были забиты войсками. Да похоже, лейтенант и не очень хотел в селе останавливаться – попробуй потом собери всех быстро.
Натянув поглубже пилотку и подняв воротник шинели, чтобы не лило за шею, Гурин брел узкой межой между дорогой и полем. Впереди все время маячила чья-то спина и мокрый вещмешок. Ноги соскальзывали то в дорожную колею, то на пашню. В колее вода хлюпала неприятно-холодно, по-осеннему, быстро проникала в ботинки. На пашне ноги увязали по щиколотку в жирный чернозем, и, чтобы вытащить их, нужно было немалое усилие. Вытащит – на них пуд грязи. Вытрет кое-как о траву – торопливо, на ходу, чтобы не отстать, и бредет, нагнув голову. Случайно поднимет ее, а перед ним все та же серая спина и мокрый вещмешок…
Когда они только вышли из села, Гурин все остерегался, чтобы не набрать воды в ботинки, а потом, когда набрал в один и в другой, стережение это было уже ни к чему, и он шел теперь, не очень выбирая дорогу. Новые порция холодной воды в ботинках лишь на время доставляли неприятность, вскоре вода согревалась, и Гурин не обращал на нее внимания.
Уже наступили сумерки, а они все шли и шли. В колонне изредка стал раздаваться ропот: люди устали, промокли, пора уже прибиваться на ночлег. Чувствуя настроение своей команды, Елагин покидал головное место и, приотстав, шел в середине колонны, объясняя:
– Мы же вышли поздно из Чапаевки и идем медленно…
– Куда же быстрее? Дорога этакая, а мы ведь почти калеки, – ворчали старики.
– Я это понимаю. Согласно, маршрута, у нас ночлег намечен в Соленой Балке. А до нее еще километра два-три. Вы же сами видите: везде занято… Потерпите.
Еле-еле прибились они к своему ночлегу. Развели всех по хатам. Хозяева – нечего делать, принимают. Тем более видят – войско хилое, больное, в бинтах. Жалеют.
Гуринская хозяйка – молодая дебелая украинка – быстро загнала ребятишек на печь, сама притащила большую охапку соломы, раскочегарила плиту, пригласила постояльцев:
– Раздягайтесь, сушитесь… Ой, биднесеньки, куды ж вас гонють, таких хворых?
– Нас не гонют, сами идем, – сказал, бодрясь, пожилой солдат. И пояснил: – Мы еще на излечении.
Картошки большой чугун сварила, чайник вскипятила – ешьте, пейте.
– Ой, сколько ж войска идеть! – удивлялась она. – И у день, и у ночи. И пишки, и на машинах. Яких тилько солдат не было. Теперь вот вы, ранетые. Ешьте, ешьте. Картопля у мене е, – похвасталась она, как своим близким. – Утречком супу зварю.
В комнате пахло сырым. От шинелей, ботинок, сапог – от всего пар валил, и было душно, как в жарко натопленной бане.
Утром портянки у всех сухие, ботинки – тоже. Только шинели волглые – солдаты ими накрывались вместо одеял. Да их и не высушишь так быстро.
Хозяйка хлопочет у стола, а постояльцы, чтобы отблагодарить ее, выделяют от всех пачку концентрата и одну пайку сахара. Они потом между собой сочтутся. Сахар отдал Гурин – у него самый чистый платок. Хозяйка отказывается от подарка:
– Ну на шо ото? У вас дорога довгая.
С трудом уговорили ее взять, и она, конфузясь, принесла под сахар блюдце. Гурин высыпал бережно в него промокший сахар, вытряхнул платок.
Еще сидят за столом, дохлебывают суп солдаты, уже бежит сержант:
– Кончай ночевать! Выходи строиться!
Нехотя повинуются – одеваются, благодарят хозяйку, выходят в дождь. Лейтенант Елагин, чтобы не задерживаться, не стал делать перекличку, заставил лишь по порядку номеров рассчитаться.
Захлюпала нестройно десятками ног по лужам колонна, потекла дальше по избитой войной дороге. Куда идут, где их конечный пункт – никто не знает, кроме лейтенанта Елагина. Но он держит все в секрете, под разными предлогами уходит от прямого ответа. Даже где намечен следующий ночлег, не говорит.
Спасаясь от грязи, солдаты взобрались на железнодорожную насыпь. Ветка еще не была восстановлена, на рельсах краснела ржавчина. Местами полотно было разворочено, а рельсы загнуты в разные стороны, будто легкие проволочные прутья. Мосты взорваны. По обеим сторонам насыпи, в кюветах, насколько хватало глаз, валялись скелеты обгорелых вагонов, платформы, «тигры», пушки, грузовики, кургузые немецкие паровозы. И чем дальше, тем больше.
Солдаты брели, рассыпавшись по железнодорожной насыпи. Кто мелко семенил, ступая на каждую шпалу, кто, наоборот, шагал широко – через одну, кто для пущей безопасности шел бровкой вдоль полотна. Ребята помоложе и поздоровее, дурачась, пытались идти по рельсам – соревновались, кто дальше пройдет, не соскользнув с гладкой поверхности.
Дорога эта к вечеру привела их к станции, на окраине которой они остановились на очередной ночлег. И тут Гурин впервые узнал, что не везде гостеприимство в чести, и сильно удивился этому: как можно?! Оказывается, можно…
Когда сержант Бутусов открыл калитку и, не обращая внимания на визгливый лай собачонки, ввел группу солдат в чистенький дворик, навстречу им выскочила с непокрытой головой разъяренная женщина.
– Ну, куды вас?.. Куды вас?.. – замахала она руками.
– Здорово, хозяйка, – поприветствовал ее Бутусов. – Принимай гостей. Красивых, молодых! – балагурством он пытался сбить ее с дурного тона, но она кричала свое:
– Нэма от вас покою ни днем, ни ночью. Идуть и идуть. Шо моя хата з краю? Шо то за жнзня? И усим дай да дай. У мэнэ вжэ нэма чого даваты.
– Ну, такая молодая и красивая! – продолжал шутить Бутусов. – Сколько примете – пять, десять? Хата вон какая большая.
– Ни одного не пущу! Надоилы уеи. Гэть з мого двора! – махнула ока рукой, будто кур чужих гнала с огорода.
– Э, нет, так дело не пойдет, – посерьезнел Бутусов. – С немцами, наверное, так не разговаривала?
Ух, как взъярилась от этих слов молодка! Будто шилом ее укололи. Руками замахала, закричала:
– Ты, чертяка рыжий, мэкэ нимцямы не дорикай! Я их не кликала сюды. И як я з нымы разговарювала, ты не слыхав. Як бы тэбэ до них, я б подывылась…
– Прекратить разговоры! – скомандовал сердито Бутусов. – Разболталась! Сейчас действуют законы военного времени. А здесь тем более – прифронтовая полоса. И я вас живо спроважу под трибунал! Там вам разъяснят, что к чему. – Обернулся к солдатам: – Десять человек, шагом марш в хату. И будьте как дома. А вам приказываю растопить печь – солдатам надо до утра просушить свою одежу. Постыдились бы! Раненых солдат на улице хотите оставить в такую погоду! Приду проверю, – и он погрозил пальцем притихшей хозяйке.
Солдаты неуверенно направились к крылечку, сержант вытянул руку за спиной Гурина, сказал:
– Ладно… Пять человек – хватит. Остальные за мной.
Тщательнее, чем обычно, солдаты вытерли ноги о соломенную подстилку у порога и несмело, по одному просочились в хату. Чистенький пол, недавно смазанный, еще издавал запах глины и коровьего кизяка. Печь побелена, поддувало и чугунная дверца окаймлены ровной черной лентой. На камине нарисован большой синий куст, к которому с двух сторон тянулись такие же синие голуби.
Дверь в горницу была открыта, и солдаты, словно в убежище, осторожно прошли туда, расселись на лавке рядком, как ласточки на проволоке, молча рассматривали внутренность хаты.
Вошла хозяйка, затопила печь. Она несколько раз выходила, приносила то дровишек, то ведро с углем. Молча, не глядя на гостей, исполняла свою работу.
Наконец печь разгорелась, потянуло теплом, потеплела и сама хозяйка:
– Вы уж извиняйте, шо так получилось…
– Ничего, – ожили солдаты. – Бывает…
– Война, от нее никому не сладко.
– Утром тилько уехали ваши, два дни жили. Цилый день поралась, поки убралась, а тут вы… Но ничого… Раздягайтесь. Може, вам зварить шо? – примирительно спросила она.
– Нет, не надо, – отказались солдаты. Их очень резануло слово «ваши» в ее речи. Может, это и была случайная оговорка, но они при этом слове, как по команде, переглянулись, и у всех в глазах можно было прочитать одно: «Вот зараза!» Очень им было это обидно.
– Мы сами сварим. У вас есть большая кастрюля или чугунок?
Хозяйка принесла и то и другое. Солдаты выбрали чугунок из принципа: не хотели они ее хорошей посуды. Сварили кашу из концентрата, наелись, развесили свои шмотки вокруг плиты и стали устраиваться на ночь. Вещмешки под головы, шинели – одну полу под себя, другую сверху…
Хозяйка принесла большую ряднину, они не отказались, разостлали ее на полу и повалились до утра.
Только к концу третьего или четвертого дня добралась наконец команда Елагина до своей цели – догнала батальон выздоравливающих. Располагался он в большой пустой деревне – бывшей немецкой колонии. Дома здесь были большие, островерхие. Внутри – простор. Посредине стояла толстотрубая печь, а вокруг нее вдоль стен – сплошная соломенная постель, ограниченная у ног деревянными брусками, чтобы солома не растаскивалась.
Солома… Теперь Гурин к ней привык и радовался при виде ее, как родному крову. Что бы они делали без нее, родимой? Она всю дорогу у них и под боком вместо перины, и в головах вместо подушки, и в ботинках вместо стелек; она и топливо и защита. И теперь он уже немного стыдился своих мыслей, когда по дороге в госпиталь трясся в грузовике и мечтал о подушках и белых простынях. Госпиталь – это слово у него ассоциировалось с больницей, и он представлял себе: «Вот приедем на место, у нас заберут верхнюю одежду, выдадут синие теплые халаты, тапочки и поведут в белоснежную палату, положат на мягкую постель с простынями. Рядом будет стоять тумбочка, в ней моя тетрадь со стихами и томик Короленко. А на стене над головой будут висеть наушники – радио. И заботливая, очень нежная сестра будет подходить и спрашивать: „Как вы себя чувствуете, больной?“» «Чудак! – усмехался он теперь. – Это же надо быть таким наивным чудаком! Соломка – вот она, родная наша выручалочка!»
Гурин бросил подальше к стенке – себе в изголовье – вещмешок, не раздеваясь, сам упал на солому и тут же уснул.
Утром их разбудили строгой и очень неприятной командой: «Подъем!»
– Подъем, подъем, – сержант Бутусов ходил и каждого теребил, стягивал с них шинели. – Не слышите, что ли? Подъем!
Солдаты спросонья ворчали, одни поднимались, потягивались, разминая кости после трудной дороги, другие снова тянули шинели себе на головы, подбирали ноги, скрючивались в калачик, собираясь еще соснуть хотя бы с часок.
– Этто что такое? – послышался громкий строгий голос. – До сих пор валяются!.. Подъе-ем! Засекаю время!
После такого окрика не уснешь, зашевелились солдаты, ворчат, но одеваются.
– Что мы, строевые, что ли? У нас еще раны не зажили.
– Р-разгово-р-рчики! «Раны». У всех раны. В госпитале не отоспались? Безобразие, понимаете!.. А вы, товарищ Бутусов, куда смотрите?
Одеваясь, Гурин выглянул из-за печи – кто там такой строгий? – и увидел лейтенанта ниже среднего роста в большой фуражке, сильно надвинутой на лоб. Из-под козырька сверкали маленькие, узенькие, как у японца, глазки. Губы были по-детски надуты – лейтенант сердился. Левая рука висела на перевязи. Весь он был как на пружинках, не стоялось ему на месте, так и ходил туда-сюда. Посмотрел на часы.
– Полчаса на туалет, и всем быть готовыми к построению. – И, крутанувшись на каблуках, лейтенант выбежал из хаты.
– Шебутной лейтенант! – проговорил кто-то. – Этот заставит и строевой заниматься.
– Дурное дело – не хитрое, – поддержал его другой солдат.
Через полчаса лейтенант снова влетел в дом, скомандовал:
– Выходи строиться!
По небу плыли низкие плотные облака, готовые в любую минуту пролиться дождем. Поеживаясь, с неохотой выходили солдаты из теплого помещения на воздух.
– Вот кому-то неймется… – ворчали они.
– Становись! – У лейтенанта брови сурово сдвинуты. – Равняйсь! Смирно! – оглядел строй и, будто смилостивился, сказал просто: – Вольно. Вот что, товарищи. На первый раз ограничусь общим предупреждением. Безобразие, понимаете… Что у вас за вид? Где вы учились в таком виде становиться в строй? Без ремней, шинели не застегнуты, подворотнички грязные, сапоги, ботинки не чищенные…
– Мы же только вчера вечером пришли…
– Разговоры! Кто разрешал разговаривать в строю? Вы – солдаты Красной Армии и должны об этом всегда помнить. Безобразие, понимаете! Теперь насчет ран. Раны будем лечить, а вас учить, – и уголок рта чуть тронула еле заметная улыбка, лейтенант, наверное, сам не ожидал, что так складно, получится – как у Суворова. – Жить будем по строгому распорядку. Подъем, зарядка, завтрак, занятия. И так и далее. Сегодня после завтрака политзанятия. Затем материальная часть винтовки. После будем изучать ППШ, ручной пулемет Дегтярева – РПД, противотанковое ружье ПТР, а также новый Боевой устав пехоты. Познакомимся с трофейным оружием.
– А если артиллерист? – раздался голос.
– Ничего. Стрелковое оружие и артиллеристу не мешает знать. На войне всякое бывает. Еще вопросы есть?.. Предупреждаю: от занятий и от нарядов будут освобождаться только по справке врача. Я ваш командир взвода. Моя фамилия Максимов. Гвардии лейтенант Максимов Петр Иванович. Еще вопросы есть? – Он посмотрел на часы. – Сорок минут вам на приведение себя в порядок – почиститься, побриться, пришить подворотнички и так и далее. Р-ра-з-з-з-ойдись!
С этого часа госпитальная вольница кончилась и началась служба. Но Гурину она была не в тягость, ему даже нравилось собирать и разбирать оружие, и очень был доволен, когда наловчился это делать быстро: все пружинки, бойки, запоры, упоры становились на свои места, занимали свои пазы – щелк, щелк… и последний щелчок самый громкий: клац – спустил боевую пружину. Рассказал взаимодействие частей, выпалил все возможные задержки – загрязнение, перекос патрона…
– Молодец, – хвалил его лейтенант и ставил против его фамилии в своей тетрадке «отл.».
Радовался Гурин этой оценке, как ребенок! Он и в школе-то всего лишь несколько раз получал это «отл.», может все их припомнить: в пятом классе по рисованию – нарисовал на большом газетном листе бумаги паровоз «ФД», в девятом – по физкультуре и в десятом – по литературе. Вот и все «отл.», А тут – круглый отличник!
И в наряд Гурин ходил без особого внутреннего сопротивления – на кухню, на заготовку топлива, на другие разные работы. Дневалил. Тут он сказал себе: «Надо, – значит, надо. Ты находишься в армии, ты – на войне. Будь добр!..» И ничего, не тяжело было.
А другие хныкали, под разными предлогами увиливали не только от нарядов, но даже и от занятий. Ворчали:
– Зачем это? Зачем голову забивать разными названиями частей – кто их на фронте будет спрашивать? Важно уметь стрелять. Ну, еще уметь устранить неисправность. А то: сколько частей, какие, как они взаимодействуют? Это их дело – как они там взаимодействуют, мне важно, чтобы пулемет стрелял. Что я, конструктор?
Ну и так и далее, как говорит их лейтенант, все в том же духе: «Мы, мол, там побывали, порох нюхали, знаем, что там требуется». Но в этих ворчаниях было больше гонору, чем опыта. Гурин почему-то стеснялся говорить о своем «нюханье пороха» – ему казалось, что для этого у него нет оснований: слишком мало он пробыл на передовой, и тем более – ничего героического он там не совершил. А послушает других – и ему стыдно становится за себя: он ведь дрожал на передовой от страха, душа в пятки уходила…
Однажды к ним пришел огромного роста младший лейтенант. Сутулый (наверное, оттого, что ему в каждую дверь приходилось входить согнувшись), он поздоровался и спросил:
– Комсомольцы есть?
– Есть… – ответило несколько голосов.
– Подойдите ко мне. Я – комсорг батальона.
Комсорг примостился на единственной в доме табуретке и, положив на колено полевую сумку, стал записывать фамилии комсомольцев, принимать взносы, делать отметки в билетах.
Достал свой билет и Гурин, но стоял в сторонке, ждал, пока младший лейтенант освободится. С ним разговор, наверное, будет долгий, последний взнос он уплатил еще в августе 1941 года, а сейчас – ноябрь 1943-го. Все это надо ему объяснить, рассказать про оккупацию.
Протянув комсоргу билет, Гурин попытался ему сразу все объяснить. Но смог сказать только несколько слов:
– Я был в оккупации… Поэтому…
Младший лейтенант полистал билет, записал фамилию Гурина в общий список, но взносы принимать не стал.
– Зайди ко мне завтра, – сказал он, возвращая билет. – Я узнаю, как тут быть.
Захватив с собой на всякий случай тетрадь со стихами, как единственный документ, характеризующий его в годы оккупации, Гурин в назначенный час пришел к комсоргу. Тот сидел в своей комнатке за столом в шинели и в фуражке, что-то писал. Увидев Гурина, пригласил:
– Заходи, заходи. Садись, – и отодвинул в сторону свою писанину. – Значит, в оккупации был?.. – Он взял билет, еще раз полистал. – Ну, расскажи, как жил, чем занимался.
Гурин стал рассказывать. Комсорг слушал внимательно и даже как-то заинтересованно, будто раньше ничего такого и не слышал.
– Интересно… Ты, значит, и стихи сочиняешь… – Он взял тетрадь, стал листать, читать кое-что. – А это что, у них такая песня есть «Лили-Марлен»?
– Да. Солдатская песня. Солдат прощается со своей девушкой Лили-Марлен. Мол, жди, вернусь с победой. «Около казармы, у больших ворот, там, где мы прощались, прошел уж целый год…» Ну, а я переиначил ее: мол, не жди своего фрица, Лили-Марлен, он давно уже тод.
– А что такое «тод»?
– Ну – мертвый по-немецки.
– Ты знаешь немецкий язык?
– Немножко. В школе учил.
– О, а это сам придумал?
Гурин заглянул в тетрадь – там внизу страницы под стихотворением, в котором говорилось, что Гитлер и вся его клика, которые несут смерть народам, сами в конце концов будут болтаться в петле, были написаны печатными буквами четыре фамилии: Гитлер, Геринг, Гиммлер, Геббельс. Заглавная буква «Г» у всех четырех была нарисована объемной, будто из бревен сколочена виселица и с каждой спускалась веревочная петля.
– Не помню… Может, видел где.
– Интересно… – Он ухмыльнулся. – Значит, «Лили-Марлен»? Ну ладно. – Младший лейтенант возвратил Гурину тетрадь. – Причина, конечно, у тебя уважительная… Взносы я у тебя приму и возьму на учет.
Гурин обрадовался, расплылся в улыбке:
– Спасибо!
Комсорг терпеливо заполнил все пустые клеточки в комсомольском билете, расписался в каждой и поставил штампик.
– Возьми билет. Молодец, что сохранил. Ну, а теперь поговорим насчет комсомольского поручения. Какой же комсомолец без поручения. Верно?
– Верно.
– Вот если мы тебя агитатором во взводе назначим… Как ты на это посмотришь?
– А справлюсь?
– Справишься! – сказал он уверенно. – Лейтенант Максимов говорил, что ты отличник у него.
– Да ну… – засмущался Гурин.
– Это хорошо. Молодец. Значит, так. Задачи агитатора какие? Рассказывать людям последние известия, разъяснять политику нашей партии и правительства, читать газеты… Газеты будешь у меня брать. Вот тебе, – и он положил перед Гуриным кипу газет. – Хорошо бы наладить выпуск «боевого листка».
– А на чем? Бумаги нет.
– Этим я тебя обеспечу, только работай. Вот тебе бланки «боевых листков», – он достал из сундучка, стоявшего на полу, несколько больших листов. Заголовки на них были уже отпечатаны: лозунг – «Смерть немецким оккупантам!», потом крупно: «Боевой листок» – и рисунок – солдаты идут в атаку. Под заголовком до самого низа шли пустые три колонки, которые надо было заполнить заметками. – Значит, о чем могут быть заметки? О жизни взвода – учеба, работа, кто-то отличился… Нерадивых, самовольщиков протаскивать надо. Офицеров критиковать нельзя.
– Нельзя?
– Нельзя. Не положено. Ну что еще тебе дать? На вот тебе карандаш, – он выложил все из того же сундучка двухцветный толстый шестигранный карандаш. – Ну, и вот тебе бумага для писем. Солдатам будешь давать. Все?
– Все, – заулыбался Гурин и стал бережно складывать бумагу для писем, «боевые листки». Младший лейтенант посмотрел на его аккуратность, вытащил из-за сундучка обшарпанную, с провалившимися тощими боками кирзовую полевую сумку, подал Гурину:
– Возьми, пригодится…
– Ох ты!.. – обрадовался Гурин сумке. Разодрал слежалое нутро ее, сунул туда бумагу, про себя подумал: «И тетрадь для стихов положу в нее, мяться не будет…» Повесил сумку через плечо, сгреб свое богатство, взял под мышку и зашагал довольный во взвод. Радостно, приятно ему – столько газет, бумаги в его распоряжении! Но главное – в комсомоле восстановился, доверие обрел. Молодец, умница младший лейтенант – сразу разобрался, что к чему.
И во взводе Гурина встретили радостно:
– О, в нашем взводе агитатор объявился! Теперь мы бумажкой на курево будем обеспечены! – Вмиг расхватали газеты, пустили по рукам.
– Да вы сначала прочитайте, потом уж рвите, – просит Гурин: он еще не привык к своей роли.
– Это конечно! Мы сначала оборвем беленькие краешки, а серединку пока почитаем. Это конечно! Молодец агитатор, давно газетки в руках не держали.
После этого солдаты сразу приметили Гурина, зауважали, с вопросами разными стали обращаться, а он, довольный до бесконечности таким поручением, рад сделать приятное каждому.
«Боевые листки» стал он печь чуть ли не каждый день. Все заметки сочиняет сам, потому что написать их никого не допросишься. А он навострился, будто всю жизнь только этим и занимался. «Хороший поступок» – рядовой Сидоров, превозмогая боль в левой руке, смастерил из подручных материалов отличную скамейку и стол. Теперь солдаты взвода пишут письма и читают газеты, сидя за столом на скамейке, а не сидят на соломе. «Отличник боевой и политической подготовки» – рядовой Иванов отлично понимает: если тяжело в учении, то будет легко в бою. И поэтому не покладая рук изучает оружие. Берите с него пример. «Нехороший поступок» – рядовой Сысоев совершил нехороший поступок: он ушел в самовольную отлучку в соседнюю деревню к своей знакомой и пробыл там весь день. Тов. Сысоев забыл, что он находится на военной службе, где самоволка считается тяжким преступлением. А особенно в военное время. Стыдно, тов. Сысоев, так поступать. И подпись: «Товарищ».
Комсорг был доволен работой Гурина, майор-замполит – тоже. Приходил, читал, ухмылялся чему-то и хвалил: во взводе хорошо поставлена агитационно-массовая работа. Это был плюс и лейтенанту Максимову. Он горделиво улыбался майору, оглядывался на Гурина: вот, мол, какой кадр воспитан в его взводе!








