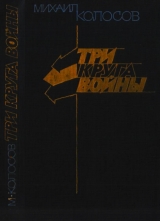
Текст книги "Три круга войны"
Автор книги: Михаил Колосов
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 30 страниц)
– Нет, недостаточно. Я это чувствую, я это знаю, понимаю. Шульгин прав: я должен кровью смыть свой позор…
– Какой позор?! – возмутился майор. – Даже преступники смывают кровью вину свою только один раз. Тебя же уже трижды дырявили.
– Дважды…
– А это? – он указал на бинт на его голове.
– Это случайно.
– На войне все случайно. Так вот, я мог бы тебе просто приказать прекратить эти разговоры… Но я понимаю, что это не блажь, что это твоя боль, и поэтому говорю тебе по-дружески, по-товарищески: ты не прав. – Майор постучал пальцем ему в грудь, повторил: – Не прав. Не прав, что так болезненно воспринимаешь все это, не прав, когда думаешь о себе хуже, чем ты есть на самом деле. Ведь ты сам себя знаешь лучше, чем кто-либо другой? Так почему же ты веришь кому-то, а не себе? Комплекс неполноценности – штука нехорошая, избавляйся от него.
– Каждого встречного не надо слушать, – подал решительный совет капитан Бутенко. Капитан стоял в дверях и слушал весь этот разговор. – Да-да, – поймал он взгляд Гурина.
– Он-то не каждый встречный, – возразил ему майор. – Война… Кончится война – все встанет на свои места. Иди отдыхай, – майор легонько толкнул Гурина в плечо.
Капитан вышел из проема двери, пропустил его в свою комнату. Закрыв за собой дверь, Бутенко пихнул Гурина на койку, навис над ним, широкое лицо его было растянуто в какую-то растерянную улыбку.
– Васька, черт!.. Ту чего психуешь? Брось ты!.. Тебя курсанты любят, начальство души в тебе не чает – что комбат, что наш Кирьяныч… Ты знаешь, как Кирьяныч за тебя? Случись что – он за тебя грудь свою подставит! Это я тебе точно говорю, знаю. Ты Кирьяныча не обижай. Ну? А девчата? Вон Шурочка! Сколько офицеров во всем полку, а она тебя выбрала. Эх, едрит твою за ногу! И смелости тебе не занимать, и стихи умеешь сочинять. Если бы мне хоть один стишок сочинить! – он засмеялся. – Брось! Давай выпьем? У меня там НЗ где-то есть. – Бутенко метнулся к своей койке, вытащил вещмешок, извлек из него немецкую фляжку, качнул над ухом и, услышав всплеск жидкости, обрадовался: – Есть! – Разлил в кружки, поднес одну Гурину. Тот сел на койку, взял кружку. – Ну? За все хорошее! – прошептал капитан, оглядываясь на дверь, будто боялся, что майор услышит.
Выпили. Горячая влага медленно разлилась по телу, на душе у Гурина стало легко и благостно. Он вскочил с койки, подошел к Бутенко, обнял его, уткнув лицо в жесткий погон. Капитан похлопывал его ладонью по спине, приговаривал:
– Все хорошо… Все хорошо…
В батальон привезли фаустпатроны, и расписание занятий было немного изменено. Вместо отработки тем «Уличный бой в городе», «Штурм крупного населенного пункта» и других принялись за овладение трофейным оружием.
Первым в старый заброшенный песчаный карьер направился взвод Долматова. Гурин присоединился к нему – не терпелось увидеть в действии оружие, о котором так много шумели немцы.
Вслед за ними туда же поплелась пароконная телега с двумя длинными плоскими ящиками – в них лежали фаустпатроны.
У карьера ящики осторожно сгрузили на землю. Долматов, сам отстегнул замки, откинул крышку, и все увидели в белом, некрашеном нутре ящика в специальных гнездах пять серо-зеленых фаустов. Они лежали рядышком, похожие на головастиков с длинными и тонкими хвостами. На вид – ничего особенного: железная труба чуть потолще водопроводной с минообразным набалдашником на одном конце и полым отверстием на другом. На середине трубы укреплена подпружиненная чека – боек. Вот и весь фаустпатрон.
Долматов не сразу взял фауст, сначала постоял над ящиком молча, дал посмотреть курсантам. Потом осторожно, двумя руками – одной у самой головки, другой поближе к хвосту – схватил крепко, выдернул из гнезда, подержал на весу, как бы пробуя на тяжесть, и положил на землю. Стал объяснять:
– Оружие это реактивного действия, по устройству очень простое. Предназначено для борьбы с танками, бронемашинами. Да вообще – против любой цели, которую сможет достать. Стрелять можно с плеча, а можно из-под мышки, как кому удобнее. Чтобы произвести выстрел, нужно поднять чеку и потом опустить ее. Сзади трубы находиться опасно, поэтому смотрите, чтобы во время стрельбы не ранить своих.
Долматов поднял фаустпатрон, положил себе на правое плечо, подошел к краю обрыва, оглянулся.
– Перейдите все на эту сторону, вам виднее будет. – Перегнав весь взвод по правую руку, продолжал: – Смотрите. Поднимаю чеку – ставлю патрон на боевой взвод и прицеливаюсь. Стреляю, – Долматов опустил чеку, сзади из трубы вырвался клок огня и дыма, а мина медленно полетела вперед. Немного не долетев до ящика, который заранее был положен вместо мишени, шлепнулась, подняв взрывной волной фонтан земли и пыли. На разные голоса запели осколки. – В уличном бою стрелять придется на более близкое расстояние, поэтому надо бить из укрытия, чтобы не пораниться своими же осколками. Понятно?
А чего же непонятного! Все так просто! Каждому не терпелось самому попробовать этот пресловутый фаустпатрон. Но на всех фаустов, конечно, не хватало, их осталось всего девять штук. Поэтому лейтенант выделил из каждого отделения по два бронебойщика – истребителя танков – и только им разрешил выстрелить, а остальным приказал наблюдать и запоминать.
Гурина тоже, как мальчишку, подмывало выстрелить из фаустпатрона, но их было так мало, что он не решался просить об этом лейтенанта. Когда все бронебойщики отстрелялись, на земле остался еще один патрон.
– А этот кому? – спросил Гурин у Долматова, тайно надеясь на его догадливость.
Тот улыбнулся, сказал:
– Да уж ладно, возьми, попробуй, комсорг. Гурин с радостью подхватил фаустпатрон, подошел к краю обрыва, расставил ноги пошире, положил трубу на плечо и стал целиться миной в основательно разбитый уже ящик. Поднял чеку, снова прицелился и выстрелил. Как в замедленном кино, мина медленно поплыла вперед. Чудно: он видит свою мину! Вот она постепенно стала опускаться и ткнулась в развороченную землю. Раздался взрыв. Гурин, довольный, оглянулся на Долматова, ожидая оценки.
– Молодец, – сказал лейтенант. – Попал в карьер, хоть и целился долго.
Курсанты засмеялись.
– Нормально, нормально, – поспешил он успокоить Гурина. – Если бы там был танк или дом побольше, обязательно попал бы!
Шутка Долматова Гурина не смутила: он и сам видел, что получилось не хуже, чем у других.
– Вопросы есть? – обратился лейтенант к курсантам.
– Есть. На какое расстояние бьет фаустпатрон?
– Какую броню пробивает?
Долматов достал из планшетки листовку-памятку бойцу о фаустпатроне, передал помкомвзвода Маннохе:
– Возьми вот, прочитай вслух.
Курсанты рассматривали и передавали друг другу холостые и теперь неопасные трубы от фаустов.
Пока Манноха читал памятку, прибежал связной и сообщил, что в два часа дня всех офицеров собирают на совещание в штаб батальона, и комсорга – в том числе.
Долматов посмотрел на часы, сказал:
– Да уже и на обед скоро. Манноха, строй взвод и веди в расположение. Полчаса до обеда – личное время. Пойдем, – махнул он Гурину, и они зашагали прямо через поле еле заметной тропинкой в лагерь. Долматов длинноногий, шаги у него огромные, Гурин еле поспевал за ним – все время бежал трусцой. Пока дошли до лагеря, он совсем запарился. У крайних землянок разошлись: Долматов пошел к своему домику, Гурин – к своему.
В штаб они с майором Кирьяновым пришли раньше других. Еще издали Гурин услышал истошный визгливый крик, проникавший из штаба сквозь тонкие деревянные стены и незаделанные по-дачному окна. Майор взглянул на Гурина встревоженно и заторопился – заковылял раненой ногой, заработал поживее палочкой, устремился вперед. Гурин поспешил за ним. В штабе они застали такую картину: писарь Кузьмин и начштаба капитан Землин сидели притихшие за своими столами. Тут же, возле Землина, стояла доктор Люся. Ближе к выходу с опущенной головой, багровый как вареный рак, – старшина Грачев. На средине комнаты мерял шаги разъяренный комбат. Оказывается, это он кричал. Гурин никогда не видел его в таком состоянии и не слышал, чтобы он когда-нибудь так кричал. Случилось, должно быть, что-то из ряда вон выходящее. Гурин прошел к столу Кузьмина и затих, а майор Кирьянов удивленно закрутил головой – то на комбата Дорошенко, то на старшину Грачева, то снова на комбата. Наконец спросил:
– Что случилось?
Комбат кивнул на Грачева, сказал брезгливо:
– Триппер поймал!
Замполит вдруг затих, затаился, как после удара. Потом медленно повернул голову в сторону Грачева, лицо его стало постепенно искривляться: сначала на нем появилось подобие улыбки, потом – что-то вроде плаксивой гримасы, и наконец оно исказилось вовсе неузнаваемо. Он подошел почти вплотную к старшине, поднял правую руку. Гурин думал, что майор будет бить его, а он согнул указательный палец крючком вниз, поднес его под самый нос Грачеву, спросил:
– Закапал краник? – и, не дожидаясь ответа, укорил обреченно: – Эх ты, сук-кин сын!.. – Отошел, сказал комбату: – Под суд надо отдать!.. И судить как самострела.
– Каков мерзавец! – возмущался комбат. – Только этого нам в учебном батальоне и не хватало! Сейчас же, не медля ни минуты, отправить его в штрафную. – Он ткнул пальцем в сторону начальника штаба: – Заготовьте документы. Кузьмин, вызовите срочно старшего сержанта Манноху.
– Слушаюсь, товарищ гвардии майор! – вскочил Кузьмин, поправляя пилотку. – Связной еще не вернулся, я сам сбегаю.
Прибежал запыхавшийся Манноха, вытянулся в дверях:
– Товарищ майор, по вашему приказанию…
– Вы назначаетесь старшиной батальона, – перебил его комбат. – Сейчас же примите от Грачева все хозяйство. Да будьте внимательны, чтобы этот тип не обжулил вас. Выполняйте!
– Слушаюсь, – Манноха крутанулся на каблуках, выскочил на улицу. Вслед за ним, не спрашивая разрешения, вышел и Грачев.
Комбат долго смотрел на дверь, куда скрылся старшина, молчал. Начали сходиться офицеры и, видя необычную обстановку, козырнув, жались у входа.
– Откуда он появился у нас? – комбат обвел глазами офицеров. Те переглядывались, опускали глаза – не знали, в чем дело. Шульгин не выдержал взгляда комбата, криво ухмыльнулся. Комбат указал на Гурина: – А тебе, Гурин, это тоже урок!
Гурин встрепенулся и обмер, внутри все похолодело, щеки вспыхнули: «При мне это было… Рассказал Грачев…»
– Надо объяснить комсомольцам… Да и всем поголовно… – Комбат снова обернулся к офицерам: – Строго-настрого запретить связи с немками! Фашисты нарочно выпустили всех заразных из больниц и засылают их в наши тылы. На всякую пакость идут.
Совещание началось минут на двадцать позднее назначенного времени.
– Сегодня с наступлением темноты мы снимаемся и уходим на передовую в город Кюстрин, – сказал комбат сурово. – В связи с этим приказываю…
Кюстрин
 борону в Кюстрине батальон занял в самом городе на правом берегу Одера, как раз напротив старой крепости, в которой все еще сидели немцы, несмотря на то что наша армия вышла на левый берег и постепенно расширяла плацдарм.
борону в Кюстрине батальон занял в самом городе на правом берегу Одера, как раз напротив старой крепости, в которой все еще сидели немцы, несмотря на то что наша армия вышла на левый берег и постепенно расширяла плацдарм.
До этого здесь уже держала оборону какая-то часть, и поэтому курсантам достались готовые траншеи и ходы сообщения. По всему видно, тем, кто пришел сюда первыми, было несладко: в каменной мостовой, в асфальте пробить столько нор, столько ходов – дело нешуточное. Видать, попотели солдатики, поработали на славу. Зато теперь курсанты довольны, спасибо говорят пехоте.
Быть в обороне в городе Гурину еще не приходилось, и поэтому ему все здесь было в диковинку. Особенно то, что в трех шагах от передовой можно безнаказанно «гулять» во весь рост по улицам города. Пройдет ходом сообщения, за углом дома вылезет на поверхность и идет себе по своим делам. Если, конечно, артналета нет. Идет пустынными улицами, мимо развалин, мимо сгоревших домов с черными глазницами окон, вдоль уцелевших кварталов. Особенно ему нравилось ходить одной улочкой, чудом сохранившейся среди всеобщего разгрома. Окна и вывески целехоньки, даже тротуары чистенькие, будто по ним только сейчас дворник метлой прошелся. Теплое апрельское солнце играет в стеклах витрин – такое впечатление, будто войны к в помине нет, а он приехал в город слишком рано, когда и магазины еще закрыты, и люди еще спят…
Эта улочка была на пути, если идти из КП батальона в расположение первой роты, а в третью надо было пробираться кривыми лабиринтами развалин, через кучи кирпича, сквозь огромный сгоревший дом с опасно повисшими потолочными перекрытиями. Да и в остальные роты пройти было ненамного легче, чем в третью, но первой «повезло» – ей достался кусочек невредимого города.
Все эти пути-дороги в каждую роту за несколько дней обороны Гурин изучил, как свою школьную стежку, – ходил по ним и днем, и ночью, и в спокойные часы, и во время артналета. Носил в роты газеты, проводил собрания, беседы. Иногда ходил с капитаном Бутенко, реже – с майором Кирьяновым, а чаще всего – один.
Дневные хождения эти были ничего, терпимы, а ночью было страшно. Особенно поначалу, когда еще к месту не привык. Темень, кругом черные нагромождения развалин, в ночи они кажутся совсем другими, чем днем. Улицы в темноте будто сужаются, неровно изгрызенные снарядами и бомбами стены увеличиваются, кажутся зловещими на фоне затянутого тучами неба. То и дело возникают какие-то тени, похожие на немцев. Увидит вдруг такую тень, затаится, неслышно поднимет автомат и ждет. И «он» ждет. И только когда то ли луна, выглянув из-за тучи, осветит, то ли очередная ракета высветит все вокруг, – поймет, что напугавший его предмет всего-навсего высокий день от срезанного снарядом дерева. Гурин выругается с досады, вытрет пот со лба, успокоит дыхание и бежит дальше. И вдруг покажется ему, что второпях сбился с дороги, не на ту улицу вышел – заблудился! И начинает метаться, пока не возьмет себя в руки, не остановится и не сориентируется: передовая – слева, значит, север – спереди, он шел так, потом так, потом повернул направо… Все правильно! Но откуда эта незнакомая улица? Совсем незнакомая. Уговаривает себя: «Главное – без паники, спокойно. Пройду вперед до первого перекрестка и поверну». И, еще не доходя до перекрестка, неожиданно узнает знакомое здание, сквозь которое ему нужно пройти. Самый приметный ориентир! И так ему сразу становится легко, и все страхи остаются позади, и он идет уже совершенно свободно, будто по родному поселку. Вот и НП роты, сейчас часовой окликнет. И точно – такой родной, такой желанный, такой спасительный окрик:
– Стой! Кто идет?
– Свои!
– А, комсорг! Какие новости? Скоро на Берлин двинем?
– Скоро!
– Точно знаешь?
– Пока не точно.
– А союзники как там? Говорят, они хотят первыми Берлин захватить. Не имеют же права!
– Сменишься – побеседуем.
– Ладно.
Беседы, беседы!.. В них теперь нужда была, как никогда раньше. Близился конец войны – все это чувствовали, знали, понимали. Еще один рывок, только один, последний! Но когда он начнется, этот рывок, скоро ли? В то время, пожалуй, трудно было найти солдата, который с нетерпением не ждал бы нового наступления: сколько их было, наступлений, и наконец – последнее! А пока держали оборону, перемалывали кучи разных догадок, слухов, известий, непонятно как проникавших в окопы. Здесь были новости с других фронтов, из других стран, даже из «логова фашистского зверя» – с подробностями, с деталями, и все это горячо обсуждалось, и все это требовало разъяснения и правильного толкования…
В день наступления Гурин, как обычно, направился в свою первую роту. Когда он вошел в подвал, где размещался НП, капитан Коваленков как раз закончил ставить боевую задачу перед командирами взводов, и те, пряча карты в планшетки, торопливо уходили. Поздоровавшись, Гурин тут же повернулся к выходу, чтобы с взводным пройти на огневую, но капитан остановил его:
– Подожди, вместе пойдем. У нас еще много времени. – Он отдал последние распоряжения старшему сержанту Зайцеву, который исполнял обязанности старшины роты, вытащил из вещмешка пилотку, хлопнул ею по ладони – вытряхнул и, сняв фуражку, натянул двумя руками пилотку на голову. Пояснил: – Легче и удобнее.
– Да и снайпера больше охотятся за фуражками, – подал голос Зайцев.
– Это тоже верно, – согласился Коваленков. – А ты все в фуражечке форсишь? – взглянул на Гурина капитан. – Перед девчатами фасонишь?
Гурин смутился, оглянулся на сидевшего здесь нового санинструктора Катю, которая, сощурив глазки, понимающе улыбнулась.
– У меня и пилотки нет, потерял, – стал он оправдываться. – Эту фуражку подарил мне лейтенант Исаев.
– Рассказывай! А то Манноха тебе пилотку не нашел, если бы ты захотел? – не унимался Коваленков. – Зайцев, отдай ему свою.
– Пож-жалуйста! – охотно согласился тот.
– Только на время! – предупредил Гурин Зайцева, примеряя его пилотку. – По-моему, хороша? А?
– Даже лучше, чем в фуражке, – одобрила Катя. – Молоденький, красивенький!.. А в фуражке суровый какой-то.
– Зато вид начальственный, – сказал капитан.
– Не люблю начальственный вид, – призналась Катя.
– Кому что. А некоторые, наверное, любят? – Коваленков продолжал бросать камешки в огород Гурина.
– Не знаю… Не было об этом разговора, – сказал Гурин, не очень поддерживая игривое настроение капитана: ему было неловко перед Катей. Эта девочка появилась у них в батальоне совсем недавно. Худенькая, чернявенькая южанка с большими блестящими глазами, шустренькая, она была такой юной, что, казалось, всякие «вольные» шуточки при ней были неуместны, как перед ребенком. И это несмотря на то, что она носила уже погоны старшины, изрядно хлебнула передовой и к ним попала после ранения.
– Ладно, – заключил Коваленков и сразу как-то сник, посуровел, словно обиделся. Снял с крючка, вбитого в стену, автомат, повесил на плечо. – Пошли, что ли?
– Пошли.
– Вдовин, за мной, – приказал он связному – молоденькому белобрысенькому солдату.
– И я с вами, – заторопилась Катя.
На улице было тепло, солнечно. Весна, совсем весна! Коваленков с шумом втянул в себя свежий воздух, сделал два-три шага пьяно, оглянулся:
– Погодка!.. В такую погоду…
– …любить, – сказала Катя. Она сняла с себя пилотку, тряхнула головой – рассыпала по плечам блестящие черные волосы. Сунула пилотку под ремень и, закрыв глаза, подняла лицо к солнцу. Детские губки ее, расслабленные в полуулыбке, слегка подрагивали, и Гурин чувствовал, как ей хорошо под этим теплым ласковым солнышком.
– Слыхал? А ты говоришь, что она еще ребенок. Молодец, Катюша! Так ему! А то совсем зазнался: в своем батальоне ему девушки, видите ли, нехороши, пошел в чужой.
– Я думаю, там просто встречи по интересам, обмен опытом комсомольской работы, – проговорила Катя быстро, не меняя позы. Она стояла, словно язычник, с лицом, обращенным к солнцу, и, казалось, пила его ласковую теплоту.
Коваленков захохотал, довольный ответом Кати, поддернул автомат, пошел не спеша вдоль улицы. Остальные тоже не спеша, вразвалочку, один за другим поплелись гуськом вслед за ним. Будто и не на передовую шли, а так, опьяненные весной, брели куда глаза глядят.
– Я вас проведу новой дорогой, – оглянулся на своих спутников капитан. – За мной!
Он прошел уже натоптанной тропкой сквозь разрушенное здание и вывел их на ту самую уцелевшую улочку, которую Гурин уже давно знал. Коваленков шел серединой улицы, Гурин – тоже, а Катя и Вдовин – тротуаром. У особнячка, обнесенного узорчатым из железных прутьев забором, Катя вдруг остановилась и позвала капитана:
– Товарищ капитан, что это такое?
Все трое мужчин подошли к Кате и увидели на асфальте фаустпатрон – труба перегородила тротуар поперек, а мина, отделенная от трубы, лежала в метре от нее у самого забора.
– Так это же фаустпатрон! – сказал Коваленков. – До сих пор не видела, что ли?
– Нет.
Капитан присел на корточки, взял себе на колени трубу и принялся объяснять Кате, как пользоваться этим оружием. Остальные тоже опустились на корточки и слушали комроты.
– Вот и весь принцип его действия! – заключил он бодро свой рассказ. – Поднимаешь эту чеку и опускаешь… – Коваленков поднял чеку и легонько толкнул ее в обратную сторону. Послышался щелчок, и в тот же миг раздался оглушительный взрыв. Из обоих концов трубы вырвались клубы пламени, всех заволокло едким пороховым дымом.
Когда дым немного рассеялся, они увидели, как Катя в сторонке гасит дымящуюся полу шинели. Коваленков подскочил к ней, стал помогать.
– Пропала такая шинель!.. – первой подала голос Катя. Шинель на ней была действительно хороша: из английского сукна, сшита по фигурке. – Куда теперь я в таком виде?.. – Катя смотрела печально на огромную выгоревшую дыру в поле.
– Она о шинели печется! – бледный, будто стена меловая, Коваленков откинул ей обгоревшую полу. – Нога как?
– Вроде ничего…
– Как же ничего! Юбка-то прогорела… Ну-ка?
Катя повиновалась, подняла юбку. Штанишки ее и длинный чулок тоже оказались прожженными. Капитан рванул остатки туалета на ее ноге, оголил бедро, и они увидели красное, величиной с ладонь, обожженное пятно.
– Где сумка? Вдовин, сумку, быстро!
Сумку нашли далеко в стороне, она дымилась горевшими в ней бинтами и ватой. Сбивая с нее ошметки тлевшей гари, Вдовин принес сумку, капитан вывалил содержимое из нее прямо на асфальт, нашел не тронутый огнем пакет, разорвал его, принялся забинтовывать ногу.
– Пустите, я сама… – попыталась отстранить его Катя, но тот сердито крикнул на нее:
– Руки! Уберите руки! – Забинтовав, спросил: – Больно?
– Жжет немного…
– Картошки свежей натереть и приложить… Или маслом постным… – сказал Гурин, вспомнив бабушкины врачевания от ожогов.
Коваленков посмотрел на него молча, потом приказал связному:
– Вдовин, отведи санинструктора на КП. Пусть старшина найдет там, что надо…
– Я сама дойду.
– Вдовин, выполняйте! Потом вернетесь ко мне, я буду в первом взводе. Идите.
Вдовин и Катя пошли. Катя чуть прихрамывала, но от помощи Вдовина отказалась, и тот шел рядом, виновато оглядываясь на капитана.
Коваленков посмотрел на трубу от фаустпатрона, Выругался:
– Черт! Как же я не подумал, что в ней может быть пороховой заряд? Даже мысли такой не пришло. Мина в стороне лежит, – значит, думаю, труба пустая… А почему она должна быть пустой? Вот дурень так дурень! – ругал он себя.
– Хорошо, что струя прошла по касательной, – сказал Гурин. – Если бы прямо.
– Что ты! Прожег бы девку насквозь. Погубил бы. Действительно, все обошлось легко: ни впереди никого не было, ни сзади… В сумку струя ударила. Видал, сожгла все?.. – Он покрутил головой. – А ведь чувствовал: что-нибудь должно случиться. С самого детства так. Если разыграюсь, разозоруюсь, мать говорит: плакать будешь. И точно!
– А меня бабушка утешала в таких случаях: «Скажи спасибо, – что этим кончилось. Могло быть хуже. И пусть на этом все беды твои и закончатся».
Коваленков посмотрел на него задумчиво, согласился:
– Вообще – да…
На передний край добрались – Коваленков уже пришел в себя и как ни в чем не бывало спросил у лейтенанта Бескоровайного – командира первого взвода, который был прислан в роту вместо Максимова:
– Как ведут себя немцы?
У Бескоровайного светлые брови низко надвинуты на глаза, правая щека чуть толще левой, отчего и рот немного сдвинут на левую сторону. Но лицо его не выглядит от этого уродливо, оно лишь кажется суровым, строгим, что совсем не лишнее командиру на войне.
– Хорошо ведут себя немцы, товарищ капитан: стреляют редко и неточно, – Бескоровайный улыбнулся, и от его суровости ничего не осталось.
– Плоты наши не разбили?
– Нет. Отсюда, правда, не видно: они внизу, под нами. Но, думаю, целы. Мы их ночью хорошо замаскировали.
– Молодцы!
Гурин прошел по траншее и на перекрестке ходов сообщения наткнулся на группу курсантов. Они, кто как развалясь – в самых непринужденных позах, сидели на дне траншеи, разомлев от весеннего солнышка.
– Загораем, славяне?
– А что делать, товарищ комсорг? – не меняя позы, ответил за всех Миша Куликов, по прозвищу Кулик, – всегда чем-нибудь недовольный курсант.
– Почему так уныло? Что за настроение? – напустив на себя шутейную строгость, Гурин присел к ребятам.
– Было настроение, да все сплыло, – продолжал Кулик в своем тоне.
– Что-то случилось? – всерьез спросил Гурин.
– Говорили, наступать будем, а сами до сих пор молчат.
– А тебе не терпится? Поживи лишний часок, полюбуйся солнышком, – возразил мрачно из дальнего угла самый пожилой в батальоне курсант, Кузовкин, – ему было уже, наверное, лет тридцать, не меньше. Он женат, у него дома растет пятилетний сынишка.
– «Поживи»! Разве это жизнь, когда ты все время на взводе? Не люблю тянучку.
– Нервничаешь? – заметил Гурин. – Перед боем не надо. Может быть, нарочно дается время, чтобы люди собрались внутренне, успокоились, подготовились…
– Нет, я так не могу. Сказали – в наступление, значит – вперед! Сразу! Знаете: ждать да догонять хуже всего. Эта поговорка про меня сложена.
– Не всегда. Бывают случаи, когда лучше подождать, чтобы потом легче было догонять, – кивнул Гурин в сторону крепости.
– Бывает! – согласился Кулик. – А только вот по флангам уже давненько гремит, значит, там люди не ждут?
– Видишь ли, нам из этого окопа очень мало что видно, – сказал ему комсорг. – И часто нам многое кажется не так: то в наступление послали зря, успеха не добились, то, наоборот, можно было взять село или высотку, а нас не пустили. А может быть, там никакого успеха и не надо было добиваться, а нужно было только пошевелить немца, выявить его?..
– Это верно, – загудели курсанты.
Подошел комсорг роты – сержант Виктор Бодров. Виктор – парень красавец: высокий, стройный, обмундирование сидит на нем ладно. Пилоточка набекрень. Красивое лицо, приятная улыбка, белые ровные зубы.
В левой руке у него свернутые в толстую трубу газеты. Увидел Гурина, поздоровался.
– А вы, – напустился он на курсантов, – развалились, как поросята. Почитали бы что-нибудь. И групкомсорг загорает! Где памятка о ведении боя в крепости?
– Да прочитали уже, изучили, – вяло отозвался групкомсорг – плотненький, как биток, пухлощекий и по-детски губастенький Толя Краюхин.
– «Боевой листок» выпустил бы.
– Ну что ты напустился на парня? – заступился за групкомсорга Куликов. – Это ж ты перед комсоргом батальона показываешь себя…
– Ладно, ладно, Кулик, ты все знаешь! – осадил его Бодров. – Возьмите вот ротную стенгазету почитайте, – он развернул сверток, вытащил рукописную газету, бросил на круг.
– Ну-ка, ну-ка, – оживился Куликов. – Опять, наверное, меня протянули?
– Привык?
– «Привык». Приучили.
– На этот раз обошлись, без тебя. Возьмем крепость, тогда напишем.
– А что напишешь?
– Что заслужишь! – Бодров вытащил из трубки чистый бланк «боевого листка», передал Толе Краюхину: – Выпусти обязательно. Да что с тобой? Заболел, что ли? Какой-то ты, точно рыба снулая?
– Не, – сказал Толя. – Не заболел…
– Заскучал? Это плохо, брат. Перед атакой скучать – хуже всего.
– Все всё знают! – снова сердито отозвался Кузовкин. – Скучать нельзя, нервничать нельзя… А что же можно?
– Можно и нужно автомат почистить, проверить гранаты, запасной диск. Ремни застегнуть так, чтобы они не мешали в бою и чтобы штаны не спали, – быстро ответил Бодров.
– Эх, Бодров, Бодров, – вздохнул в ответ Кузовкин. – Недаром тебе и фамилию такую присвоили: бодрый ты человек. А вот думать о чем-нибудь перед боем можно?
– Можно и нужно.
– О чем?
– О том, что может тебя подвести в бою, и, пока не поздно, устрани это дело, – нашелся Бодров.
– У тебя одна песня…
– А у тебя? Интересно, о чем ты думаешь? Только откровенно, Кузовкин?
– Я думаю, что война кончается и очень обидно погибать.
Виктор посмотрел на Гурина, кивнул в сторону Кузовкина осуждающе: «Видал, мол, типа?»
– Нормальные думки, – сказал Гурин, пытаясь смягчить накалявшуюся обстановку. – Только для этого нужно как раз то, о чем говорил Бодров: иметь безотказный автомат, быть собранным, не дать врагу опередить тебя.
– А он, наверное, про себя богу молится, – усмехнулся Бодров.
– Да и помолюсь… Может, и помогнет, кто ж это знает…
– Видал?.. – покрутил головой Виктор. – Толя, Краюхин, не уподобляйся женатикам-меланхоликам, выпусти «боевой листок», только по-настоящему боевой, как ты это умеешь делать! – И обернулся к Гурину: – Побегу дальше, понесу стенгазету: мы ее выпустили в четырех экземплярах – на каждый взвод.
– Молодцы, – похвалил Гурин Бодрова и подошел к наблюдателю, спросил: – Ну, что там видно?
– Затихли. Наверное, обедают.
– А может, послеобеденный «мертвый» час?
Курсант улыбнулся. Гурин попросил у него бинокль, навел на ту сторону. Противоположный берег вовсе не похож на городской – никакой набережной там не было. Вода плескалась в узкий песчаный пляж. От него круто вверх поднимался земляной вал, весь изрытый воронками и окопами.
Кое-где на нем зеленели уцелевшие кусты какой-то растительности и редкие деревца. Дальше за валом виднелось приземистое строение из красного кирпича. Может быть, это уже и была сама крепость, а может, какие-то поздние пристройки.
Справа, метрах в двадцати, с нашего на тот берег перекинут большой мост. В самом центре мост этот взорван, и два его пролета провисли почти до самой воды. Порванные, как струны от натяжения, рельсы торчали в разные стороны, завернув полудугами свои концы. Мост разведчиками хорошо изучен – по нему можно перебраться на ту сторону. Курсантам, которые сидят сзади Гурина в траншее, как раз предназначено штурмовать тот берег через мост…
Гурин снова направил бинокль на тот берег, хотел получше рассмотреть крепость, но в этот момент пулеметная очередь звякнула пулями о камни на бруствере, обдала его мелкими каменными осколками.
– Ого! Засек, гад, – сказал наблюдатель. – Надо перейти на другое место.
– Видать, пообедали, – пошутил Гурин.
– Пообедали, – улыбнулся курсант. – А «мертвый» час будет позднее?
– Будет! – поддержал его Гурин.
Вскоре в траншее появился начальник штаба капитан Землин. Быстрый, улыбающийся, он то и дело подкручивал свои чапаевские усы, подмигивал весело курсантам.
– Ну как, сынки? Не оробели? Вы что же это кучей собрались? А вдруг снаряд угодит? Всех сразу и накроет. Ну-ка, ну-ка, сынки, по местам. Где командир роты? Командир взвода?
– Там, влево по траншее.
Побежал Землин пригнувшись, только полы плаща зашуршали. Не прошло и десяти минут, как он прошуршал в обратную сторону, а вслед за ним появились Коваленков и Бескоровайный.
– Задачу свою все усвоили? – спросил капитан. – Знаете, кому куда бежать – кто на мост, кто на плоты?
– Знаем!..
– Как только начнется артподготовка, всем сразу вперед. Вслед за разрывами мы должны занять первые траншеи немцев, а потом – вторые и ворваться в крепость.
– Всё знают, – сказал Бескоровайный. – И план крепости изучили. Знают, всё знают, – он оглянулся за поддержкой к курсантам, те нестройно загудели:








