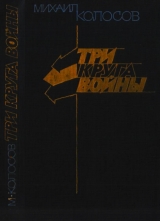
Текст книги "Три круга войны"
Автор книги: Михаил Колосов
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 30 страниц)
За лесом было затишно, но в кронах высоких деревьев стоял такой шум, будто где-то совсем рядом бушевал морской прибой. Временами ветер налетал с такой силой, что казалось, кто-то там, наверху, рвет и полощет большое полотно.
Максимов проверил наблюдателей, еще раз проинструктировал их, наказал быть внимательными и не выдавать себя, обернулся к Гурину:
– Пойдем в землянку, тут нам делать нечего.
В землянке курсанты, зажав ладонями рты, прыскали от смеха: Егоров шепотом травил анекдоты. При появлении лейтенанта все умолкли. Максимов проворчал:
– Опять ты, Егоров, свои пошлости рассказываешь?
– Да вы что, товарищ лейтенант! Какие пошлости! Это народный юмор, фольклор по-научному. Я, что ли, придумал? Народ!
– А в народе мало пошляков?
– Нет, товарищ лейтенант, тут я с вами не согласен. Пошляков, конечно, много, но только анекдоты сочиняют, думается мне, умные люди: уж больно они складные. Вот послушайте. Стояла в чулане бочка с бражкой, хозяин самогон собирался варить. И в эту брагу упала мышь, а выбраться не может. Увидела кота, взмолилась: «Котик, серенький, выручи меня!» А кот и говорит: «Я могу выручить, только за это я тебя съем». – «Хорошо!» – согласилась мышка. Кот вытащил мышь и отпустил коготки. «Куда, мол, она денется? Моя! Она же обещала». А та – юрк в норку и была такова. «Эй, – говорит кот, – это нечестно. Ты же обещала!..» А мышка и отвечает: «Мало ли что женщина в пьяном виде может наобещать!» Ну? Что тут плохого? А поучительный: если тебе пообещала, так бери сразу, не раздумывай…
– Ну вот, – сказал лейтенант. – Если анекдот приличный, то ты мораль придумаешь пошлую. У тебя без этого не обходится.
– Так это же жизнь, товарищ лейтенант! – И Гурин представил себе в темноте Егорова – красную круглую его физиономию со смеющимися хитрыми глазами. – К чему в жизни все сводится? К этому! Только называют по-разному, обходным манером подступают.
– Глупости, – оборвал его Максимов. – Глупости!
– Ну ладно, – согласился Егоров, но по голосу было слышно, что он не сдался, а просто уступил. Помолчал, признался: – Я здорово юмор люблю! Мне бывает удивительно: как оно вот – вроде все обыкновенно и вдруг – раз, будто искра сверкнула – смешно. Как оно вот так поворачивается? Старший сержант нам про Швейка читал. А это ж не глупый человек сочинял, писатель! Помните, как Швейк потрогал бабу за голую попу, а она у нее гусиной кожей от холода покрылась. И Швейк говорит: «Как терка, чуть руку не оцарапал». Ой, не могу! – захохотал Егоров. – Это же надо! Представляю себе – как терка.
Курсанты тоже хохотали в кулак, но лейтенант тем не менее прикрикнул:
– Тихо, тихо! Разошлись…
– А хотите про Гитлера? – не унимался Егоров. – Вот отпустил он своих Геббельса с Герингом и пошел к бабе…
– Чепуха, – оборвал его кто-то из курсантов. – С чем ему к бабе идти? Он же мерин!
– Кто мерин?
– Гитлер. Он потому и не женат до сих пор. И злой такой поэтому.
– Это точно, – поддержал его другой. – Если бы он был нормальным, так бы не злобствовал. А то своих нет – ни жены, ни детей, вот он и других презирает.
– При чем тут это? Чудаки, – возмутился Егоров. – А Геббельс вон, кажется, штук шесть геббельсят настрогал. Ну? Чем он лучше Гитлера? Не дали рассказать, а там как раз смешно, как фюрер обанкротился на этот счет…
– Ну, говори, говори, – разрешил кто-то.
– Не… Всё, сбили охоту. Старший сержант, почитай лучше про Швейка. Я тебе фонариком посвечу, – попросил Егоров.
– Интересно ли одно и то же слушать? Я вам другую книжку почитаю, – предложил Гурин. – Чехова.
– Чехова? Это который «Каштанка», «Ванька Жуков»? Хороший писатель, только грустный.
– У него есть и веселые рассказы. И даже очень много. Вот я вам сейчас прочитаю. Называется «Руководство для желающих жениться».
…Так они коротали эту ночь – с книжкой, с анекдотами, с рассказами бывалых солдат, рядом с постоянной тревогой. Но тревога, по всему видно, была напрасной: ночь уже на исходе, а немцев все нет и нет, и теперь они уже ждали не немцев, а скорее – рассвета, чтобы уйти в расположение, позавтракать и хоть немного поспать.
Курсанты, уставшие за ночь, притихли, подремывали, а кое-кто даже откровенно похрапывал. Максимов перестал будить соней, но сам бодрствовал, сменял регулярно наблюдателей и строго-настрого предупреждал глядеть в оба.
– Может, они как раз перед рассветом и пойдут, кто их знает, – напутствовал он курсантов, отправляя на пост. – Они ведь тоже не дураки.
И точно. Не прошло и десяти минут, как ушла на пост последняя пара наблюдателей, один из них тут же вернулся и, приоткрыв в самом низу брезентовый полог, закрывавший вход в землянку, взволнованным шепотом сообщил:
– Товарищ лейтенант, немцы!.. Много!..
– В ружье! – резко, сквозь зубы скомандовал Максимов. – И – тихо! Тихо – предупреждаю! За мной!
Пригнувшись, гуськом курсанты побежали вслед за Максимовым. Через пять минут они были уже на наблюдательном пункте, лейтенант тронул за плечо наблюдателя, спросил:
– Сколько?
– Двадцать семь насчитал… А может, больше… Вон между деревьями, – указал курсант.
– Почему «может»?
– Ну, может, они по два вместе проходили… Отсюда ж не видно. А некоторые назад почему-то возвращались. Вон, вон, смотрите, еще один прошел…
Гурин присмотрелся и без бинокля увидел, как от дерева отделилась еле заметная тень и скрылась за другим деревом. Потом эта тень на минуту снова появилась и быстро исчезла, будто растаяла, на фоне черного подлеска. А правее этого подлеска в снежной мгле маячили, словно призраки, какие-то фигуры. Если бы курсанты не знали здесь каждый кустик, их можно было бы принять за группу молодых сосен. Но это были немцы.
У Гурина холодок пробежал по спине, ладони взмокли, сердце запрыгало, забилось, как у воробья. Он снял с плеча автомат, обхватил гладкую и холодную шейку приклада, мегафон, в который он должен будет призывать немцев сдаваться в плен, положил на бруствер, немного успокоился.
Выждав какое-то время, лейтенант, ни к кому не обращаясь, спросил:
– Все, что ли?
– Кто их знает, – сказал наблюдатель, не отрываясь от бинокля.
Максимов опустил свой бинокль, оглянулся. Гурин протянул руку – молча попросил у него бинокль. Лейтенант снял его через голову, отдал Гурину. Тот сразу направил окуляры правее черного подлеска и явственно увидел черную толпу немцев, узнав их по характерным закрылкам касок. Толпа студенисто колыхалась в сером мареве, уходила все дальше вперед.
– Они скоро наткнутся на центральную засаду, сказал Гурин лейтенанту.
– Нет, еще далеко. Подождем отставших.
С трудом оторвав бинокль от беспорядочной толпы немцев, Гурин нацелил его на тот промежуток между деревьями, где только что прошел последний немец, а потом стал смотреть левее, туда, где начинался лес, – там была сплошная темень, и тогда он снова повернул окуляры на промежуток между деревьями.
– Ну, похоже, все?.. – опять спросил лейтенант.
И тут Гурин заметил, как вдали кто-то быстро мелькнул в обратную сторону.
– Один назад побежал, – сказал он лейтенанту. – Наверное, заподозрили что-то и бегут обратно.
– Не думаю. – Максимов отобрал у него бинокль и посмотрел на толпу немцев. – Нет… те пошли вперед, – сказал он. – Видать, связной мотается. А это значит, что в лесу либо охранение оставлено, либо другая группа. Надо ждать.
– Эти могут наткнуться на центральную засаду, – снова напомнил ему Гурин.
– Время еще есть. Будем ждать до последней минуты.
– А вдруг там ребята прозевают?.. Вдруг, они уснули?..
Лейтенант резко обернулся к Гурину:
– Ты что? Это исключено!
Помолчали несколько минут, которые Гурину показались вечностью. Он был уверен, что немцы уже давно наткнулись на центральную засаду, расправились с нею втихую и спокойно уходят. Но Максимов терпеливо ждал. Наконец обернулся к Гурину:
– Наверное, не дождемся… Я возьму одно отделение и пойду в обход: нельзя их упускать, – кивнул он в сторону леса. – Ты остаешься за меня и действуешь по намеченному плану. Сигналом к действию будет начало стрельбы либо в моей стороне, либо у центральной засады. Только – не горячись. Главное – выдержка. Да… И сразу же вызывай роту. Вот тебе, – он передал Гурину ракетницу и сумку с ракетами. Из кармана вытащил еще два ракетных патрона. – Это сигнальные – роту по тревоге поднимешь. Я пошел. – Он надвинул поглубже на голову шапку, сказал сержанту: – Отделение – за мной!..
Увел Максимов отделение – сразу как-то пусто стало и тихо. Так тихо, будто весь мир безмятежно уснул крепким предутренним сном и только одни они бодрствуют да вон те немцы, которые уже почти и не видны отсюда и, наверное, думают, что им удастся проскочить… А вдруг удастся?..
Гурин подошел к наблюдателю, спросил:
– Ну что?
– Никакого движения, – сказал тот, не оборачиваясь.
– Смотри пристальней, – и Гурин принялся заряжать ракетницу осветительной ракетой. Зарядил, потом подумал и перезарядил ее сигнальной. «Прежде всего надо роту поднять, а осветить после успею… Если успею… Главное – роту вызвать, это надо успеть…» Руки у него дрожали: переломив ракетницу, он никак не мог попасть в казенник патроном. Хотел оглянуться – не видят ли его состояние курсанты, но сдержался, зарядил и только тогда не спеша посмотрел по сторонам, будто для того, чтобы удостовериться, все ли на месте. Но курсантам было не до него, они, как и он, были поглощены немцами: одни наблюдали за лесом, другие следили за теми, которые ушли вперед.
Первый выстрел раздался не у Максимова, а у центральной засады, и Гурин тут же выстрелил вверх из ракетницы. Красная ракета взвилась над снежным полем, описала дугу и, не долетев до земли, погасла.
– За мной! – скомандовал он и побежал по краю лесной опушки, чтобы отрезать немцам дорогу к отступлению обратно в лес. Курсанты заняли заранее подготовленные ячейки, приготовившись к бою.
Впереди неистовствовала стрельба, и одна за другой взлетали осветительные ракеты. Вскоре они увидели на снежном поле бегущую на них черную толпу немцев. Гурин выпустил осветительную ракету, курсанты дали по ним несколько очередей. При свете ракеты ясно было видно, как немцы попадали на снег и лежали, распластавшись большим черным пятном. От Гурина немцы были еще далеко, и стрельба курсантов была скорее предупредительной, чем прицельной.
Еще не погасла ракета, выпущенная Гуриным, как ей на смену взвилась слева. Теперь немцам было ясно, что они в западне. Гурин приложил ко рту мегафон и закричал на немецком языке:
– Солдаты! Вы окружены! Бросайте оружие и сдавайтесь в плен!
Не успел он закончить фразу, как над ним пропели одна за другой несколько пуль: немцы ответили пулеметной очередью. «Ого! Что-то будет!..» – подумал Гурин и невольно оглянулся на лес: там ведь тоже немцы, и неизвестно еще, кто кого окружил – то ли курсанты немцев, то ли немцы курсантов во главе с Гуриным.
В лесу было тихо. Где-то там пробирается Максимов – на него надежда, что он отвлечет на себя лесную группу.
Освещаемые поочередно с трех сторон, немцы лежали, не предпринимая никаких попыток вырваться из окружения. Наверное, ждали помощи от своих товарищей, оставшихся в лесу. Гурин передал по цепи – вести наблюдение и за лесом, чтобы на них не напали с тыла. А сам все прислушивался – ждал спасительных выстрелов со стороны Максимова. И когда они раздались, Гурин так обрадовался, что чуть не закричал «ура!». Однако радость его была преждевременной. Эту стрельбу услышали и немцы, лежавшие перед ними на снегу. Услышали и, наверное, решили, что это пошли им на выручку их товарищи, – поднялись во весь рост и ринулись на гуринское отделение всей лавиной, стреляя на ходу из автоматов.
– Огонь! Огонь! – закричал Гурин, но курсанты и без его команды уже открыли стрельбу. Немцы залегли. Гурин оглянулся на лес – там, где-то вдали, раздавались редкие автоматные и пулеметные очереди. Гурин выпустил вторую сигнальную ракету – просил помощи от командира роты, а в мегафон торопливо прокричал: – Напрасные жертвы! Вы окружены! Ваши товарищи в лесу тоже окружены! Сдавайтесь! – и юркнул в окоп, боясь, что в ответ немцы пошлют пулеметную, очередь. Но они лежали, будто неживые.
Неожиданно, как вестник добрых духов, к нему приполз связной от командира роты. От одного его появления Гурин повеселел: «Не одни мы в этой серой мгле, не отрезаны! Связь есть!» Связной спросил, где Максимов.
– Нет его здесь. В лесу скрывается еще одна группа немцев, Максимов пошел в обход, – объяснил он связному. – Передай капитану, чтобы прислал еще людей – сюда и к Максимову. У нас по одному отделению, а немцев только перед нами вон поболе взвода.
Связной убежал, а вскоре, когда Гурин еще никак не ждал ответа на свою просьбу, к нему в окоп спрыгнул лейтенант Исаев:
– Ну что, Жёра? Горячо? Что тут – рассказывай.
Гурин доложил обстановку, Исаев выслушал его и приказал своему помкомвзвода развести «мальчиков» по окопам и занять оборону на два фронта.
Теперь в каждой ячейке сидело по два курсанта, один держал под прицелом поле, а другой – лес.
В лесу после затишья снова вспыхнула стрельба, заслышав ее, немцы, лежавшие на поле, ожили. Но теперь они были уже не страшны: народу против них скопилось достаточно, и курсанты быстро заставили их залечь.
Стало светать, и немцы на поле проявились, как на фотографической бумаге, – они открыто лежали на снегу, и теперь их легко можно было перестрелять.
– Ну-ка крикни им, пусть сдаются, – сказал Исаев Гурину. – Сколько можно лежать?
– Немецкие солдаты! – закричал Гурин в мегафон. – Бросайте оружие и сдавайтесь! Иначе через пять минут откроем огонь.
Какое-то время немцы продолжали лежать, потом зашевелились и один за другим стали вставать и, подняв руки, пошли к ним.
– Сюда нельзя их пускать! – заволновался Исаев. – Тут лес. Останови! Пусть идут к станции.
– Стойте! – крикнул Гурин немцам и скомандовал резко: – Кругом! Вперед шагом марш!
Немцы повиновались: повернулись и пошли в обратную сторону.
Когда они удалились метров на двести от своего лежбища, а на снегу осталось чернеть их оружие, лейтенант Исаев приказал Гурину:
– Бери своих мальчиков и проводи их, – кивнул он в сторону немцев. – Только будьте осторожны, палец держите все время на курке.
Гурин вылез из окопа и позвал за собой курсантов первого взвода. Растянувшись в цепь, они пошли вслед за немцами и благополучно проконвоировали их до самой станции. Здесь они посадили немцев у здания с подветренной стороны. Среди пленных было несколько человек раненых, и батальонный врач лейтенант Люся принялась перевязывать их.
Через час или полтора вернулись и все остальные во главе с командиром роты. Они привели такую же группу пленных.
– У тебя потери есть? – спросил капитан Коваленков у Гурина.
– Нет, – сказал он. – А где Максимов?
– Там, несут его…
– Как несут? Почему?
Капитан взглянул на Гурина, и тот понял, что с Максимовым случилось несчастье.
– Убили?
– Нет, ранило. Но тяжело.
Гурин побежал навстречу курсантам, которые несли на плащ-палатке лейтенанта. Лицо у Максимова было землисто-серым, без кровинки, глаза закрыты.
– Петя, – тихо позвал его Гурин.
Он открыл глаза и, увидев Гурина, виновато улыбнулся.
– В живот… – прошептал он, словно вспомнил их давний разговор.
– Как же это?
Максимов только глазами повел и тут же смежил их: говорить ему было тяжело.
Сержант, шедший сзади, рассказал Гурину, как ранило Максимова:
– Поднялся немец, помахал белым платком и закричал: «Переговор, переговор!» И направился в нашу сторону. Прошел несколько шагов, остановился и снова закричал: «Командир, иди! Переговор!» Ну, лейтенант выскочил и побежал на переговоры. Знаешь же, какой он? Шустрый! Побежал. А тот вместо переговоров бросился на него и потащил к себе. Лейтенант стал отбиваться, схватился за дерево. Тут мы кинулись на выручку. Немец видит такое дело, выстрелил лейтенанту в живот и промеж деревьев убежал к своим. Заложником, наверное, хотели его взять… Вот гады, до последнего момента им нельзя доверять.
Гурин снова поравнялся с Максимовым. Тот почувствовал его взгляд на себе, открыл глаза, сказал:
– Обидно… Не дошел до Берлина…
– Ничего. Поправишься… – Не сдержался Гурин, упрекнул его с досадой: – И на кой черт тебе нужны были эти переговоры? Сдавайтесь – и все тут.
– Поверил…
– «Поверил»… Ты его можешь узнать? Ведь ты близко его видел. Можешь узнать?
– Зачем? Мстить будешь? Не надо, Вася… Ни к чему… Разве это поможет? Пустое дело… не надо.
Обидно. Самое обидное было еще и в том, что это была последняя группа немцев, больше курсанты тут уже не встретили ни одного немецкого солдата, а вскоре и сами стали перебазироваться в Ландсберг.
Ландсберг
 Ландсберг батальон перебазировался постепенно: сначала одна рота, потом другая, а последняя сама перебиралась по частям: взвод, через какое-то время – другой, третий. По мере уменьшения опасности уменьшалась и численность батальона в Дразикмюле. Дольше всех там оставался лишь разведвзвод во главе с лейтенантом Исаевым.
Ландсберг батальон перебазировался постепенно: сначала одна рота, потом другая, а последняя сама перебиралась по частям: взвод, через какое-то время – другой, третий. По мере уменьшения опасности уменьшалась и численность батальона в Дразикмюле. Дольше всех там оставался лишь разведвзвод во главе с лейтенантом Исаевым.
Сначала, пока в Дразикмюле стояло несколько подразделений, батальон жил «на два двора», и между Ландсбергом и Дразикмюле была налажена довольно оживленная связь. А когда там остался один взвод, связь с ним почти затухла, словно его навсегда передали в подчинение кому-то другому. Даже выпуск сержантов состоялся без разведчиков…
После ландсбергского выпуска в батальоне наступило затишье: старые курсанты ушли, новых набирать почему-то не торопились, и командиры-учителя несколько дней жили вольно и беззаботно, как на курорте.
Стояли по-весеннему солнечные и теплые дни, двухэтажный особняк из желтого кирпича, в котором поселились политработники, сверкал чистыми стеклами и, казалось, сам излучал тепло. Уютно, тихо, просторно, светло. Майор Кирьянов, капитан Бутенко и Гурин живут, как баре: у каждого отдельная комната, спят в мягких постелях, ходят по мохнатым коврам, завтракать сходятся в просторную столовую, едят и пьют из тонкой фарфоровой и хрустальной посуды. Отдыхают, развлекаются и проводят совещания в громадной гостиной. Здесь глубокие мягкие кресла; инкрустированные слоновой костью, на гнутых ножках столики; по углам две белые в золотых разводах вазы, в больших керамических, облитых зеленой глазурью кадках растут под самый потолок цветы.
Капитан Бутенко не скрывая наслаждается такой жизнью. Улыбаясь, постоянно восторгается:
– Эх, едрит твою за ногу! Пожить бы вот так!..
Майор Кирьянов так откровенно не высказывался, был, как всегда, строг и даже суров и обстановку, в которой они жили, принимал как должное. Однако же капитану не возражал, а только усмехался в ответ на его восторги или, когда тот уж больно нажимал на свою поговорку: «Жили же, черти!.. А? Как жили!», говорил:
– Да кто жил-то? Буржуй. Ведь это особняк буржуя, а не рабочего. Более того, судя по фотографиям, обитал тут какой-то эсэсовский бонза.
– А все равно, майор, мне почему-то в буржуйской постели хорошо спится! – смеялся капитан. – Лежать на перине, периной накрываться! Провалишься в такую постель – младенцем себя чувствуешь. – И потом снимал все сказанное серьезным замечанием: – Шучу, майор, шучу! Я ж понимаю: это курорт, а не жизнь. Жизнь не может быть сплошным курортом, быстро надоест. Скука. И мы вот тут побарахтаемся в перинах, а завтра, может, уже будем сидеть в окопах.
Гурин своего отношения ко всему этому объяснить не мог. И война, и Германия, и его теперешние условия жизни – все это воспринималось им, как сон, и думал он только об одном: «Вот бы побывать дома да рассказать, что видел, что пережил!..» Про весь этот огромный мир, который прокрутился перед его глазами за эти два года! Как интересно! Ведь для чего-то же все это ему показывается? Неужели же только для того, чтобы вспыхнуть в его сознании и тут же погаснуть? Не может быть! Бессмысленно! Оно должно остаться в нем, и он должен будет все это для чего-то употребить…
Однажды, обследуя свой особняк, они с капитаном спустились в подвал. Здесь было чистенько, сухо, прохладно. На полках аккуратными рядами стояли разнокалиберные стеклянные банки. В них были законсервированы различные овощи, фрукты, ягоды. Здесь Гурин увидел знакомые ему с детства вишни, сливы, яблоки и совсем незнакомые какие-то корешки, наверное из тех, о которых он, может быть, только случайно слышал, но никогда не ел: спаржа, цветная капуста, сельдерей. У них дома на огороде такие овощи не росли, и они без них прекрасно обходились. А немцы, видать, все это любят.
– Эх, едрит твою!.. Ты смотри! – капитан провел рукой вдоль полок. – Ну чего им еще не хватало? Война, а у них вон сколько всего разного. Давай выбирай, что тут съедобное. Корни не бери, ну их к дьяволу, пусть они сами их едят. Там вон, кажется, вишневый компотик?
– Стоит ли? – У Гурина почему-то была брезгливость ко всем этим продуктам, заготовленным кем-то и брошенным второпях. – А вдруг они отравлены!
– Да ну?.. – Капитан повертел банку, посмотрел на Гурина с укором, будто тот ему аппетит испортил, поставил на место. – Оно, конечно, не отравлено, но пусть стоит, – заключил он.
Почти весь второй этаж особняка занимал то ли огромный магазин, то ли какая-то общая гардеробная: здесь в несколько рядов стояли вешалки и на них висели женские платья, юбки, кофты, мужские костюмы, рубашки, брюки; вдоль стен на полках стояла различная мужская и женская обувь. На магазин в нашем понятии это, – конечно, было не похоже – здесь не было ни прилавков, ни барьеров, ни кассы. Да и вещи были далеко не все новые, многое уже ношенное, но чистое и аккуратно выглаженное. Кое-что было даже заштопано. На мастерскую помещение тоже не походило – ни швейных машин, ни рабочих столов здесь не было. Из мебели в этой комнате стояли лишь две или три низеньких табуреточки да вделанное в стену почти во всю ее величину зеркало. Наверное, это была все-таки семейная гардеробная, а семья здесь жила, судя по пухлому бархатному фотоальбому, немалая. В альбоме было две одинаковых, как у близнецов, надменных пухлых рожицы гитлерюгендов, фотографии двух молодых белокурых фрейлейн со спадающими на плечи локонами, одной пожилой, но, видать, молодящейся фрау. У этой три локона лежали прямо надо лбом, словно три ружейных ствола. Были в альбоме и два старика. Но особенно часто красовался в нем тонкогубый, с холодным пронзительным взглядом, сухопарый эсэсовский офицер. По этим фотографиям можно было проследить его продвижение по служебной лестнице от капитана до полковника.
Тут же, в гардеробе, Бутенко нашел и комплект обмундирования эсэсовца. Судя по размеру, порядочный был громила этот фашист.
Гурин смотрел на все эти вещи в гардеробе и чувствовал себя как в дорогом, недоступном ему магазине и прикидывал, что бы он купил для своих домашних. Прежде всего он купил бы матери вон ту вязаную кофту – серенькую, с белой полосочкой по воротничку. Танюшке – вот это платьице, розовое, с длинным рядом пуговиц спереди, а Алешке – штаны коричневые, в рубчик. Он ведь уже, наверное, вырос, а штанов приличных нет и взять им неоткуда. Какое было барахло, еще при Гурине за долгие два года оккупации променяли на хлеб, воспользоваться которым не сумели. По глупости сдали зерно на помол на мельницу, а обратно им его не вернули: приехали немцы, погрузили всю муку в огромные «MANы» и увезли, а народ разогнали, да еще пригрозили расстрелом, если кто будет «бунтовать»…
Тут же в одной из коробок капитан обнаружил трофей, который сильно его обрадовал, – пару добротных кожаных подметок.
– Ух ты, едрит твою!.. – воскликнул он и громко хлопнул подметками. – Новенькие, спиртовые! – Он приложил их к носу и глубоко втянул в себя кисловато-пряный запах новой кожи. – Подобью сапоги – износу не будет!
Гурин тоже не остался без трофея. Уже в столовой в посудном шкафу он наткнулся на стопку белой мягкой бумаги. Квадратные листочки ее величиной с носовой платок обрадовали его не меньше, чем кожаные подметки капитана. Бумага со всех четырех сторон была фигурно обрезана, а по краям ее был отчетливо виден рельефный красивый кантик, похожий на кружева. В уголке каждого листочка нарисована красная розочка. Никогда такой красивой бумаги он не видел! «Наверное, специально для писем, – решил Гурин и сгреб всю стопку. – Буду писать Шурочке письма. И маме напишу на такой бумаге, и… Да всем-всем напишу, пусть порадуются».
– Бумажная душа, – махнул безнадежно на него капитан. – Все бумагу собираешь.
А Гурин и рад, что капитан к ней равнодушен, а то пришлось бы с ним делиться такой редкостной находкой. Побежал в свою комнату, спрятал листки подальше, один разложил на столе, принялся писать. «Дорогая, милая, любимая моя Шура!..»
Мысли побежали быстро, а перо, как нарочно, тыкалось в неровности бумаги, писало плохо, с трудом. Двух строчек не написал, бросил: для письма бумага явно не годилась. «Но для чего же она предназначена, такая красивая?» – недоумевал Гурин.
Взял один листок, понес в столовую майору. Тот как раз пришел откуда-то и сидел жевал свой обед.
– Товарищ майор, для чего эта бумага?
– М-м… – промычал майор набитым ртом и поманил пальцем: дай, мол, этот листок мне. Гурин отдал. Майор взял его, вытер им губы, пальцы и, скомкав, бросил на стол. – Понял? – спросил он, прожевав. – Салфетка. Обыкновенная бумажная салфетка. Не видел никогда, что ли?
– Откуда же?.. – проговорил Гурин, все еще не веря майору. «Бумагой руки вытирали? А у нас на тетрадки не хватало. На газетах рисовали. А они такую бумагу!.. Вытер, скомкал и выбросил…» Гурин с сожалением смотрел на скомканный майором белый листок бумаги, и ему было его откровенно жаль. «Чертовы буржуи!.. Нам задачки не на чем было решать, а они вишь какую жизнь себе устроили!..»
Потом Гурин пытался эти салфетки все-таки приспособить для письма – разглаживал их горячим утюгом, но из этого ничего не получилось: под утюгом они желтели и всю красоту свою теряли. В конце концов Гурин оставил свои опыты и не стал портить такие красивые листочки, решил вкладывать их чистенькими в каждое письмо, посылаемое домой.
В эти же дни произошло и еще одно событие. Как-то приехал майор из политотдела и, пригласив к себе своих помощников, сообщил, что полевой почте разрешено принимать посылки. До восьми килограммов.
– И правильно делают, – сказал капитан, выслушав майора. – Деньги-то мы получаем и такие, и полевые, а куда их девать? А то, глядишь, купил какую одежонку и послал своим. Да и трофейного добра сколько топчем ногами. А там же за время войны народ совсем обносился. Очень правильное решение.
– Предстоит и нам работа, – продолжал майор, выждав, когда капитан кончит говорить. – Надо будет разъяснить всем, что можно и чего нельзя посылать.
Этот разговор прервал приехавший из штаба армии интеллигентный на вид капитан в общевойсковых погонах. Знакомясь с майором, он назвал себя представителем какого-то то ли управления, то ли отдела.
Майор сощурился, как на яркое солнышко, повернул ухо, будто глухой, ждал еще чего-то. Капитан, улыбнувшись, пояснил:
– Мы занимаемся розыском и возвращением в Советский Союз музейных и художественных ценностей, украденных фашистами.
– А-а! – прохрипел майор. – Вот теперь понятно! Садитесь.
Они остались разговаривать, а Гурин с капитаном пошли в батальон.
Обрадовавшись возможности послать домой посылку, вечером Гурин занялся ревизией своего имущества – искал, что бы послать своим в подарок. У него еще оставалась целая пачка хорошей бумаги, которую он подобрал в Молдавии у Прута, решил: «Пошлю ее Алешке, будет уроки на ней – записывать. Обрадуется! Есть у меня еще трофейный механический карандаш – сердечко вывинчивается и ввинчивается. Пошлю и его. Тоже, наверное, Алешке достанется. А что же маме и Танюшке послать? Ничего и нет… Танюшка уже работает – бумага ей ни к чему… Что-то придумать надо. Отошлю домой и книжки…» Уже здесь, в Ландсберге, кто-то из сержантов нашел в одном из домов «Войну и мир» Толстого – в двух томах. Принес и отдал Гурину. Добротное издание. «Отошлю, целее будут, а мне облегчение. Правда, они тяжелые, но не полпуда же в них…»
Есть у Гурина еще пара новых байковых портянок и кусок стирального мыла. Хорошо бы хоть мыло послать – мать наверняка обрадовалась бы. Но ни мыло, ни портянки посылать нельзя – военное имущество. Хотя – мыло?.. «Спрошу у майора».
Сложил на уголок стола книги, бумагу, сверху – пяток бумажных салфеток и увенчал всю эту пирамиду красненьким пластмассовым механическим карандашом. Хорошо! Доволен! Размечтался, представил себе, как дома получат посылку, как обрадуются подарку, как удивятся салфеткам и как будут гадать, что это такое. Мать наверняка возьмет и расстелит одну на угольнике, другую – на комоде, а остальные спрячет…
Размечтался, не слышал, как и капитан вошел.
– Ну, ты чем занимаешься? Пойдем наверх, соберем посылочки, пошлем своим.
– Неудобно, – поморщился Гурин. – Да я вон уже собрал, – указал он на стол.
Капитан подошел поближе, долго смотрел на его сооружение из книг и бумаги. Посмотрел с одной стороны, потом с другой, заскреб шумно короткими пальцами заросшую за день сизую от щетины шею, взглянул на Гурина.
– Ты что? Окончательно?.. – он поднял руку к своему виску, посучил пальцами, будто винтик невидимый крутнул, и языком щелкнул, словно отключил выключатель.
– А что? – удивился Гурин.
Бутенко не ответил, закричал в открытую дверь:
– Майор! Зайди сюда.
На пороге появился майор Кирьянов, прохрипел густым басом:
– В чем дело?
– Посмотри, – Бутенко указал на стол.
Майор подошел, стал смотреть, ничего не понимая. Бутенко пояснил:
– Это знаешь что? Это он собрал посылку матери, сестре и брату.
Майор поднял за уголок салфетку, взглянул на Гурина, улыбнулся мягко, обернулся к Бутенко:
– А ты разве не знаешь? У него ж родственники богачи: одеты, обуты, едят сытную пищу. Им только и не хватает салфеточек, чтобы вытирать жирные губы и пальцы. Едят же они сало с салом! – рокотал майор, издеваясь над гуринской затеей.
– Нет, ты послушай, что он говорит! – всерьез сердился капитан. – Говорит: неудобно брать вещи, они, мол, чужие. А? Мать, брат, сестра сидят дома голодные, холодные, раздетые по милости немцев. Сам он голодал и страдал от тех же немцев. Немцы его ограбили, дважды продырявили самого, ограбили и разорили его страну, – а он!.. Фашисты еще лютуют, они еще мучают в лагерях наших людей, угнанных в рабство, пленных, они еще стреляют в нас самих, а он, едва ступив на вражескую территорию, уже устыдился своих действий! Ему неловко, видите ли, трогать чужие вещи! А мы и не трогаем чужое.
Майор потер пальцами лоб, словно что-то мучительно соображал.
– Да конечно же неудобно, черт возьми! И тебе, капитан, неудобно, хоть ты и храбришься и правильно рассуждаешь, и мне, и ему. Не привыкли мы к этому, и хорошо, что не привыкли. Да и дыры наши этим не залатаешь… – Майор взглянул на Гурина, на Бутенко. – Все верно: мы сюда пришли не завоевателями чужих земель, мы сюда пришли не по своей воле, мы пришли б эту проклятую Германию не обогащаться, не грабить, а вернуть награбленное у нас, – сказал и задумался. – Вернуть?.. Ни хрена мы не вернем, разве можно вернуть миллионы замученных и убитых, разве можно вернуть все сгоревшее в огне, взорванное, разоренное?.. Дотла выгреби теперь мы эту Германию – и тогда сотой доли не восполнить того урона, который они нам нанесли. Мы, черт возьми, пришли сюда, чтобы задушить эту страшную чуму – фашизм и остановить, прекратить, избавить человечество и наш народ прежде всего от уничтожения! Идите сюда, – майор кивнул им головой и направился к двери. В гостиной он прошел в угол и остановился перед огромной белой вазой, расписанной золотом, взял листок, лежавший на подставке. – Читайте!








