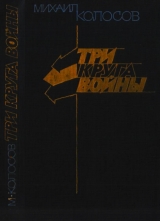
Текст книги "Три круга войны"
Автор книги: Михаил Колосов
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 30 страниц)
Не слезая с лошади, Гурин вскинул руку к пилотке, попытался доложить комбату:
– Товарищ гвардии майор, ваше задание…
Тот махнул ему рукой – ладно, мол, вижу и так, без доклада, а сам уже гладил по щекам вороного коня Хованского.
– Где вы таких взяли?
– Возле Прута поймали. Сколько там барахла разного! – Язык у Гурина заплетался, но майоры этого не замечали, они любовались лошадьми.
– Ладно, ладно, слезай, хватит тебе, – хлопал Гурина по сапогу Кирьянов.
Он стал слезать с лошади, стараясь делать это осторожно, чтобы они ничего не заметили. Но, встав на землю, вдруг качнулся и чуть не упал, хорошо – вовремя уцепился рукой за стремя. Майор Дорошенко оглянулся и, удивленно улыбаясь, будто увидел ребенка за недетским занятием, сказал:
– Да вы что, пьяны?..
– Н-нет, товарищ майор… Просто мы ехали, Жарко… Пить попросим, а нам дают вина. Холодненького, из погреба. Говорят: «Молодое вино, сок». Просишь воды, а они…
Дорошенко покачал головой:
– Ладно. Идите спать. Вечером снимаемся. Чтобы были как стеклышки!
– Слушаюсь! – козырнул Гурин и опять качнулся. – Фу-ты, проклятое вино!..
– Р-разрешите идти? – Чтобы показать свою трезвость, подал голос Хованский. Он держался изо всех сил, а глаза его плавали, как в тумане.
– И чтобы вас никто не видел!.. – нахмурил брови замполит.
– Есть!.. – козырнул Хованский и тут же поправился: – Слушсь-сь…
Взяли друг друга под руки, чтобы не качаться, пошли в казармы.
Откуда ни возьмись старший лейтенант Шульгин бежит. Увидел лошадей – глаза загорелись.
– Откуда?
– Трофейные! – весело сказал Хованский.
– А чего ж вы только двух пригнали?
– Не догадались, – сказал Гурин.
– Эх вы, вахлаки… – огорчился он и махнул рукой. Лицо его исказилось такой гримасой, что казалось, вот-вот разревется. Надо было видеть, с какой завистью смотрел он, как майоры поглаживали лошадей. Если бы они знали такое дело, пригнали бы целый табун.
А вечером они уже были на пути к станции с названием особенно желанным для солдат – Затишье.
Человек пять, в том числе и Гурин с Хованским, во главе с лейтенантом Елагиным, от учебного батальона да по столько же от других были посланы вперед, на новое место дислокации, и назывались они теперь квартирьерами.
«Прощай, виноградная Молдавия, прощайте, зеленые холмы, по которым мы бегали, ползали, ездили, прощайте, гостеприимные молдаванки, поившие рас вином, и ты прощай, город Кишинев! Прощай и прости, пожалуйста, что теперь на вопрос: „Каков ты есть?“ – я буду отвечать: „Не знаю, не видел“… – мысленно прощался Гурин с землей, которая была к нему милостива. – В самом деле, я ведь тебя так и не увидел, Кишинев, хотя и освобождал тебя, и жил какое-то время в твоих стенах, а увидеть не довелось. Прости, друг, – война…»
Квартирьеры
 ежит поезд, извивается змеей на поворотах. Постукивают на стыках колеса, покачиваются и скрипят вагоны. Где-то далеко впереди пыхтит паровоз, кутаясь временами в белое облако пара, перебрасывает длинный шлейф дыма то на левую, то на правую сторону состава, словно девушка пышную косу с плеча на плечо.
ежит поезд, извивается змеей на поворотах. Постукивают на стыках колеса, покачиваются и скрипят вагоны. Где-то далеко впереди пыхтит паровоз, кутаясь временами в белое облако пара, перебрасывает длинный шлейф дыма то на левую, то на правую сторону состава, словно девушка пышную косу с плеча на плечо.
Бежит состав, валяются в теплушках на нарах беззаботные солдаты, пользуются случаем – отсыпаются.
Армию перебрасывают на другой фронт, но это едут пока только ее представители – квартирьеры: по несколько человек от частей и подразделений, а набралось на целый эшелон. На долгих остановках вдоль состава пробегает комендант эшелона, отдает какие-то распоряжения старшим вагонов.
Бежит поезд – и бегут ему навстречу поля и перелески, буераки и леса, проплывают мимо города и села, а вернее – развалины городов и пепелища, где были когда-то села. Вместо сел только печные трубы торчат. Палачи прошли по этой земле. Бандиты и палачи – даже эти слова кажутся слишком мягкими по сравнению с тем, что они натворили…
Поезд идет по рокадной дороге, по земле, где совсем недавно прошли бои, – всюду свежие следы войны.
Старшой от учебного батальона лейтенант Елагин – тот самый, который вел когда-то Гурина из госпиталя в батальон выздоравливающих, повис грудью на перекладине в двери вагона, смотрит на эти следы молча, задумчиво. Елагин сугубо штатский человек, военная форма на нем, длинном и сухощавом, висит как на вешалке, не прилегая: штаны отвисли пустым мятым мешком, складки на гимнастерке постоянно сбегаются в кучу на животе, а просторная пилотка так и не нашла своего места на его голове, крутится на ней, будто на полированном шаре: то сползет на лоб, то на затылок, то на левое ухо, то на правое, а то и вовсе окажется поперек головы. Честь отдавал он как-то по-своему, смешно: сначала вскинет локоть и уж только потом – кисть руки, и при этом все время почему-то пританцовывает, словно не может остановиться или не найдет ногам место. Выправка лейтенанта Елагина служила постоянным поводом для насмешек. Особенно издевался Исаев, который прозвал его пчеловодом. Почему пчеловодом – непонятно, но раз так назвал Исаев, значит, это смешно и остроумно. Елагин сначала сердился, а потом махнул рукой и не обращал внимания, относился ко всему как к должному и притом временному: война, мол, мало ли каких невзгод на людей она не насылает, на него же вот еще и такие неприятности…
Елагин молча смотрел на развалины и тихо покашливал, словно у него першило в горле. Гурин стоял рядом. Для него с детства не было большего удовольствия, чем смотреть из окна на ходу поезда. Даже на знакомые места. А тем более здесь: леса, реки, болота, отдаленные друг от друга хутора – для него, донецкого степняка, все это было в диковинку. А пепелища?.. Сколько их уже повидали на своем пути, а они не только не убывают, но с каждым километром их становится все больше и они все страшнее.
– Как вы думаете, заставят немцев после войны восстановить все это? – спросил Гурин у лейтенанта.
Елагин встрепенулся, но ответил не сразу – собирался с мыслями. Сначала распрямился, размял затекшие плечи, сказал не очень уверенно:
– Кто его знает, как оно будет, как постановят: это ведь будем решать не одни мы.
– А кто же еще? – удивился Гурин.
– Союзники тоже.
– А они при чем тут? За наши дела мы и будем судить. Им-то что! На их землю немцы даже и не ступали – что Англия, что Америка. Одну, правда, побомбили, а другая и выстрела не слыхала.
– Еще Франция есть… Другие страны – Польша, Югославия – они тоже сильно пострадали от немцев.
– Сравнили! Мы воюем и они! Наши потери и их!
– Сравнить нельзя, конечно, – согласился он. Помолчал, подумал немного, снова заговорил: – Ты вот говоришь: восстановить. А я думаю, дело даже не в этом…
– А в чем же? – нетерпеливо спросил он, с трудом подавляя иронию.
– Восстановить! Что восстановить? Как восстановить? – Голос его повысился до писклявого – так он был взволнован и так он старался внушить Гурину какую-то свою мысль, которую тот пока никак не улавливал. – Утраченное ведь не восстанавливается, – и он закрутил головой. – Новое появляется – да, а умершее – нет, не воскресает. И это относится не только к живой природе. Вот, скажем, стоял дом, и он мог бы еще долго стоять и служить людям. А его нет – сожгли, взорвали. Новый построят? Да. Но ведь это будет новый. Затратим силы, энергию, время – построим! Но у нас опять будет только один дом, а могло быть два, если бы был цел и прежний дом. С ним мы были бы богаче. Эта разруха заставит нас долго топтаться на месте – пока будем отстраиваться, раны залечивать. А могли бы ой как шагнуть вперед! И разрушения все эти творятся с умыслом, с да-альним прицелом: обескровить страну, опустошить, разорить, загнать нас в землянки, в пещеры, чтобы мы не могли выкарабкаться из этого десятилетиями, а может быть, и столетиями. Сделать нас нищими, отсталыми, а значит, и беспомощными настолько, чтобы можно было взять голыми руками. И странно: творят это люди, которые принадлежат к культурнейшей нации! Странно и страшно…
Гурин слушал Елагина и диву давался, как он здорово все это понимает, какой он, оказывается, умный человек! А они жили с ним рядом и только и видели на нем отвисшие брюки да неоправленную гимнастерку. Вот тебе и дремучий! Гурин смотрел в его голубые, как у ребенка, глаза, слушал, кивал, не перебивал: услышать такое Гурину было внове. До сих пор все это у Гурина как-то не выстраивалось в такую вот преднамеренную страшную стратегию противника, все это было для него в общем ряду деяний фашистов и объединялось одним словом «зверства». Елагин впервые как-то просто и ясно раскрыл ему смысл этих зверств и злодеяний.
Елагин помолчал, поиграл острыми скулами, проговорил, будто размышлял вслух:
– Заставить восстановить. Как? Пригнать их сюда под конвоем? Нет, такого не будет, это бессмыслица. Обложить их контрибуцией? Это дело непрочное: сразу ее не возьмешь, выплата же растянется на годы, да и толку-то. Больше для морального удовлетворения. Восстановить… – Он взглянул на Гурина. – А людей? Миллионы загубленных людей – кто восстановит? Их-то ни оживить, ни «восстановить», – Елагин нажал на последнем слове, давая понять, что он вкладывает в него особый смысл, но все же пояснил: – Численность населения с годами восстановится, но этих-то уже не будет. А сколько среди них полегло умных, талантливых, которые могли бы гораздо раньше двинуть дело вперед, чем это произойдет потом?..
– Товарищ лейтенант, кем вы были на гражданке? – спросил Гурин после некоторого колебания.
– Учителем, – сказал тот просто.
– Учителем? – удивился почему-то Гурин.
– Да. Преподавал историю в старших классах.
Учитель для Гурина всегда был вершиной, в его представлении он умнее, культурнее, более знающ, чем все другие люди – неучителя. Это преклонение перед учителем у него осталось еще со школьной скамьи. И вот он перед ним – учитель!
Чтобы как-то загладить свою вину перед Елагиным, хотя он никогда открыто и не подсмеивался над ним, и выказать ему свое расположение, Гурин не нашел ничего другого, как сообщить ему:
– А я только перед войной кончил десятилетку. У нас как раз выпускной вечер был, когда началась война…
– Да, – сказал Елагин. – Мальчишки со школьной скамьи пошли в окопы, вместо того чтобы идти в университеты… И многие полегли… И кто знает, сколько среди них полегло Менделеевых, Павловых, Пушкиных…
Наступила минута откровенности, Гурину захотелось сказать Елагину что-то согласное с его мыслями, и он брякнул:
– И я стихи сочиняю…
Сказал – и тут же почувствовал всю неуместность, бестактность такого признания. Уши его вспыхнули огнем, он не знал, куда деваться. «Хвастун проклятый!» – ругал себя Гурин.
– Знаю. Слышал, – сказал Елагин мягко и без иронии.
Гурин благодарно улыбнулся.
…А поезд бежит, бежит – днем и ночью, днем и ночью. Сделает небольшую передышку и поторапливается дальше. Вот уже по обеим сторонам дороги потянулись густые дремучие леса – партизанские места, а теперь здесь гуляют бандиты – бандеровцы, и по эшелону все чаще и чаще передают предупреждение: быть осторожными, не торчать в дверях вагонов – могут обстрелять. А Гурину интересно смотреть на лес – могучий, густой, таинственный, и он, свесив голову с верхней полки, смотрит и смотрит на бесконечную зеленую стену.
А еще ему нравится просто ехать. Как давно это было, когда он последний раз ехал в поезде! Ведь он с первого дня службы в армии ни одного километра не проехал ни в поезде, ни на машине, кроме того случая, когда их, раненых, везли в госпиталь. А второй раз даже в госпиталь шли пешком. Пешком и пешком. И в жару и в холод, в сушь и в непогоду пешком и пешком! Сколько грязи вымесили его сапоги, сколько пыли вылетело из-под его подошв – не сосчитать, не измерить. И вдруг – он едет на поезде! Это как после долгих ненастных дней и ночей вдруг – теплое ясное солнечное утро…
Но все на свете кончается, кончалось и это путешествие. На до отказа забитой поездами станции Ковель где-то все-таки отыскалось место и новому составу. Втянули его медленно на товарную станцию, покачали по многочисленным стрелкам и наконец остановили.
– Выгружайсь!
Попрыгали солдаты на землю, захромали, заохали – ноги затекли от долгой дороги. Шутят:
– Как ни хорошо ехать, а идти все-таки лучше. Свои родные не подведут!
Постепенно размялись, привели себя в порядок: мятые шинели отряхнули от соломы, ремнями затянулись, вещмешки – за спину, – автоматы – на плечо и пошагали строем через весь город. Где-то на самой окраине их разместили по квартирам. Пятеро из учебного батальона заняли небольшой домик, вытеснив хозяев из горницы в другие комнаты. Хозяев, правда, было немного – всего две женщины: одна старуха, другая – помоложе, ее сноха, но тоже уже немолодая. Такой, по крайней мере, она казалась Гурину. Встретили женщины квартирантов не очень радостно. Похоже, им уже изрядно надоели постояльцы. Однако холодность хозяек быстро растаяла, и отношения между ними и солдатами установились самые дружественные, женщины предлагали гостям свои услуги: не надо ли им постирать белье или приготовить обед. Но деликатный Елагин от всего отказывался и просил прощения за то, что они стеснили их. Это женщин окончательно расположило к постояльцам, они приготовили хороший ужин и устроили общее застолье. Гости выставили на стол свой хлеб, консервы и сахар – продукты, которые гражданскому населению перепадали в скудных дозах по карточкам.
Разговаривали женщины с ними охотно, но как-то странно. Например, в ответ на вопрос лейтенанта, где их мужчины, старшая сказала:
– Старый вмэр, а сына мого, вот чоловика Ирэны, ваши забралы.
Гости насторожились: «Как – наши забрали? За что?»
– Забрали? Куда? За что? – спросил лейтенант.
– До Красной Армии служить. На фронт погнали.
Постояльцы переглянулись. Что за речи: «Ваши забрали… Погнали…» Младшая заметила замешательство, поняла, в чем дело, поспешила загладить неловкость:
– Вы не сердитесь: мама ще не привыкла, по-старому говорыть, – и она покраснела.
Старуха взглянула на нее, потом на военных, засмеялась, замахала руками:
– Да, да! Не привыкла… Наши, наши, руськие… То ж я – дура старая. Вы уж звиняйтэ, оно шо старый, шо малый… Ижтэ, кушайте.
– А как бандеровцы, не беспокоят? – спросил лейтенант.
– Сюда, в город, редко заходят, боятся армии. А в селах – шкодують. Хто за советську власть або до Красной Армии служить пошел – карають таких. Семьи вырезають. Нам записка до порога была подброшена с угрозой. Мы до коменданта отнесли ее, – рассказывала молодая хозяйка, а старшая только поддакивала:
– Так… так… – потом перебила ее, сказала: – Ночью спать боялись. Зараз привыкли – в городи их шось не стало слыхать.
На другой день с утра квартирьеры начали свою работу – пошли осматривать деревни, где должен был разместиться батальон. Перед уходом получили строгий приказ: ни в коем случае не ходить в одиночку – опасно: местность заражена бандеровскими бандами. Ночевать в селе не оставаться, засветло возвращаться на городские квартиры.
Они шли проселочными, полевыми, лесными дорогами – вполне тихими и мирными, но после такого предупреждения за спиной все время гулял ветерок страха. Стоял сентябрь, и в природе уже понемножку «сентябрило»: плавал первый редкий туманен, воздух был влажным – будто сеял мелкий дождик, но это был не дождь, а всего лишь мжичка. Крестьяне убирали огороды, жгли бурьян, пахали лошадками землю. Все выглядело спокойно и мирно. Приехавших поражали узкие полоски жнивья, пахота одной лошадкой и отдаленные друг от друга хутора. «Как можно так жить? – думал Гурин. – Одинокая хата стоит среди деревьев, а другая от нее даже и не видна, случись что – до соседа и не докричишься. Ночами, да еще зимними, наверное, и скучно и страшно в таком хуторе…»
– Смотрите, пашут, – сказал кто-то из солдат. – Никакими бандеровцами тут, похоже, и не пахнет.
– А ты думал, он кричать на всю округу будет: «Эй, я – бандеровец!» – возразил другой. – Может, то и есть самый настоящий бандит. У него и сейчас, наверное, с собой обрез. Днем пашет, а ночью нашего брата стреляет. Вишь, вишь, как посматривает в нашу сторону…
– Вы уж сами себя-то не пугайте и не настраивайтесь против каждого мужика, – усмехнулся Елагин.
– Ну, а вот вы, товарищ лейтенант, скажите: вот этот, который вон на нас смотрит, бандеровец или нет?
Елагин оглянулся на пахаря, но не стал всматриваться в него, тут же отвернулся.
– А кто ж его знает. На лбу не написано.
– Вот то-то и оно, – сказал солдат таинственно, и все как-то машинально подтянулись, стали идти кучнее.
В хутора квартирьеры не заходили – нечего им там делать, осматривали хаты в деревнях, узнавали, сколько человек живет, и после этого решали, кого поселить в ней. Оставляли на дверях и воротах условные знаки и шли дальше. В хату заходили не все: двое шли с лейтенантом, двое оставались на улице. Встречали их настороженно: одни боялись бандеровцев (а те рядились в разные одежды, могли для маскировки надеть и нашу форму), другие боялись советской власти, «бильшовыкив», третьи дрожали при виде и тех и других – запуганные и всему верящие.
В одной хате им попался разговорчивый старикашка. Сразу не выпустил их, попросил «побалакать» с ним. Этот больше всего боялся колхозов.
– Вот скажить мени: шо оно, такое и на шо воно? – спросил он и приготовился внимательно слушать. Старик этот, видать, был еще и не очень древний, но зарос такой длинной волосней, что был похож на лесного Пана – белый, кудлатый, глазки маленькие, узко посаженные, въедливые. Усы и борода вокруг рта закопчены табаком. – Можете вы объяснить?
– Да скоро сами увидите. Его везут на двух тракторах – он такой огромадный!.. – начал было отшучиваться Хованский, но лейтенант остановил его:
– Не надо.
– Кого везуть? – старик уставился на Хованского. – Ты, хлопче, голову мне не дури. Я хоть и чудаковатый дид, але не зовсим дурный.
Елагин принялся рассказывать, что такое колхоз, чем это хозяйство выгоднее единоличного. И тут старик не выдержал:
– Кому ж оно выгода? Так я роблю на земли, шо выробив – усе мое. А там? Я тако ж роблю на земли, а коло мене ще скилько нахлебников: председатель, агроном, зоотехник, пиротехник, булгахтер, паликмахтер, счетовод, птицевод… А? Они ж не роблют на земли, а хлиб и им давай. Яка ж тут выгода? И кому? Этим техникам? А так я сам соби и председатель, и булгахтер, а птицевод – вон старуха. Ни, тут шось не тэ… закрутил старик головой, достал кисет, стал сворачивать цигарку.
Лейтенант терпеливо слушал, усмехался, снова начал толковать.
– Ну, а завод, где есть директор, главный инженер, счетоводы и рабочие, – это вас не смущает?
– Так то ж завод! – поднял старик палец. – Там выробляють машины, там много специяльностей.
– Вот. А колхоз – это тот же завод, только земледельческий, и у него много специальностей. Во-первых, у него много земли, во-вторых, у него большое хозяйство – много машин, тут уже старик со старухой не управятся.
– Ну, добре. Слипый казав: побачим.
– Побачите, – кивнул Елагин.
В дверях старик спросил:
– А шо то вы малюетэ крейдою?
– Солдаты будут у вас жить.
– Солдаты? А як я зотру ваши малюнки?
– Будете отвечать по суровым законам военного времени.
– Ну, тоди не буду. Я пошуткувал.
– А я – нет, – сказал строго Елагин, и они ушли. Уже на улице лейтенант выругался: – Чертов клещ. Все он понимает, прикидывается только.
За три дня, пока они ходили из дома в дом, смотрели квартиры, намечали, где быть ротной канцелярии, а где – штабу батальона, в каких домах разместится первый взвод, в каких – второй, соображали, чтобы было и не тесно, и удобно для связи и для руководства подразделениями, – пока все это они делали, много было разных встреч. Каждый новый дом – это новые люди, новый мир.
Однажды, постучав в дверь и не получив отклика, Елагин нажал на нее плечом и вдруг отпрянул назад: перед ним стоял молодой парень – бровастый, пышные шевченковские усы длинными вожжами свисали по краям рта до самого подбородка. Руки заложены назад, глаза сверкали злобой.
– Разрешите войти? – спросил лейтенант миролюбиво.
– Не разрешаю, – рявкнул тот сердито.
– Но нам нужно.
– Не пущу!
– Почему?
– Не пущу, и всэ! Надоилы! Тут вам не казарма.
– Ого! Вы и немцам так отвечали? – лейтенант старался быть спокойным, но по голосу чувствовалось, что он уже на взводе.
– А при чем тут немцы?
– Да при том, негодяй, что им ты не посмел бы так ответить, ибо знал, что тут же получишь пулю в лоб. А когда пришли свои, так ты…
– «Свои», – презрительно скривив губы, парень передразнил Елагина.
– Ах ты мерзавец! – лейтенант был ошарашен. Он оглянулся на Гурина и Хованского и на самой высокой ноте крикнул: – Арестовать!
Те подскочили, перекинули из-за плеча автоматы, взяли на изготовку. Усатый побледнел, глазки его забегали пугливо. На крик выскочила из комнаты женщина – то ли мать, то ли сестра, запричитала, заплакала:
– Ой, пан офицер… Товарищ командир, простить його, простить – воно ще мале, нерозумнэ, говорыть – самэ не зна що. Проходьте, будьтэ ласкави.
– Усы до пупа и все еще «нерозумнэ»? – Елагин вошел в дом, Гурин последовал, за ним. – Видал, хоромы какие! Кулачье проклятое. – Он оглянулся на хозяйку, сказал: – Десять солдат здесь будет жить!
– Так, так, пан офицер, так, нехай будэ… То добрэ! – соглашалась она и все просила простить ее сына.
Выходя, лейтенант посмотрел презрительно на усача, спросил:
– Почему не в армии?
– Я хворый… У мэнэ язва, – сказал тот покорно.
– Язва? Что-то по физиономии не похоже. У меня язва, но разве сравнить мою с твоей? Однако я в армии. Завтра же чтобы пошел в военкомат. Понял?
Парень кивнул.
– И смотри мне, без фокусов! – лейтенант потряс перед самым его носом длинным костистым пальцем. – А то быстро схлопочешь!
Так днем квартирьеры делали свое дело, а к вечеру возвращались в город. Вечера были длинные, и они коротали их вокруг стола под висящей над ним керосиновой лампой – дулись в подкидного дурака. Карты нашлись у хозяек дома, и они обе охотно играли с солдатами «на высадку».
Однажды в разгар игры в дверь кто-то постучал. Все насторожились. Лейтенант с хозяйкой подошли к двери, она спросила:
– Хто там?
– Та я, Марыся!.. – послышался девичий голос. – Пустите до вашей хаты.
– О, Марыся! – Хозяйка взглянула на лейтенанта, пояснила: – Сусидка наша, – и открыла дверь.
В комнату вошла молоденькая, как девочка, женщина. Она сняла наброшенный на голову платок, тряхнула головой, и длинные светлые волосы ее аккуратно рассыпались по плечам и спине. Она была красавицей, и все, ослепленные ее красотой, стояли словно остолбенелые и молча смотрели на нее.
– О, сколько у вас хлопцев. Хочь бы мне одного дали! – Говор ее был слегка с польским акцентом, и это придавало ей обворожительную изюминку.
– А хиба у тэбэ нэма? – спросила молодая хозяйка.
– Так, нэма… Кто ж пидэ до моей халупы? Одна кимнатка, – Марыся шутила, мило улыбалась, глазки ее, по-детски невинные, светились неподдельной радостью.
– Садитесь с нами… Вот, развлекаемся, как можем, – первым из военных подал голос лейтенант. И тут, словно очнулись, заговорили все, стали наперебой приглашать ее к столу.
Гурин был ближе всех к ней, отодвинул свой стул, сказал:
– Пожалуйста…
Она, бросив на него мимолетный благодарный взгляд, села и тут же снова вскинула свои реснички:
– Декуе… – и, смеясь, перевела, произнося по слогам: – Спа-си-бо! Хорошо?
– Вам трудно говорить по-русски? – спросил Гурин.
– О нет! Интересно. Люблю! Будем играть в дурака?
– Вы умеете? – вскочил Хованский, расплываясь перед ней сладкой улыбкой.
– Да, конечно!
– Коля, на ноги не наступай, – бросил ему Гурин. Но тот не обратил внимания на предупреждение и намека не понял, а может быть, сделал вид, что не понял, продолжал отвлекать внимание гостьи на себя:
– Давайте сыграем! Я очень люблю с красивыми девушками играть…
«Вот гад, уже и комплимент подбросил!» – беззлобно позавидовал Хованскому Гурин и решил сбить его со стартовой дорожки:
– …и оставаться в дураках.
– От такой девушки, как Марыся, с радостью! – не растерялся тот.
– О, я плёхо играю, – сказала Марыся.
– Ничего, соглашайтесь, я буду вашим консультантом, – сказал Гурин и взглянул на Марысю. Та согласно улыбнулась, и Гурин на правах консультанта приставил свою табуретку вплотную к ее стулу. Марыся тут же подвинулась к нему и нечаянно коснулась плечом его руки. От этого прикосновения Гурина словно током ударило: голова хмельно закружилась, глаза затуманились, в горле запершило. Чтобы скрыть свое состояние, он смотрел в ее карты, но ничего не видел. А Марыся, прежде чем пойти, трогала пальчиками то одну, то другую карту и взглядывала на него:
– Так?
Гурин, ничего не соображая, машинально кивал, она выбрасывала карту и, смеясь, льнула к нему, благодаря за подсказку. И всякий раз от ее прикосновения Василия окутывал дурманящий туман, он готов был броситься на нее и расцеловать. Она будто чувствовала это и в самый опасный момент вдруг вскидывала на него глаза, предупреждала: «Не надо! Держись!», а сама под столом крепко-крепко прижималась коленкой к его ноге.
Хованский выигрывал и радовался:
– Марыся, увольте своего консультанта, он вас губит.
– Нет, консультант хороший, то ученица плохая, – и она ласково поглядывала на Гурина.
Муки Василия кончились где-то за полночь.
– Ой, уже поздно! Мне пора, – Марыся накинула платок и направилась к двери.
Он бросился за ней:
– Провожу вас… Там ведь ночь… – и они быстренько нырнули в дверь.
– Гурин! – предупреждающе прокричал ему вслед лейтенант, но ответить ему Василий был уже не в силах.
Как только вышли за калитку, Марыся подхватила Гурина под руку и, ежась от прохлады, прижалась к нему. И теперь, уж не имея больше сил сдерживаться, он обнял Марысю обеими руками и стал целовать ее как безумный. Она отвечала ему страстно, гладила его щеки, шею. Наконец она первой опомнилась, прошептала:
– Что же мы?.. На улице…
Они подошли к ее домику, Марыся открыла дверь и, взяв ласково Василия за руку, ввела в комнату. В темноте он остановился у двери, она обернулась к нему, обняла за шею, и он увидел совсем близко ее блестящие глаза:
– Милый!.. Любимый!.. Коханый!..
Гурин снова впился в ее губы, она прильнула к нему, прижалась крепко…
«Боже мой, как сладка, как радостна любовь! Какое это счастье – любить и быть любимым!..»
…Только на рассвете Гурин вспомнил, что ему надо возвращаться «домой», и сказал об этом Марысе. В ответ она стала его страстно целовать и просить, чтобы он ее не оставлял.
– Приходи вечером.
– Конечно, любовь моя!
Они долго не могли расстаться, наконец он освободился из ее объятий и побежал. Переполненный радостным чувством, как никогда счастливый, Василий не видел перед собой дороги, не чувствовал утренней прохлады – перед глазами была только она – Марыся! А на губах горели ее поцелуи.
У калитки своего дома он поднял голову и увидел лейтенанта Елагина. И вдруг в голове все как-то крутнулось, а на душе стало горько: нарушил дисциплину!..
– Не стыдно? – покачал Елагин головой. – Вот уж от кого не ожидал так не ожидал. Комсомолец!.. Старший сержант!
– Простите, товарищ лейтенант…
– Да разве дело в «простите»? Голова ты беспутная: тебя ведь могли бандеровцы прихлопнуть. Как этого не понять! А вдруг там засада?
– Нет… – сказал Гурин, хотя вдоль спины пробежал запоздалый холодок страха: все, конечно, могло быть. «Но нет, Марыся не из тех, она меня любит…»
– «Нет». Ты знаешь? Я вам не сказал, чтобы дураков не пугать: минометчики вчера наткнулись на бандеровцев недалеко тут, под самым городом. Перестрелка была. Те убежали в лес. Хорошо, из наших никто не пострадал.
– Но при чем тут Марыся? Она любит меня. И я ее люблю… Это по-настоящему, всерьез, поймите, товарищ лейтенант…
– Эх, молодо-зелено… А воинская дисциплина, да еще в военное время?
– Простите, товарищ лейтенант… Иван Иванович, ну накажите меня, я готов понести любое наказание, но только поймите…
– У тебя ведь дома наверняка осталась любимая девушка? Как же ты будешь ей в глаза смотреть? Или надеешься, что война все спишет? Не надейся. А Маруся – сестра из госпиталя? Где же все-таки она, та настоящая твоя любовь?
Гурин хотел назвать Марысю, но почему-то не решился и промолчал.
– Ты Пушкина любишь, а он писал: умейте властвовать собой. Мудро. Ладно, иди спать, – сказал Елагин строго. – А насчет наказания я подумаю.
Гурин прошел в комнату, тихонько разделся, чтобы не разбудить спавших на полу соседей, лег с краю, натянул на себя шинель.
– Приполз, донжуан? – проворчал сонным голосом Хованский. – А лейтенант тут с ума сходил, целую ночь на улице дневалил из-за тебя. Я уже хотел идти за ноги тебя притащить домой.
Гурин ничего не сказал, закрыл глаза, стал думать о разговоре с лейтенантом, о Марысе…
Растолкали Гурина, когда уже завтрак был на столе. Вскочил он, прячет глаза от ребят, от хозяев, чувствует себя как нашкодивший кот. Особенно перед лейтенантом виноват: первый помощник и так подвел.
После завтрака лейтенант приказал собираться:
– Все вещи забирайте, ничего не забывайте: мы, может, уже сюда не вернемся.
«Как так – не вернемся. А я ж Марысе обещал, что вечером приду… Шутит лейтенант?»
Во дворе Гурин спросил у Елагина:
– Куда мы? Опять по деревням?
– На станцию, – сказал лейтенант. – Сегодня должен прибыть батальон.
Они вышли за ворота и повернули направо, а Марыся живет в левой стороне. Оглянулся Гурин, увидел заветный домик, екнуло сердце: вот он, совсем рядом, домов пять всего пробежать в обратную сторону… Смотрит Гурин на маленький, будто игрушечный, домик с палисадничком, огороженный штакетником, с наличниками на оконцах, и подмывает, тянет его туда неодолимая сила.
– Гурин, не отставай, – лейтенант махнул рукой. – Мы и так опаздываем.
На станции Елагин узнал у коменданта о батальоне и повел свою команду на дальний запасный или тупиковый путь, к какой-то погрузочной платформе, куда они добирались сквозь царство поездов на путях: лезли на четвереньках под вагонами, перебирались через тормозные площадки, пока наконец нашли своих.
Гурин прибежал в свой взвод. Будто сто лет не виделись: радостные крики, объятия! Зайцев, Харламов! А вон лейтенант Исаев своих разведчиков муштрует: строит, пересчитывает. Подбежал Гурин к нему, обнялись. Лейтенант Максимов стоял в сторонке, в кучке офицеров, о чем-то трепались и громко смеялись. Тут же высоченный Долматов, рядом с ним Максимов кажется коротышкой, будто Пат и Паташон.
– Товарищ лейтенант! Старший сержант Гурин явился для продолжения службы во вверенном вам взводе! – от избытка чувств Гурин доложил витиевато и громко.
– Является черт во сне, – тут же поправил его Максимов и ударил по плечу: – Здорово! – И они вдвоем направились в свой взвод. – Ну, как ты тут под командованием «пчеловода»? – смеется Максимов.








