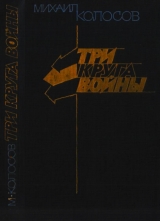
Текст книги "Три круга войны"
Автор книги: Михаил Колосов
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 30 страниц)
– А плечо болит… И рука вот не действует…
Врач стала ощупывать плечо.
– Больно? Больно? Так больно? А здесь?
– Здесь больно…
Врач протянула Гурину руку:
– Давите. Крепче. Крепче! Еще крепче! Ничего. Кость цела, задето сухожилие. Недельку походите на ЛФК. Сестра, Гурина на ЛФК. Одевайтесь.
Обидно Гурину и стыдно: даже не забинтовали. Пулей насквозь продырявили – и за неделю зажило. Удивительно!
Гурина единственного из всей команды направили в тринадцатую палату. «Палата» эта располагалась в доме почти на самом краю села, нашел он ее быстро – по огромным черным номерам, написанным сажей прямо на стенах.
Госпиталь располагался в бывшей немецкой колонии, точно такой же, будто родные сестры, как и та, где стоял батальон выздоравливающих: улицы широкие, дома просторные, с большой посреди комнаты печью. Вокруг у стен солома. Очень теперь уже знакомая и привычная для Гурина обстановка.
На соломе там-сям лежало несколько человек раненых. Гурин остановился на средине, оглядывал комнату – выбирал себе место поудобнее: чтобы было светло, тепло и по ногам не ходили.
Скособочившись, словно на левом плече у него лежал тяжелый груз, в накинутой шинели, с вещмешком в правой руке, он долго не мог решить, куда лечь. Наконец выбрал, пошел, на ходу громко спросил:
– Земляков случайно нет?
– Откуда?
– Из Донбасса.
Никто не отозвался, – значит, нет.
Принялся Гурин мостить себе гнездо: обмял солому, выровнял, под голову побольше положил – вместо подушки, уселся на эту «подушку», привалился к стене. Грустно почему-то сделалось, тоскливо, одиноко. Выпростал из мешка полевую сумку, достал из нее бумагу, карандаш, начал писать письмо матери. «Дорогая мама! У меня все хорошо, все нормально, я снова ранен, нахожусь в госпитале. Ранен пулей навылет в левое плечо. Но ранение совсем легкое, уже даже и бинты сняли. Так что не беспокойтесь и не пишите мне на этот адрес – наверняка письмо ваше меня уже здесь не застанет. А что долго не писал – простите: мы неделю целую по грязи шли пешком в госпиталь. Теперь вот пришли, и я сразу пишу вам письмо…»
Письмо получилось большое – все описал. Про Танюшку, Алешку спросил, им привет передал. Бабушке привет, тете Груне…
Вспомнил родственников, разжалобился и стал писать письма всем. Бабушке в первую очередь. Как же это он до сих пор не написал ей ни одного письма? Свинья… Бабушка такая хорошая у них, заботливая, она ведь обязательно, в этом Гурин уверен, приходит к матери, успокаивает ее, и плачут вместе. Написал ей трогательное письмо, поблагодарил за все ее заботы о них. Потом тетке Груне – материной сестре – написал, тоже вспомнил все ее хорошие дела, наверняка и ее растрогал. Не забыл и крестную, тетку Ульяну. Перед ней повинился за то, что грушу обносили, что скворчат однажды выдрал из гнезда, а ей – спасибо за доброту…
Накатило что-то такое на Гурина, сам не поймет что. Чем больше писал писем, тем больше раздирала душу щемящая тоска.
Хорошо – принесли обед, и он свое занятие прекратил: пять треугольников настрочил, никогда такого не бывало.
Двое солдат, видать из выздоравливающих, внесли в дом бачок с супом, поставили на средине, один из них скомандовал:
– Налетай!
Но налетать никто не стал. Не спеша зашуршали соломой, загремели котелками.
Третий солдат в белой простыне принес хлеб.
– Сколько вас тут? – спросил он и, не дождавшись ответа, сам принялся считать. – Двенадцать.
Отложил на холодную плиту на газету дюжину кусков, и тут же все трое удалились.
Раненые один за другим подходили к бачку, долго мешали черпаком суп и, прежде чем наполнить котелок, ворчали недовольно. Подошел и Гурин, поставил котелок на пол, взял утопленный в мутную жижу черпак, взбуровил им содержимое бачка – зачем-то же другие это делали? Может, там на дне куски мяса… Но масса была однородной до самого дна. Плеснув себе два черпака, Василий вернулся на свою постель.
Суп был жидкий и невкусный. Может быть, ему это только казалось после сравнительно сытной дороги, но есть он его не стал. Вытащил из вещмешка сало, которое выменял на казенную телогрейку, принялся грызть прямо от целого куска: ножа у него не было, просить же у соседей не хотелось.
Закончив трапезу, он повесил вещмешок и полевую сумку на гвоздь, вбитый в стену над головой, вышел на волю. Походил по двору, дальше идти было некуда, да и грязь непролазная, вернулся снова в «палату», достал Швейка, принялся перечитывать.
К ужину почти все места в «палате» заполнились, стало гомонливее. Да и народ, видать, подбирался сюда не очень болезненный – никто не стонал, не жаловался на боль. Разговаривали, рассказывали друг другу какие-то случаи, ругали немцев и восхищались их подготовленностью к войне: котелки, ножи-ложки – все удобное, сапоги, ремни, подсумки – все кожаное. Откуда только это у них?
– Откуда, откуда! Всю Европу покорили, – говорил один.
– «Европу, Европу»! – возмущался другой. – Пошел ты в ж… А Европу что, голыми руками он брал? Или, может, в Европе табуны лошадей и коров ходят? Это у нас были табуны. А где кожа – никто не знает. Кругом кирза отдувается. Ты скажи другое: немец – он хозяйственный, у него даже дерьмо даром не пропадет – все в дело пускает. Ну и готовились, конечно, к войне как следует. Все предусмотрели.
– Все, да не все.
– А что?
– Катятся назад!
– Ну, это дело другое. Иван разозлился! Теперь он попрет! Если доживем, посмотрим на ту Европу.
– Очень она нужна. Я думаю – мы только до границы.
– А там? Гитлер только этого и ждет. А потом очухается и опять начнет. Нет, браты, до конца падлу раздавить надо. Я бы устроил им то же, что они у нас, пусть бы узнали.
– Хорошо бы…
– А я бы заставил их восстановить все, – вступил в разговор третий. – Все, что разрушили, сожгли.
– А людей сколько они угробили! Это как ты восстановишь? Нет, мы сами восстановимся, а их всех подчистую.
– И детей, и женщин, и рабочих?
– «Рабочих». А это кто в окопах сидит и в нас стреляет? Кто вешает, хаты жжет, города взрывает? Капиталист? Хватит, не верю я им.
Пришел майор – замполит начальника госпиталя. Накинулись на него с претензиями, с жалобами на плохую кормежку. Майор выслушал внимательно, дал всем выговориться, потом спокойно сказал:
– Претензии ваши справедливы, но тон мне ваш не нравится. Будто вы не солдаты, не бойцы Красной Армии, а какое-то наемное войско, которому обещали определенную мзду и не дали. Я вместе с вами ем эту, как вы говорите, баланду. Временные трудности с подвозом. Вы можете это понять? Ну, а представьте: мы попали в окружение и отрезаны от всего?
– Но мы же не в окружении?
– Нет, в окружении. Нас окружила непролазная распутица. Фронт ушел далеко, тылы растянулись. Вы же сами шли в госпиталь, видели, что делается на дорогах… Так кого же винить? Мы – солдаты, и это надо твердо помнить: здоровые ли, раненые ли – все равно солдаты. Плохо, трудно. Но эти трудности временные, неделя, может – две. А сейчас положение у нас сложилось тяжелое. Сегодня плохо, завтра будет хуже: у нас хлеб на исходе. А в госпитале есть тяжелораненые, лежачие. Вам легче – вы ходячие, выздоравливающие. И пришел я к вам с просьбой – помочь госпиталю, помочь своим же товарищам. Здесь в поле обнаружена неубранная прошлогодняя кукуруза. Нам надо пойти и собрать початки, вымолотить из початков зерно и смолоть на ветряной мельнице. Такая мельница есть в соседнем селе – сохранилась в целости.
Майор ходил размеренно по комнате взад-вперед, чуть склонив голову, говорил ровным голосом, ни на кого не глядя. И только когда доходил до дальнего угла и поворачивал в обратную сторону, к двери, он всякий раз взглядывал на полевую сумку Гурина, и Гурин пожалел, что вывесил ее напоказ. «Отберет, скажет: не положено», – забеспокоился Гурин.
– Вот такое наше с вами положение. Но предупреждаю: дисциплина строгая, военная. Никаких отлучек, никаких самоволок, никакой партизанщины. Кто у вас старший? – и он почему-то посмотрел на Гурина. – Кто старший палаты?
– Да нет у нас… – отозвался кто-то.
– Вы – сержант? – спросил майор у Гурина и кивнул на полевую сумку.
– Нет.
– А откуда у вас сумка?
– Еще прошлый раз в батальоне выздоравливающих старший лейтенант, комсорг батальона, мне дал. Я агитатором там был.
– Ты – комсомолец? – с какой-то радостью в голосе спросил майор.
– Так точно.
– Как твоя фамилия?
– Гурин.
– Вот, Гурин. Назначаю тебя старшим палаты. Чтобы была дисциплина, чистота и порядок. Дневальный должен быть в палате. В наряд назначать будешь – на кухню или еще куда потребуется. Одним словом, – майор сжал кулак и потряс им, – дисциплина! С тебя спрос. Понял?
– Понял.
Он вскинул голову, обратился ко всем:
– Вопросы есть? Нет. Хорошо. Значит, мы поняли друг друга. Утром после завтрака идем на работу. Все. Добровольно, но обязательно, – майор впервые улыбнулся. – До свидания. Спокойной ночи.
– До свидания, – вразнобой ответили несколько человек.
– Да, положеньице!..
– Ну, а что сделаешь?
– А сумка-то сработала!
– Он все смотрел на нее, я думал, отберет, – признался Гурин, все еще огорошенный таким поручением.
– Это старшина, если увидит, отберет. Те любят отбирать. «Не положено!» – и весь разговор. Так что ты ее спрячь, пока цела.
– Ну, теперь уцелеет: раз майор ничего не сказал, значит, считай, разрешил.
Утром Гурину предстояло решить труднейшую задачу – поднять больных людей на работу. Двое добровольцев сходили за завтраком – принесли бачок с супом, хлеб и по кусочку сахара. Ели без особой ругани – знали, почему такой скудный паек. А Гурин с каким-то непонятным волнением ждал конца завтрака и про себя все время подбирал те слова, которые он должен будет сказать солдатам. Вот стук ложек все реже и реже, уже начали по одному, по два выходить в коридор мыть котелки, а он все еще не придумал нужных слов – необидных, нужных, не командных, но обязательных. Наконец решился:
– Ну что ж, товарищи, пора!
– Куда спешить? – послышался ответ. – Команды еще не было.
– Какой команды? Вчера же ясно было сказано! – И, не дожидаясь новых пререканий, Гурин объявил: – Дневалить останется, кто себя плохо чувствует и не может идти на работу. Кто не может? Говорите без стеснения и честно. – Воцарилась тишина. Он подошел к солдату, который все время тяжело дышал, а ночью даже постанывал. – Вы как себя чувствуете?
– Неважно… Крутило всю ночь. И температурил… Но я пойду.
– Зачем же? Оставайтесь дневальным. Пол сумеете подмести?
– Сумею…
– Кто еще больной? – спросил Гурин.
– Все больные. Пошли, чего там, – помог ему кто-то из дальнего угла.
– Пошли, – сказал Гурин громко, почти скомандовал, но тут же смягчил голос, напомнил: – Захватите с собой вещмешки, – и направился к выходу. Когда больше половины уже собралось во дворе, он не стал ждать остальных, не стал считать, кивнул: – За мной. Догонят…
Гурин решил положиться только на совесть людей, не торопить, не командовать, не стоять над душой у кого-то. Не хотел он слишком ретиво пользоваться властью: подчиненные его – народ все-таки необычный, больные, а командир он – случайный, временный, такой же солдат, как и все. Тут могло помочь только воздействие на совесть, на сознательность.
К канцелярии они пришли не первыми, но и не последними. После них еще тянулись другие палаты. Майор поторапливал отстающих:
– Побыстрее, побыстрее… – У Гурина спросил: – Твои все вышли?
– Все, – сказал он уверенно.
– Хорошо.
В кукурузе еще лежал снег – тяжелый, ноздреватый, ноги проваливались глубоко – до самой земли. Солдаты заняли по рядку и шли, обрывая повисшие на желтых стеблях початки. Многие початки были уже без зерен, их выпотрошили либо птицы, либо зайцы, но на долю солдат осталось еще предостаточно. Приспособив кто как сумел на себе вещевые мешки, они оголяли от листьев золотистые, величиной с доброе полено початки, отламывали, откручивали их от стеблей и запихивали в вещмешки. В конце загонки стояла подвода, солдаты опорожняли в нее свои мешки и шли в обратную сторону.
Народу собралось много, настроение создалось бодрое. Шутили, подтрунивали друг над дружкой. И все было бы хорошо, если бы не погода…
Неожиданно наплыла низкая черная туча, заволокла все небо, подул холодный ветер, а потом, ко всему, пошел снег пополам с дождем. Сначала на него не обращали внимания, думали, туча скоро пройдет, но она не проходила. Солдаты промокли, и пришлось работу прервать.
В расположение вернулись замерзшие и промокшие, но каждый принес с собой по нескольку отборных початков – больших, с крупными, как лошадиные зубы, зернами. Вскоре «палата» наполнилась душистым запахом жареной кукурузы, а на плите началась такая стрельба, будто шло генеральное наступление. Зерна громко шпокали, и, разворачиваясь белыми шляпками, они разлетались в разные стороны, обстреливали комнату, забавляя солдат. А когда стрельба прекратилась, в комнате воцарился сплошной хруст – раненые, даже те, кто раньше и понятия не имел о кукурузе, все грызли горячие зерна, похваливая их вкус и запах.
Один из гуринской «палаты» все-таки сачканул – не пошел на работу, и теперь он единственный сидел без дела. Дневального засыпали и жареной кукурузой, и початков ему набросали, а того будто не замечали. И сидел он затаившись, как-то отчужденно, ни на кого не глядя. Гурин взял початок, подошел к нему, бросил на солому:
– Возьми.
Скосил глаза на Гурина пожилой солдат, упрекнул сурово:
– Слишком добренький, командир.
– А может, у него рана разболелась, – без тени иронии сказал Гурин.
– Он сообщил тебе об этом?
– Постеснялся, наверное.
«Сачок» слушал перепалку, от неловкости ерзал, не знал, куда глаза девать, наконец стал оправдываться:
– Да нет, я выбежал, а вас уже не видно… Куда идти – не знаю, и вернулся…
– Долго же ты собирался, – не унимался пожилой.
– Ничего, не последний раз. Там осталось еще и на его долю, – сказал Гурин примирительно.
Один раненый решил кукурузу сварить. Обшелушил початок в котелок, залил водой, поставил на плиту. И как только закипела, принялся пробовать, не готова ли. Но кукуруза была твердой, чтобы сварить ее, нужно большое терпение. А ему было невтерпеж, пока зерна размягчились, он почти все их и съел, осталось на донышке, и только теперь он окончательно распробовал новый для себя продукт.
– А по-моему, она вкусная! Жить можно! Вот попробуйте, – и он подносил каждому по нескольку зерен на ложке. – Ну, верно ведь – вкусно?
Поднес и Гурину.
– Да я ел ее во всяких видах, – сказал он солдату. – И кашу, и суп, и мамалыгу из нее пекли – вместо хлеба ели. Пироги пекли – слой кукурузного теста, слой бурака, натертого на терке. Как пирожное. В оккупации только кукурузой и спаслись от голода.
– Э, вот почему ты с такой охотой повел нас на кукурузное поле! – Солдат доел кукурузу, лег навзничь, принялся ковырять соломинкой в зубах. И вдруг громко произнес: – Удивительно: ел мясо, а из зубов почему-то выковыривается кукуруза.
Все засмеялись – оценили шутку.
Вечером пришел майор, поинтересовался самочувствием, поблагодарил за работу:
– Молодцы. Дружно и хорошо поработали. – Он взял с плиты щепотку жареной кукурузы, захрумкал вместе со всеми. – Вкусная. И дух у нее хлебный.
Ушел довольный.
А народ в тринадцатой палате и в самом деле подобрался хороший: друг друга не подводили, от нарядов не отлынивали, не фискалили. Со временем некоторые проторили дорожки в соседние деревни, и Гурин на свой страх и риск отпускал их на этот запрещенный начальством промысел. А что было делать? Паек их был голодным, а тут все-таки поддержка. Разрешая такие увольнения, Гурин просил солдат не подводить ни его, ни своих товарищей: в деревне вести себя как следует и вовремя возвращаться. Установилась некоторая даже очередность на походы в села – чтобы не все сразу. И поэтому каждый знал: если он задержится, другой уже не сможет пойти, будет взбучка от товарищей посильнее, чем от старшего но палате.
Майор, наверное, догадывался о таких проделках тринадцатой палаты, но, поскольку у них все делалось «умно», он старался не замечать. По его хитрым взглядам Гурин видел, что майора провести трудно. Но и тому придраться было не к чему: на работу выходили как штыки, от нарядов никаких отказов не было. Что ни поручат – все исполняют в лучшем виде. Солдаты тоже ведь не дураки, знают: сделают здесь как следует, легче будет там смотаться. А попади в немилость, станут придираться, проверять, переклички устраивать – и пропала свобода.
Одним словом, госпитальная жизнь наладилась, солдаты приспособились и к ней и были даже довольны. Ходили на перевязки, работали, сами себя обслуживали, добывали себе пропитание, жили.
ЛФК Гурину помогал мало, тем не менее он регулярно и с удовольствием ходил туда, и даже чаще, чем требовалось: там он познакомился с симпатичной девушкой Марусей – лупоглазой, розовощекой и стеснительной. Особенно щеки поражали его, не щеки, а два спелых помидора.
Когда Маруся брала в свои нежные ручки его вялые пальцы и осторожно начинала их сгибать и разгибать, ее щеки загорались, будто красные фонарики, а глазки поблескивали и норовили смотреть куда-то в сторону. В эти минуты у Гурина перехватывало дыхание, сердце учащенно колотилось и поднималась температура. Уже во время третьего сеанса он не выдержал, привлек Марусю к себе здоровой рукой и впился губами в ее пухлые губы. В ответ Маруся легко и податливо прильнула к нему. Гурин сначала растерялся от такой неожиданной взаимности и обрадовался. Осмелев, он обнял ее крепче. С тех пор Василий уже не только не пропускал ни одного сеанса, но частенько бегал «на лечение» даже после отбоя.
Гурин полюбил Марусю, и она его любила, дошло до того, что они перестали таить свою любовь от других. Когда потеплело, когда просохли и позеленели пригорки, они часто уходили с Марусей далеко в поле, ложились там под холмиком, целовались под неумолчный звон жаворонков, которые, будто специально для них, парили над ними и без устали пели свою радостную песенку весны. Маруся лежала навзничь, смежив от солнца глаза. Ее веки слегка подрагивали и губы – нежные, розовые – тоже слегка подрагивали, он склонялся над ними и целовал, целовал, Ласкал ее теплое бархатное тело и снова целовал, она отвечала ему страстно, крепко обнимая.
– Маруся, – шептал он, – как я люблю тебя! Я не могу жить без тебя.
– И я… – отвечала ему Маруся.
– О, если бы не война!..
– Да…
– Ты меня будешь ждать?
– Да, милый, да… – и она целовала его в губы, в нос, в глаза.
Удивительная весна была! Гурину буквально везло во всем. Майор был в восторге от его «палаты», ставил ее дисциплинированность в пример другим, Гурин расцветал от этой похвалы.
Один раз только у Гурина случилась неприятность, это когда в его «палату» пришли двое новичков. Один – здоровенный парень-красавец с прямым крепким носом, голубыми умными глазами и русым волнистым чубом. Гордый, знающий себе цену. Одет он был в немецкий маскировочный халат, и по этой одежде всем сразу было видно, что он – разведчик. А раз разведчик, значит, к нему и отношение уважительное. Другой, его напарник, наоборот, был низеньким, некрасивым: безбровый, с белыми, как у поросенка, ресницами. Вертлявый какой-то и подхалимистый – все заглядывал в глаза разведчику, все норовил опередить его желания. И хихикал постоянно, как дурачок.
В первый вечер они о чем-то долго шептались, а утром на работу не поднялись. Гурин растолкал сначала маленького.
– Ты чё, – продрал тот поросячьи глаза.
– На работу пора.
– На какую работу? Я что, в колонию попал? Я – р-р-раненый! Я, курва буду, сейчас глотку перегрызу!.. Не видишь? – забрызгал слюной новичок, слезы выдавил, лицо сделал свирепым.
Гурин смотрел на него, ждал, когда он перестанет истеричку разыгрывать.
К Гурину подошел старик, посоветовал:
– Брось, не связывайся. Пойдем.
Ушли, а новички так и остались дома. Разведчик даже головы не поднял.
Как они день жили, чем занимались – никто не знает. Однако Гурину такая анархия не понравилась, и он решил их проучить.
В «палате» уже установился обычай не делить варево – все брали сами, кому сколько захочется. Делили только хлеб и сахар. А тут, когда вечером принесли бачок с кукурузной кашей, Гурин решил разделить. Он взял черпак, встал у бачка и начал нагружать посудины налево и направо, поглядывая на новичков. Видит – подошел безбровый и подставляет котелок. А Гурин, будто не замечает его, продолжает накладывать в котелки другим солдатам. Безбровый занервничал, зашел с одной стороны, потом с другой, принялся нервно постукивать котелком о бачок.
– Не стучи, не в ресторане, – сказал Гурин и спросил громко: – Кто еще не получил?
– Я… Я не получил, – задергался безбровый.
– А ты тут при чем? – удивленно спросил Гурин.
– Ка-ак при чем? – перекосил свой рот безбровый. – Где мы находимся? Мне что, не положено – питание?
– То, что тебе положено, еще везут, – сказал Гурин. – Госпиталь наш сидит без продуктов. А это мы сами себе заготовили. Собрали в поле кукурузу, ободрали, смололи и сами сварили. Вы же утром не пошли на работу? А теперь, друг, на чужой каравай рот не разевай. Иди ложись и жди, когда привезут, что тебе положено.
Заморгал, заморгал безбровый куцыми ресницами, завихлял головой вправо-влево:
– Да я… Да я, курва буду!.. Я тебя сейчас схряпаю – только пуговицы выплюну!
– А ну, пошел вон! – Гурин замахнулся на него черпаком. – А то сейчас как схряпаю вот этой чумичкой промеж твоих поросячьих глаз – долго потом не очухаешься. Разыгрываешь тут из себя психа! Ты еще исполни вокруг бака танец живота, тогда, может быть, получишь каши. У тебя должно это получиться.
– Нет, ты видал? Нет, ты видал? – призывал тот себе на помощь разведчика. – Нет, ты видал? Над нами издеваются!
– Николай, прекрати! – рявкнул на своего напарника разведчик.
Безбровый вернулся на свое место, грохнул котелком о пол, выругался:
– Ну, курва буду!
– А ты, старшой, не прав, – сказал Гурину разведчик. – Мы же не знали такое положение, Надо было объяснить.
– Объяснял утром.
– Извини, не слышал. Так устал вчера.
Гурин бросил черпак в бачок, сказал:
– Ладно, берите, ешьте.
Безбровый тут же вскочил, подобрал с пола котелок, навалил в него каши до краев, понес на свою постель. Разведчик повернулся на другой бок, достал немецкий нож с ложкой и вилкой, отщелкнул ложку, и они вдвоем принялись есть. Безбровый что-то помыкивал набитым ртом, не разобрать было, может, он просто от удовольствия издавал какие-то звуки.
Ночью они опять о чем-то шептались, спорили.
А утром их сосед, молоденький паренек, со страхом передал Гурину разговор новичков. Будто безбровый сказал разведчику:
«Неправильно поделил. Себе все желтенькие, забрал, а мне одни беленькие, штамповку».
«Молчи! Какие там желтенькие? Одни только и попались».
«Врешь. Штук пять».
«Цыц!»
«Не поделишь поровну, курва буду, продам! Ты первый заставил стрелять. Мне дадут штрафную, а тебя шлепнут, как пить дать».
«Цыц! Или я тебя сейчас так приголублю, что утром, не проснешься. Завтра поговорим».
– Да чепуха! – сказал Гурин солдату. – Трофеи, наверное, не поделили.
– А при чем тут «штрафная», «шлепнут»?
– Это псих все, наверное, стращает. Ты же видел, какой он. Не обращай внимания.
– Слушай, старшой, – подошел к Гурину разведчик. – Ты не поверишь, но у меня что-то рана разыгралась. Позволь мне остаться, к врачу пойду, – и смотрит на Гурина такими голубыми, такими честными глазами, что у Василия не то что недоверия к нему не осталось, а захотелось помочь этому хорошему парню.
– Ну что ж, конечно, оставайся.
– Я свое наверстаю, ты будь уверен.
– Да ладно… О чем речь?
Безбровый заметался нервозно вокруг разведчика:
– Ты что, остаешься?
– Болит страшно, – поморщился тот, изобразив мучительную боль.
Безбровый посмотрел недоверчиво на своего друга, кинулся было к Гурину, хотел тоже, наверное, отпроситься, да не решился. Пошел вместе со всеми на кукурузу.
А вечером, когда вернулись, разведчика на месте не оказалось. Дневальный сообщил, что он пошел в деревню и просил передать Гурину: «Пусть старшой не беспокоится, к отбою вернусь». Там у него вроде знакомая.
– Ну и ладно. Молодец, что предупредил.
И вдруг как завопит не своим голосом, как затанцует на своей соломе безбровый:
– Ушел, гад! Смылся! Забрал все! Ну, курва буду, продам! Сейчас пойду в Смерш.
И тут как раз майор появился на пороге. Услышав шум, послушал, ничего не понял, спросил у Гурина:
– Что случилось?
– Сам пока не знаю, мы только что пришли с работы.
Увидел безбровый майора, кинулся к нему:
– Товарищ майор, это бандит, – указал на пустую постель разведчика. – Он все часы унес, все золотые, а мне оставил вот, – и он растопырил ладони, на пол упало несколько часов. – Он самострел… Но я не виноват, он первый заставил меня стрелять в себя, а потом… Я не хотел, а он сам прострелил мне руку… Честное слово… – безбровый стал размазывать по лицу и слезы и сопли. – Ушел, гад, унес все…
Майор оглянулся, приказал дневальному:
– Вызовите сюда дежурного и двух солдат из наряда.
Побежал дневальный. И пяти минут не прошло, примчался наряд.
– Арестуйте, – приказал им майор, указав на безбрового. Посмотрел на Гурина, качнул укоризненно головой: – Что же ты? Проморгал…
После этого Гурин еще недели две прокантовался в госпитале и с первой же партией выписанных отправился на пересыльно-распределительный пункт.
Тяжело ему было покидать этот госпиталь – в нем он оставлял свою любовь, Марусю, Как она, бедняжка, плакала последние дни, когда он был назначен на выписку! Они уходили с ней к своему холму, слушали своего жаворонка, говорили друг другу ласковые слова, любили друг друга напоследок, она целовала его горячо и плакала, плакала…
Провожала она Гурина до самой переправы у Большой Лепетихи. Тут они поцеловались последний раз у всех на виду, она сошла на обочину и осталась стоять, пока колонна не перешла на другой берег. Там он оглянулся, отошел в сторонку от колонны, помахал ей шапкой:
– Прощай, Маруся!..
Но разве услышит? Днепр широкий, говорливый – все заглушает. Вода в нем мутная от весенних потоков, ворочается, будто спина гигантского чудовища.








