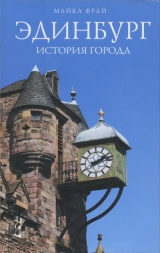
Текст книги "Эдинбург. История города"
Автор книги: Майкл Фрай
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 33 страниц)
Скотт написал замечательный роман об Эдинбурге; Хогг написал еще более выдающийся, «Мемуары и признания раскаявшегося грешника» (1824). За пределами города и страны книга остается малоизвестной, и все же это один из лучших шотландских романов, построенный чрезвычайно изящно.
«Мемуары» недооценили еще во времена их публикации. С одной стороны, они оскорбляли утонченные вкусы современного высшего общества своим местным колоритом. С другой стороны, постоянные сомнения, высказываемые автором в адрес пресвитерианства, в глазах верующих делали его спорщиком-безбожником. И то и другое вместе привело к тому, что книга оказалась забыта почти на столетие. Затем, в 1947 году, вышло новое издание, с хвалебным предисловием французского писателя Андре Жида. Почти ничего не зная о Хогге, а также о шотландской истории и литературе, Жид подошел к этому произведению непредвзято. И прочел книгу, «с каждой страницей испытывая все большее потрясение и восхищение… Насколько я помню, мне уже очень давно не случалось быть настолько захваченным какой-либо книгой, испытывать от нее такие сладостные мучения». Более поздние критики согласились с ним. Теперь готические ужасы, безжалостная сатира на религиозную нетерпимость и лицемерие, анатомический разбор тоталитарного менталитета, откровенное изображение преступности и проституции, пристальный анализ психических расстройств и шизофрении получили всеобщее признание. Это произведение, богатое не только содержанием, но и формой, которой свойственны отзвуки романтической поэзии, а также такой литературный прием, как призрачные двойники доппельгангеры, смесь трагедии с комедией через иронию, символизм и игру слов. [317]317
A. Gide «Introduction» to Cresset Library Edition of J. Hogg, Private Memoirs and Confessions of a Justified Sinner(London, 1947), IX.
[Закрыть]
Хогг действительно затрагивает вопросы религии, но с точки зрения искусства, а не теологии. Стимулом является кальвинистская ересь – антиномизм, утверждающая, что Божью волю нельзя осуждать даже тогда, когда совершаются самые гнусные преступления, поскольку она предопределяет спасение. Эта сухая логика оживает в сложном взаимодействии действующих лиц и происшествий, при этом большая часть событий происходит в Эдинбурге перед самым заключением Унии в 1707 году. В воздухе ощущается такое напряжение, что, просто пройдя по Солсбери-Крэгз, можно испытать галлюцинации, тогда как Старый город становится великолепной декорацией для еще более серьезных обманов восприятия и исчадий разума. В один из моментов истории враждебные друг другу толпы вигов и якобитов мечутся туда-сюда по переулкам и дворам, исчезая и вновь появляясь, и наконец сталкиваются и дерутся, две группы, принадлежащие к одной и той же стороне. Они понимают, что совершили, только тогда, когда им, окровавленным, побитым, покрытым синяками, оказывают помощь одни и те же врачи. Такова суетность человеческого восприятия и дела человеческие в целом.
В произведениях Уилсона подобной глубины никогда было, но при этом именно ему в те времена достались внешние атрибуты серьезного интеллектуала. Отметим, что он почти не пытался преподнести студентам какие-либо знания по нравственной философии, а лекции ему писал один из услужливых приятелей. Если он и сыграл какую-то роль как педагог, то это происходило скорее в его собственном салоне, в доме на Энн-стрит. Без сомнений, его друзья-гуляки приходили туда тоже, но все же эти вечера носили скорее богемный характер, благодаря присутствию людей искусства, живописцев и скульпторов. В бесшабашных «Ночах» порою обнаруживается и другая сторона Уилсона как человека восприимчивого, в том числе и то, что он был знатоком шотландской художественной школы. Он сдружился с живописцами Александром Нэйсмитом, Генри Реберном и Дэвидом Уилки, а также со скульптором Джоном Стиллом.
Нэйсмит продолжил традицию, уже столетие практиковавшуюся шотландской школой, а именно: поехал совершенствоваться в Италию. Там он делал копии работ старых мастеров в тех городах, где они выставлялись. Для отдыха он писал собственные картины, в которых изображал окружающие сельские пейзажи. Как замечал журнал «Блэквуде», его зрелые шотландские пейзажи, в основном изображавшие горные районы Шотландии, но иногда и Лотиан, демонстрировали «гениальное владение перспективой». Тем не менее если в этих картинах неправдоподобно много солнечного света, а свет выхватывает деревья настолько темно-зеленого цвета, что можно принять их за кипарисы (которых на его прохладной родине быть не может), причиной, возможно, явилось итальянское влияние. Позднее, изучив французскую и голландскую пейзажную живопись, Нэйсмит стал ближе к северному реалистическому стилю. В результате он приобрел классическую сдержанность, которой придал романтический оттенок, и это сочетание стало его собственным оригинальным стилем. Он считал, что повторяет природу: «Чем ближе к ней, тем лучше», – говорил он. Когда Нэйсмит скончался в 1840 году, Уилки сказал: «Он был основателем пейзажной школы в Шотландии и, благодаря своему вкусу и таланту, многие годы успешно выполнял патриотическую миссию – обогащал родной край изображениями романтических пейзажей». [318]318
A. Cunningham. Lives of the Most Eminent British Painters(London, 1879–1880), I, 459–489; II, 6.
[Закрыть]
Реберн также провел некоторое время в Италии. Он стал мастером портрета и, вернувшись на родину, с готовностью изображал на холсте великих и достойных людей Эдинбурга. Если нам сегодня может показаться, что мы знакомы с ними лучше, чем с шотландцами любых других эпох, то это благодаря живому и откровенному искусству Реберна. Его внутреннее чувство заставляет в этом сером городе изображать то, как в действительности выглядят модели, и не подчиняться каким-либо предубеждениям по поводу того, как им полагается выглядеть. При этом удается показать не только физический, но и нравственный облик; он рисует их характеры, а не просто черты лица. Наиболее интересны для него те, кто успел пожить и чье лицо отражает прожитый опыт, – например, женщины в возрасте. У него отлично получались и вожди горных кланов, грубоватая мощь которых проступала сквозь внешний лоск, нанесенный ради соответствия столичным вкусам, – это живописный аналог того, что в литературе делал Скотт в романе «Уэверли» или в поэме «Дева озера». Что касается самого сэра Вальтера, Реберн создал два его портрета, первый из которых изображает юношу, неугомонного поэтического гения, готового ярко вспыхнуть в этом мире, а второй – человека пожилого и умудренного, которого невзгоды сделали еще более гуманным. Роберт Луис Стивенсон писал, что Реберн способен «мгновенно преодолеть всю скрытность и смущение модели и представить лицо человека ясным, открытым и умным, таким, каким оно бывает в наиболее свободные мгновения жизни». [319]319
R. L. Stevenson. Virginibus Puerisque(London, 1881), 114.
[Закрыть]Если он романтичен, то не сентиментален. Он не упрекает и не высмеивает. Живописца и его моделей объединяют общие установки и ценности. Здесь классическая шотландская культура предстает на всеобщее обозрение.
В главе 21 романа «Антиквар» (1816) Скотт отдает должное третьему художнику, бывавшему в салоне на Энн-стрит: «Внутри домика можно было видеть сцену, которая могла бы стать картиной нашего Уилки, чьи очаровательные полотна отличает тончайшее чувствование природы». Уилки ответил, что после этих слов «чувствует себя в долгу», поскольку «невидимой рукой в „Антикваре“ Вы возвысили меня и назвали меня, скромного живописца печалей нашей родины, своим соотечественником». Такая скромность была для художника типична. Родившийся в Хоу-оф-Файф, в семье священника из области Калтс, молодой Уилки переехал в Лондон, чтобы изучать искусство портрета, – в этом он преуспел, пусть и не добился таких выдающихся успехов, как Реберн. И все же его портрет Скотта с семейством в Абботсфорде стал шедевром непритязательной сдержанности, признанный в Шотландии за сочувствующее понимание частной жизни, но оскорблявший вкусы в Англии тем, что изображена на нем «вульгарная группа», недостойная «элегантного поэта». Это стало для Уилки направляющим моментом, и он обрел подлинный талант в жанровой живописи, где изображал сцены домашней жизни неизвестных персонажей. Здесь он возродил стиль, практически исчезнувший в европейском искусстве со времен золотого века голландской живописи. Его картины интересны не только, как композиции, но и своим социальным контекстом, который может быть комичным или трогательным. Такая живопись бывает чрезмерно сентиментальна, но этого Уилки избегает. Его образы правдиво передают натуру, для них характерно мягкое отношение к человеческой природе. Скотт в литературе был склонен делать то же, что Уилки – в живописи. [320]320
Ch. 2; Cunningham. Lives, II, 6.
[Закрыть]
Наконец, еще одним преимуществом для салона Уилсона стало то, что, как отмечалось в «Ночах», Шотландия делала большие успехи даже в скульптурном искусстве. Большим признанием владельца салона пользовался молодой скульптор Стилл. К тому моменту, когда его выбрали в качестве автора портрета Скотта, который будет создан в 1840–1846 годах и размещен затем в огромном памятнике на Принсес-стрит, многие другие уже успели стать поклонниками его творчества. По контрасту со стройной готической оболочкой памятника, напоминающей ракету, сама фигура сэра Вальтера, сидящего в компании оленьей борзой по кличке Майда, поражает непритязательностью, которая была свойственна и самому писателю. Поздние произведения Стилла в Эдинбурге или еще более выразительны, как, например, фигура королевы Виктории на фронтоне Шотландской Королевской академии и конный памятник герцогу Веллингтону перед Реджистер-хаусом, или более почтительны, как памятник Джеффри в здании парламента и статуя принца Альберта в центре Шарлот-сквер (за который королева удостоила скульптора рыцарского звания). Наконец, в садах Принсес-стрит-гарденс Стилл создал памятник Уилсону после смерти того в 1854 году, в котором, пусть и в камне, сумел отчасти передать бурный характер этого человека. У Уилсона было много недостатков, но несомненным достоинством можно считать то, насколько удачно он выбирал, каких художников приглашать в свой салон на Энн-стрит. Все они живы для нас, поскольку показывают нам подлинную картину Шотландии в допромышленную эпоху, без искажений и сентиментальности: Нэйсмит – ее пейзажи, Реберн – ее народ, Уилки – сцены из повседневной жизни, Стилл – ее монументальные достижения. [321]321
Blackwood’s Edinburgh Magazine, 48 (1830), 128; J. Gifford, C. McWilliam and D. Walker. Buildings of Scotland: Edinburgh(London, 1984), 123, 287, 289, 293–294, 314–316.
[Закрыть]
* * *
Просвещенный Эдинбург оставался приятным местом, несмотря даже на то, что теперь он вступил в свой серебряный, а не золотой век. Только Карлейлю этого было недостаточно. Не прошло и года с той трезвой ночи в салоне на Грейт-Кинг-стрит, как он бросил столицу и вернулся к своим корням, в Крагнипиттох в Дамфрисшире. Нужда заставила его переехать, поскольку зарабатывать литературным трудом удавалось мало, но он и его жена Джейн поддержи-вали отношения с эдинбургскими друзьями. В Крагнипиттохе проблемы решить не удалось. В 1834 году они совершили более решительный шаг. Карлейль первым из гениальных людей счел, что Шотландия слишком мала для него, и более подойдет ему бурная лондонская жизнь, соответствующая требованиям духа новой эпохи. Все шотландцы, игравшие в предшествующие пару столетий сколько-нибудь важную роль в социальной или интеллектуальной жизни, бывали в Лондоне, как бывали и в Париже или Риме, и все же они всегда ехали туда с намерением впоследствии вернуться назад. Карлейль заложил новую традицию: он уехал навсегда и с тех пор приезжал на родину лишь ненадолго.
Но следует отметить, что Карлейль в Эдинбурге никогда не был счастлив. Он родился в 1795 году в семье бедных тружеников, относившихся к церкви «бюргеров старого света», которые верили, что большая часть человечества обречена гореть в аду. Карлейль покинул родной дом в четырнадцать лет; пешком прошел 100 миль, чтобы в столице получить образование и стать священником в своей секте. За него тревожились, опасаясь, что городская жизнь нарушит его религиозное благочестие. Его мать писала: «Дочитал ли ты уже Библию? Если дочитал, начинай снова». Когда он ответил, что взялся за другие книги, «итальянские, немецкие и прочие», о которых она никогда не слыхала, мать огорчилась: «Я молюсь о том, чтобы твоя учеба была благословенна… Изучай прежде всего религию, Том». Она уже предчувствовала в нем те сомнения, которые впоследствии приведут его к отказу от представлений о том, что спасение может прийти посредством какой-либо церкви. [322]322
J. A. Froude. Thomas Carlyle, a history of the first forty years of his life(London, 1890), I, 65.
[Закрыть]
Но хотя Карлейль и не смог оставаться членом секты бюргеров, он всегда почтительно относился к кальвинистской Шотландии: «Страна, где весь народ охвачен, или даже хотя бы однажды был охвачен, беспредельной религиозной мыслью, сделал шаг, который уже невозможно вернуть. Мысль, сознание, ощущение человека, как обитателя Вселенной и создателя вечности, проникла и в самые простые сердца». Шотландцы пришли к почитанию Бога через свой разум, а не через ощущения или чувства, как другие племена: «Мысль в такой стране может изменить форму, но не может уйти; в этой стране возникло мыслящее большинство, и некоторое одухотворенное сословие, готовое на любой посильный человеку труд, останется здесь и не сдастся». Не удивительно, что у Карлейля даже в студенческие годы вызывали протест те формы, которые мысль обретала в безбожных проявлениях эпохи Просвещения. На университетских лекциях «незанятые юные умы наполняли многословными рассуждениями о развитии видов, о темных веках, предрассудках и тому подобном». Но это учение показалось Карлейлю слишком самодовольным в либеральном соглашательстве и поверхностной телеологии. Оно не могло напитать его духовно. Более того, Просвещение, по крайней мере позднее шотландское просвещение, из-за своей ограниченности и самодовольства стало невыносимо. Лондон также не решил его проблемы. [323]323
T. Carlyle. «Sir Walter Scott», London and Westminster Review, 12 (1837), 42; Froude. Thomas Carlyle, I, 14–33; II, 95, 214.
[Закрыть]
Потеря Карлейля была весьма ощутима для города, но Эдинбург смог жить и без него. В одном отношении город мог бы порадовать великого социального критика того времени. В отличие от других городов Шотландии или Британии, он не пострадал от последствий промышленной революции. И все же быстро рос. На протяжении XIX века население выросло в четыре раза и превысило 400 000 человек к переписи 1911 года (затем ситуация изменилась, рост замедлился, и население так и не достигло полумиллиона). Площадь города, в результате семи переносов границ, увеличилась втрое. Дело было не только в том, что из-за перенаселенности центра стали развиваться прилегавшие к нему окраины. Город поглотил и окружавшие его большие открытые пространства: холмы Брейд, холм Блекфорд, холм Корсторфин, холмы Креглокхарт, даже часть холмов Пентленд. Как только появились железные дороги, строительство новых районов началось в отрыве от города, и, отделенные открытыми пространствами, возникли пригороды в Баритоне, Колинтоне и Корсторфине. Территориальные потребности Эдинбурга учитывали будущую урбанизацию далеко за пределами Старого и Нового городов. При этом большая часть зеленых массивов осталась нетронутой или, самое большее, была превращена в поля для гольфа. [324]324
Census of Scotland 1901, Parliamentary Papers 1904 СVIII.
[Закрыть]
Экономические и социальные перемены продолжались, но до конца века столица сохраняла многие черты, проявившиеся в его начале. Эдинбург оставался городом интеллектуалов, представителей либеральных профессий в целом, а также городом, куда поместное дворянство отправлялось вести дела или тратить деньги. Остальная часть населения зарабатывала на жизнь тем, что обслуживала нужды элиты. Это были ремесленники, обеспечивающие изготовление товаров, купцы, ими торговавшие, множество прилежных клерков, целые армии верных слуг, работники, которые рубили дрова и таскали воду, и, наконец, беднота, жившая на то, что оставалось от прочих сословий.
Если не считать того, что значительная часть горожан была образованной, мало чем можно объяснить тот факт, что издательский бизнес и печать стали краеугольным камнем местной экономики. Локхарт замечал, что в его времена английские авторы посылали свои произведения в Эдинбург, тогда как в прошлом авторам шотландским приходилось свои отправлять в Лондон. В шотландской столице работали такие крупные британские издатели XIX века, как Адам и Чарльз Блэки, Уильям Блэквуд, Уильям и Роберт Чамберсы, Арчибальд Констебл и Томас Нельсон; некоторые из этих издательств существовали и в XX веке, до тех пор, пока не были поглощены сегодняшними транснациональными концернами. Экономический рост и социальное развитие способствовали росту спроса на книги во всем Соединенном Королевстве, но одно это обстоятельство не могло сделать одно место более привлекательным для издательства, чем остальные.
В пользу Эдинбурга говорила высокая доля образованного населения. Один мужчина из сорока был практикующим юристом (тогда как в Глазго – один из 240), один из шестидесяти работал в сфере искусств и увеселений (по сравнению с одним из 135 в Глазго), один из 100 – учителем (по сравнению с одним из 200), один из 100 был священником (по сравнению с одним из 300), а один из 300 – ученым (по сравнению с одним из 500). [325]325
Census of Scotland, Parliamentary Papers 1883 LXXXI; C. Booth. «Occupations of the People of the United Kingdom 1801–1881», Journal of the Royal Statistical Society, 49 (1886), 414.
[Закрыть]Рассматривая вопрос шире, можно привести слова критика Роберта Муди, который находил, что «интеллект, сосредоточенный в низших классах, у рабочих людей – явление отрадное». Он был весьма поражен следующим: «когда я посещал публичные библиотеки, то видел, как классические или философские книги брали читать мужчины в фартуках», – речь о рабочих. Огорчавшийся из-за пьянства, свойственного представителям этого класса, он все же с восхищением наблюдал, как «человек откладывает фартук, чтобы обратиться к трудам Адама Смита, поспорить с Мальтусом или вынести свое суждение о судьях „Эдинбургского обозрения“, а другой решает математические задачи или создает архитектурные планы». [326]326
R. Mudie. Modern Athenians(Edinburgh, 1825), 276–277.
[Закрыть]Это было практическое проявление народного интеллекта. А еще в те времена, как и сейчас, в Эдинбурге проживали временно приезжавшие туда неимущие литераторы, которым не удалось найти работу, приносящую заработок и соответствующую способностям, – возможно, они и не стремились ее найти. Им было нечего терять, когда они пытались опубликовать свои труды, – самые разные, от стихов до юридических текстов. Кроме того, все жители Эдинбурга жили в стране, где знания считались пропуском в мир прогресса.
И все это никак не объясняет развития в городе другой отрасли, а именно пивоварения. В прошлом семьи сами варили пиво, а теперь его стала производить промышленность. Помимо пристрастия населения к выпивке, другой причиной для этого было достаточное количество зерна и хорошей воды за пределами столицы. Пивовары поддерживали связь с сельскими жителями, поскольку их работа имела много общего с фермерской. Продукция по-прежнему была сезонной, зависела от урожая и цены на зерно, а в качестве транспорта вплоть до Второй мировой войны использовались телеги, запряженные ломовыми лошадьми. Во времена расцвета отрасли в Эдинбурге существовало более сорока пивоварен, выделявшихся в городе среди прочих зданий и имевших три этажа пивоваренных цехов и двор, где располагались погреба, бондарное производство, контора, склады и конюшни. Образцом для всех была пивоварня Холируд, основанная Уильямом Янгером в 1749 году, которая закрылась лишь в 1986 году. Предприятие Янгера развивалось и в середине периода своего существования заняло ведущее место в отрасли в Шотландии (разделив его с пивоварней Теннента в Глазго). [327]327
I. Donnachie. History of the Brewing Industry in Scotland(Edinburgh, 1979), 148, 237–245.
[Закрыть]
Шотландцы предпочитают пить пиво местного производства, правда, сейчас оно уже не настолько отличается от остальных сортов, как прежде. Отличие объясняется технологическими особенностями: ферментация шотландского пива происходит при низких температурах. Производятся два основных типа пива. Одно темное и крепкое, в прошлом называвшееся «нэппи» (хмельное пиво). В стихотворной повести Роберта Бернса «Тэм О’Шентер» есть строки: «Тогда у полной бочки эля, / Вполне счастливые от хмеля», в которых упоминается именно нэппи. Второй тип – малый эль, производимый с помощью повторного использования того же ячменя; он получается намного светлее и примерно вдвое менее крепким; его могли пить все, а не только мужчины, желавшие напиться. Но об эдинбургском пиве остальной мир узнал благодаря индийскому светлому элю (сокращенно IPA, India Pale Ale), выпускаемому на экспорт и достаточно крепкому, что позволяло перевозить его на большие расстояния. Ностальгирующие шотландцы брали его с собой в удаленные края империи, создавая тем самым международный рынок. Хорошее пиво Эдинбурга дополняют отличные пабы. Наиболее старые сохранили (или почти сохранили) тот облик, в котором их знали посетители с 1890-х годов; это «Абботсфорд», «Бэрони», «Беннетс бар», «Кафе ройал», «Кэнни мэнс», «Диггерс», «Дорик таверн», «Энсайн Юэрт», «Гилдфорд армз», «Кенилворт» и «Леслиз бар». Они чище, чем старые питейные заведения, где пол был посыпан опилками и заплеван, но все же ничуть не походили на тот тип пабов, отделанных ситцем, который так любят в Англии. Как отмечал Стивенсон: «Шотландец, поэтичный по темпераменту и не особенно религиозный, будто по зову природы заходит в питейное заведение. Возможно, эта картина и неприятна, но чем еще заняться человеку в такую отвратительную погоду?» [328]328
Robert Burns: Complete Poetical Works, ed. J. A. Mackay (Darvel, 1993), 410; R. L. Stevenson. Edinburgh: Picturesque Notes(London, 1881), 44.
[Закрыть]
Издательский бизнес и пивоварение и составляли все проявления промышленной революции. Кокберн считал благоприятным для города то, что в нем отсутствовало промышленное производство, «то есть высокие кирпичные трубы, черный дым, недоедающие жители, нищие, болезни и преступность – все в избытке. Иногда совершались энергичные попытки сделать так, чтобы и у нас все это было; но заслуживающее всяких похвал провидение до сих пор уберегало от этой напасти. Поскольку, пусть промышленность и необходима, ей не обязательно быть повсюду… Должны существовать города-убежища». [329]329
H. Cockburn. A Letter to the Lord Provost on the Best Ways of Spoiling Edinburgh(Edinburgh, 1849), 5.
[Закрыть]
Что касается жизни общества, то, не считая превратившихся в нуворишей издателей и пивоваров, главенствовали по-прежнему представители классических профессий. Но в ту эпоху они пребывали в состоянии кризиса.
* * *
Медицинский мир Эдинбурга погрузился в кризис после того, как скандал с Берком и Хейром представил врачей людьми бессердечными и алчными. Вполне естественно, что безжалостные хирургические операции пугали, естественно, больных и их родню, при этом шансов на успех операции было сравнительно немного. Может показаться странным, что хирурги усугубляли проблемы, проводя операции на публике, обрызганные кровью, а пациенты при этом вопили от боли, даже если пытались предварительно оглушить себя дозой виски. И все происходило в операционных театрах, набитых любителями извращенных развлечений и молодыми студентами, – у последних, конечно же, не было иной возможности познакомиться с хирургией. Для того чтобы оперируемый не скончался от кровопотери, врачам требовались крепкие нервы и фантастическая ловкость рук, дабы завершить операцию как можно быстрее. Любая ошибка – и они получат на столе труп. Студенты поначалу смотрели в ужасе, но затем, привыкнув к зрелищу, испытывали уже приятное волнение, восхищаясь стремительной и ловкой работой своих наставников. Когда операция, длившаяся считанные минуты или даже секунды, успешно завершалась, студенты радостно кричали и отправлялись праздновать. Когда случалась неудача, от них можно было услышать насмешки. Не удивительно то, о чем мы сейчас только читаем: хирурги, со вспотевшими лбами, погрузив руки в операционный разрез, время от времени поглядывали на лицо пациента – не показалась ли на нем внезапно смертельная бледность. Еще большей опасностью был сепсис, вызванный инфицированием во время операции: об этом врачи не задумывались и вытирали скальпели о полы халатов, уже заскорузлых от засохшей крови от предыдущих операций. Те, кто не скончался от самой операции или от болевого шока, рисковали умереть от инфекции.
Медицинская профессура Эдинбурга практически обожествлялась в операционном театре, в учебных аудиториях и в сфере общественного здравоохранения в целом; как и Другие боги, они часто оказывались капризными. Чума осталась в прошлом, но гнилостная городская атмосфера оставалась благоприятной средой для возникновения новых эпидемий, холеры и тифа. В 1820-х и 1830-х годах смертность росла.
Когда в Лейте в 1832 году началась холера, местный врач Томас Латт нашел средство, облегчающее самые тяжелые симптомы. Он делал больному инъекцию соляного раствора, что впоследствии стало повсеместно применяться в качестве первой помощи при этом инфекционном заболевании. Но тогдашняя эдинбургская профессура отказалась признать достижение Латта, которое позволяло спасти жизни. Во главе стоял Джеймс Грегори, представитель кафедры врачебного дела, потомок научной династии, история которой насчитывала уже два века. Столкнувшись с ужасными симптомами болезни, Грегори сделал вывод, основанный более на древней аристотелевской логике, а не на современной медицинской науке; он решил, что если инфицированный организм, страдая от непрекращающегося поноса, исторгает соль и воду, то в нем имеется излишек этих веществ. Инъекция дополнительной дозы только усугубит положение: «Грегори, человек достаточно разумный, но неприятнейшим образом догматичный, решил для себя этот вопрос, похоже, раз и навсегда, а именно: счел, что описываемое лечение не согласуется с физиологическими принципами, и что оно опасно». Он призвал врачей вместо этого «схватить природу за горло путем кровопускания, холодных обливаний, активного промывания желудка и применения рвотного камня», – эти сильнодействующие методы против холеры оказались бесполезны, если не считать того, что с их помощью пациент быстрее избавлялся от мучений, уходя в мир иной. Никто не последовал примеру Латта, и мучительная смерть унесла тысячи людей. [330]330
A. H. B. Masson. «Dr Thomas Latta», Book of the Old Edinburgh Club, 33 (1972), 143–149; E. D. W. Grieg. «The treatment of cholera by intravenous saline injections, with particular reference to the contribution of Dr Thomas Latta of Leith (1832)», Edinburgh Medical Journal, 53 (1946), 256–263.
[Закрыть]
Возможно, метод Латта был отвергнут не только из-за его необычности, но и из-за того, что у доктора не было достаточного положения в обществе или в научных кругах. Такое мнение подкрепляет и история о том, какой прием получил в Эдинбурге тот, кому весь мир должен быть в еще большей степени благодарен, – Джеймс Янг Симпсон. Выходец из простого народа, он родился в 1811 году в Батгейте, в Западном Лотиане, – тогда это было местечко возле гряды холмов между Глазго и Эдинбургом – и был одним из младших детей скромного сельского пекаря. По внешности он так и остался похожим на крестьянина, но по происхождению имел право на шотландское образование. В четырнадцать лет он пошел в Эдинбургский университет, где сначала учил греческий и латынь, а в то же время читал современных ему авторов, Байрона и Скотта. Двумя годами позже началось медицинское образование, и сразу же он попал в операционный театр. Увиденное привело его в ужас, и он даже подумал, не променять ли медицину на юриспруденцию, но решил продолжать начатое.
Едва получив диплом, Симпсон стал хирургом при родильном доме Лейта. Ему часто по долгу службы приходилось оказываться в смрадных припортовых жилищах бедняков, где бедные, больные или брошенные женщины рожали младенцев. Он ни перед чем не останавливался. Даже в те времена, в самом начале профессионального пути, он задавался вопросом: «Нельзя ли сделать чего-либо такого, чтобы в миг самой острой боли погрузить пациента в бессознательное состояние, не препятствуя при этом свободному и здоровому протеканию естественных функций?»
Пока ему приходилось полагаться только на собственную доброту и заботливость. Вскоре он заслужил репутацию, позволившую начать частную практику, и к нему стали часто обращаться дамы из благородных семейств, которым предстояло разрешиться от бремени.
К 1839 году Симпсон решил, что готов к новому шагу в своей карьере. Когда покинул должность профессор акушерства в Эдинбургском университете, Симпсон выдвинул свою кандидатуру. В профессорских кругах того времени действовали геронтократические стандарты, по которым Симпсон был новичком, а с точки зрения царившего непотизма вообще никем. Главе кафедры акушерского дела не требовалось иметь докторскую степень, но повсюду, от аудиторий Старого колледжа до гостиных Нового города, профессора шепотом говорили друг другу, что Симпсона едва ли можно считать просвещенным ученым, человеком их круга. Пусть он хорошо знает дело, но разве не могут похвастаться тем же самым множество простых повитух, которые в те времена оказывали помощь роженицам в Шотландии и других странах. Для кафедры кандидату недостаточно являться способным практиком; университету требовался человек, имеющий научный вес и знакомый с созданной здесь литературой.
Симпсону удалось преодолеть всю враждебность, с которой отнесся к нему мир профессиональной медицины. Выходец из простого народа, он нашел поддержку в других областях, и в частности, что самое важное, – в политике, где и решился вопрос о занятии должности. На заседании городского совета, на котором он был избран, победу обеспечил перевес в один-единственный голос. Ему предстояло быть профессором акушерства в Эдинбургском университете более тридцати лет, до самой смерти. Все это время, совершая многочисленные научные открытия, ставшие вкладом в медицину, он оставался практикующим врачом, готовым лечить жителей Эдинбурга любого сословия, – это был не только великий, но и добродетельный человек. [331]331
J. Duns. Memoir of Sir James Young Simpson(Edinburgh, 1873), passim.
[Закрыть]
Симпсон стал провозвестником новой эпохи, поскольку опирался на эксперимент, а не на псевдофилософские догмы профессоров прошлых поколений. Заняв кафедру, он начал искать эффективные средства анестезии. Исследования он проводил у себя дома, на Куин-стрит, а «подопытными кроликами» были он сам и его коллеги. Вещества, которые они опробовали, часто давали неприятные побочные эффекты, но 19 января 1847 года наступил великий день – они попробовали эфир. Сев за стол, они выпили по стопке этого вещества, и «немедленно собравшихся охватило редкостное веселье; глаза их засверкали, все почувствовали себя счастливыми и очень словоохотливыми и стали разглагольствовать о прекрасном аромате новой жидкости. Разговор выходил чрезвычайно умный, и слушатели были им просто очарованы». Болтовня становилась все громче и громче, но наконец – «еще мгновение, потом все стихло, и тут раздался грохот». «Подопытные кролики» погрузились в глубокий сон и повалились под стол. Вскоре Симпсон обнаружил, что еще более подходящим средством для анестезии является хлороформ.
Все же, несмотря на эти достижения, Джеймс Сим, наиболее высокомерный представитель старой гвардии, продолжал считать новичка врагом. Перед своими студентами он подвергал труды Симпсона разгромной критике, обвиняя автора в пошлости. Сим не признавал и сам хлороформ, заявляя, что, снизив частоту операций или упростив их выполнение, можно добиться результатов не меньших, чем при использовании веселящего газа. Лишь вмешательство королевы Виктории помогло решить спор в пользу Симпсона. Она сама воспользовалась анестезией, рожая сына в 1853 году. В тот момент уже можно было говорить о том, что пошатнувшаяся репутация эдинбургской медицины спасена. [332]332
R. Paterson. Memorials of the Life of James Syme(Edinburgh, 1874), 261–262; E. B. Simpson. Sir James Young Simpson(Edinburgh and London, 1896), 51, 63.
[Закрыть]








