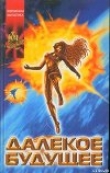Текст книги "Любовь, конец света и глупости всякие"
Автор книги: Людмила Загладина
Соавторы: Ильфа Сидорофф
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 34 страниц)
Тоска
– Вертишься-ворочаешься, заснуть не даешь! Третий час ночи, for God’s sake![89]
– My back hurts[90].
Робин вздохнул. По крайней мере, она еще реагировала на боль. По возвращении в Англию чувство утраты нахлынуло на нее с неимоверной силой. И захлестнуло душу и плоть. «Радость», «волнение», «страх», «удивление», «обида» стали пустыми словами, наборами букв или звуков, не раздражающих и не услаждающих ни зрение, ни слух. Танькино тело не реагировало ни на горячее, ни на холодное, игнорировало ненавистную сырость, хотя во всей летописи изменений погоды на острове вечно влажного климата не отмечалось зимы дождливее нынешней. Жажда и голод стали Таньке как будто неведомы. Могла не есть целый день или пихать в рот неважно что, жевала рассеянно и не понимала, вкусно ли, хоть деликатесами ее накорми, хоть подошвами жареными. Разговаривала крайне редко, скупилась на длинные фразы, а если необходимости не было – могла промолчать целый день. На линди хоп перестала по четвергам ходить, хоть это было, пожалуй, на руку Робину – она ж раньше таскала его туда за собой, и он скрепя сердце плелся чисто из снисхождения. Сам-то он, чтобы держать себя в форме, делал зарядку с гантелями, прыгал через скакалку, а жена все занятия забросила, даже тибетскую гимнастику. «What’s the point, Rob?[91] Ведь и раньше вынуждала себя ради пользы телу, а теперь это тело мешает только». Что она имела в виду, интересно? Пожалуй, из всех ощущений, которые не исчезли бесследно, а наоборот, давали ей знать о себе постоянно, остались только тоска и боль.
– Ты знаешь, отчего у женщины может болеть спина, honey[92], – на Танькино плечо тяжело легла волосатая рука. – Здоровому телу требуется регулярный секс.
– Не надо, Роб, – Танька откинула край одеяла и зашлепала босыми ногами в ванную.
Физическую боль она даже приветствовала. Как извращенный последствиями жуткого опыта мазохист, прислушивалась к своему организму, едва только в нем начинало постанывать где-нибудь: будет ли это симптомом того необратимого процесса, который закончит никчемную рутину раз и навсегда? Она не ходила к врачам, не принимала лекарств – надеялась, станет хуже и останется лишь лечь в кровать, закрыть глаза и тихо ждать, когда придет конец этой боли и вообще всего...
Но боль проходила быстро, лишь тупая досада мрачно тащилась вслед. А с тоской было намного хуже. Тоска уходить и не собиралась, безвылазно сидела внутри и грызла душу, словно голодная собака уже изрядно обглоданную кость.
Танька тосковала по брату. Ее мучили воспоминания об исхудавшем, слабом теле, которому не хватало сил держаться на тонких, как ветки хилого дерева, ногах. Всплывали то виноватое выражение измученного лица, когда она катила его в инвалидной коляске, то ужасный клок кожи с просвечивающей костью и следами тысяч иголок... Иногда эти картины обступали ее так тесно, что она задыхалась, инстинктивно и судорожно глотая воздух. Брат был здоровым, красивым мужчиной – но когда же, когда это было? Танька пыталась напрячь память: каким он выглядел, когда мама была еще жива?
Тоска по Олежке захлестывалась новой волной – набегали образы мамы: впалые щеки, невесомое тело и изумрудные глаза, бывшие когда-то карими, полные обреченности и бесконечной грусти.
Танька тоскливо смотрела в зеркало. Ее глаза, как и на маминых фотографиях двадцатилетней давности, тоже когда-то были карими, а теперь цвет поменялся, но только они не стали зелеными, скорее бесцветными, мутными. И, чтобы их разглядеть, нужно упереться в зеркало. По возвращении из Москвы она снова сделалась близорукой. «Должно быть, потому что я все глаза свои выревела...»
Плакать она давно перестала, будто мешочки-железы, ответственные за производство слез, осушились, безжизненно съежились, а глаза только еще мутнее сделались, цвет у них стал непонятный, и выписанные окулистом новые очки приходилось теперь носить постоянно.
А ведь было время, когда очки вовсе не требовались, хотя врачи уверяли, что Таньке не удастся избавиться от близорукости – последствия скарлатины в подростковом возрасте. Было у нее однажды хорошее, счастливое время, но когда? «Когда это было-то? Когда-то ведь были здоровы Олежка и мама... И бабушка была жива еще. И моя Винька... И сама я летала как будто...» Танька пыталась вспомнить хотя бы один эпизод из прежней безоблачной жизни, но ничего не приходило в явственных образах. Словно она тосковала по прошлому, которого никогда не было. «Счастливое время мне лишь приснилось, наверное».
Вместо счастливых воспоминаний медленно пробуждалось в ней, тяжело поднимая голову, чувство вины, с которой тоска любила шляться рука об руку – и уже две голодные собаки вгрызались в одну кость. Танька винила себя во всех грехах смертных – за то, что не спасла от болезни маму, а вслед за ней не уберегла младшего брата; что не взяла с собой в Англию собаку Виньку и не поехала на похороны бабушки. А еще Танька бичевала себя за племянника – посмела оставить Осю, такого маленького, в Москве без родителей… И словно острым клыком самой голодной собаки пронизывала душу боль, нестерпимая совершенно, когда слабый внутренний голос озвучивал имя: «Варвара...»
Вовсе не убежденность в своей «правильной ориентации» вызывала в ней острый приступ вины перед другой женщиной, хоть она и произносила, как мантру, одну и ту же фразу каждый раз, когда память безжалостно толкала туда, где в новогоднюю ночь хотелось остаться навечно. «Я не лесбиянка, я не лесбиянка, я не лесбиянка...» – твердила она себе, словно дрессированный ара, да без толку, «заклинание» не помогало. Желание очутиться в теплых объятиях и не видеть в глазах напротив ничего, кроме поглотивших все на свете бездонных зрачков, однажды сделалось настолько невыносимым, что Танька едва не бросилась в аэропорт, готовая улететь в Москву первым же рейсом. И улетела бы. Если б только ужасная мысль не пронзила насквозь, обуздав неразумный порыв. Намного сильнее боязни иной сексуальности обуял Таньку страх любви – куда более неукротимой, чем даже та, что бесследно не сгинула вместе с другими чувствами, наоборот, поселилась внутри основательно, но саднила и кровоточила, как постоянный нарыв. Не первый месяц Танька безуспешно боролась с ней: там, где любовь, жди потери. Нет уж, терять кого-то еще из своих любимых она больше себе не позволит, так что ни в коем случае нельзя Варвару любить. Откуда возникло предубеждение, что неизбежна и эта потеря, Танька объяснить не могла – явно не от того, что Варвара была лет на шесть или семь старше, имела избыточный вес и никогда в жизни не занималась тибетской гимнастикой. Танька знала лишь, что «прожить вместе долго и счастливо, а потом умереть в один день» только в сказках возможно. Так что лучше никогда никого не любить и Варвару забыть и не мучиться. Забыть скорее. Забыть, забыть...
«Да к тому же я не лесбиянка», – добавляла она снова вслух непонятно кому.
***
Без десяти шесть звонил будильник. Он это делал каждое утро, и на его дребезжащий звон в голове отзывался трехпудовый колокол: «Не может быть!» Голова непроснувшейся Таньки не в состоянии была сформулировать дальше: «Не может быть – я легла только что?» Или «Не может быть – я проснулась живая?»
За дверью уже бесновалась Кошка, стучала лапой, мяукала, пытаясь допрыгнуть до дверной ручки, а то и разбежаться да распахнуть сплеча. По утрам куда-то исчезала интеллигентность, выработанная за двенадцать лет кошачьей жизни.
Движениями зомби Танька откидывала одеяло, нечаянно пиная что-то мягкое в ногах. Слышался булькающий звук – на пол приземлялся Хрюша, махровый и розовый, с остывшей грелкой внутри. За ночь таинственным образом он перекочевывал под зеленое одеяло с противоположного края широкой кровати, где из-под одеяла оранжевого цвета выглядывали в непонятном порядке волосатые части тела и раздавался размеренный храп.
Танька неслышно прикрывала дверь спальни за спиной, Кошка ревниво обнюхивала босые ноги, удовлетворялась результатом и величественно шагала по лестнице вниз. Отъевшаяся чуть больше нормы, она переваливалась, как бочонок, и, ступая сразу на две передние лапы, цокала по полу когтями, как босоножками на каблуках.
Кухонный шкафчик отворялся на медленном автопилоте, Танькины пальцы скользили по краю пакетика «Кискас», стараясь не разорвать слишком криво. Кошка нетерпеливо ждала, когда его содержимое очутится в глиняной миске, и тыкалась мордочкой в руки любимой хозяйки.
Руки гладили шелковистую серую спинку, Кошка съедала завтрак и бежала по лестнице вверх, прямо в открытую дверь ванной, где, забыв про артрит, солидность и возраст, резво запрыгивала на край раковины. «М-м-м-ну?» – говорила она почти человеческим голосом, выражая свое возмущение по поводу до сих пор не открытого крана. Руки вертели кран, регулируя тонкую струйку, чтобы напором воды не повредить Кошкин розовый язычок; минуту-другую Танька стояла с застывшей улыбкой, с нежностью глядя на славное существо, связанное с ней узами двенадцатилетней привычки и безусловной любви. Но страшным толчком накатывало пробуждение: «Чем больше любишь, тем страшнее терять».
«И ты тоже умрешь когда-нибудь, – мысленно обращалась она к Кошке. – И скорее всего, раньше меня. Вы все, все! Раньше меня умираете». Худые Танькины плечи вздрагивали, и она лезла под душ, не регулируя воду.
Дальше все шло, как в скучных кадрах повторяющегося кино – словно уже много недель подряд она переживала один и тот же – долгий и неприятный – День сурка.
В семь ноль пять дверь захлопывалась за ее спиной и Танька шагала к станции с ноутбуком в руке и сумкой через плечо – по дорожке вдоль коттеджей у ручья, через мостик и дальше, по тротуару вдоль тихих улиц, слыша лишь карканье ворон и слабый внутренний голос, повторяющий всё то же имя... И чтобы заглушить его, считала шаги: «Раз, два... сто тридцать шесть...» Их получалось всегда девятьсот сорок восемь.
Ровно в семь девятнадцать – и ни минутой позже – прибывал поезд, синий с красной полосой на вагонных боках. Пятьдесят минут можно тупо смотреть в ноутбук. В восемь ноль девять – последняя остановка, толпа людей при выходе через пропускники на вокзале... Метро, час пик... Снова толпа, всасывающаяся в однообразные прозрачные двери многоэтажек возле Спиталфилдс-маркета... Танька когда-то покупала там по утрам вкусный кофе у добродушного итальянца. Кофе теперь не хотелось ни утром, ни вечером.
Девять ноль ноль: офис, стол, кресло, окно с видом на стену бетонного здания. Работа – вернее, однообразный и скучный процесс... Свет дневных ламп – странный, бессмысленный в слиянии с пробивающимися сквозь отверстия между домами тусклыми лучами скупого лондонского солнца. Small talk[93] с коллегами, от которого никому нет ни пользы, ни радости... Lunch[94]... зачем-то надо что-нибудь съесть... До семнадцати тридцати – снова однообразный, скучный, никчемный процесс. А потом: улица – толпа – метро – поезд – ноутбук – последняя остановка. От станции до дома...
«Варвара...»
«Раз-два-три... Ночь, улица, фонарь, аптека...»
«Варвара...»
«...десять-одиннадцать...»
«Варва...»
«...двенадцать...
Бессмысленный и тусклый свет.
Живи еще хоть четверть века —
Все будет так. Исхода нет...
«Вар...»
«СТО двадцать пять! Сто двадцать шесть...
Умрешь – начнешь опять сначала
И повторится все, как встарь:
Ночь, ледяная рябь канала,
Аптека, улица, фонарь...
«...»
«Триста шестьдесят, триста шестьдесят один...»
Девятьсот сорок восемь шагов до коттеджей возле ручья.
Стихи звучали вместо давно заглушенных песен, вращаясь вокруг одной и той же строчки: «Умрешь – начнешь опять сначала...» «Какой смысл во всем этом, если главного не избежать никому? Мы все умрем».
Робин встречал ее угрюмым молчанием. После Нового года он потерял работу и целый день торчал дома, за запертыми дверями и окнами, с соседями не общался, в гости не ходил и сам гостей принимать настолько явственно не любил, что всех распугал, да и Таньке не хотелось никого видеть.
– Что ты делаешь целый день? – спрашивала она его вечером без всякого интереса.
– Навожу в доме порядок. Читаю. Учу китайский. У меня куча дел.
«Нафиг тебе китайский? – думала Танька. – Шел бы лучше искать другую работу, – а потом махала рукой и добавляла про себя: – да впрочем, какая разница... Все равно ведь и ты умрешь тоже, так что живи пока, милый, как хочешь».
Ее мысли о смерти вовсе не связывались с приближением Конца Света, хотя разговоры об этом с Варварой то и дело всплывали в памяти. Сам Конец Света теперь казался такой же нелепой выдумкой, как говорящие гномы или полеты над Москвой. «Смерть постигнет каждого, независимо от того, наступит Конец Света или нет, – думала Танька. – Вряд ли все умрут разом, у каждого свой срок, но он ни у кого не бесконечен». Никакого отчета в том, что подобные мысли только приближали страшный конец всё стремительнее, она себе решительно не отдавала.
И без Конца Света все люди виделись ей почти покойниками. Танька не понимала, к чему нужны их стремления, порывы, ссоры, обиды; всё это совершенно теряло смысл перед лицом смерти – всеобщей и каждого человека в отдельности – ведь кому-то из тех, кто вместе радуются или, наоборот, ругаются друг с другом, все равно предстоит умереть раньше другого... «И когда-нибудь я умру тоже», – думала она, почему-то теряя уверенность, хотя иногда ей казалось, будто она уже умерла. Все меньше людей с ней общались где бы то ни было – на работе, в транспорте, в магазине, словно Танькино тело теряло плотность и она становилась прозрачной. Даже муж перестал уделять ей внимание и, уставившись по вечерам в телевизор, не реагировал на ее «Good night[95]».
«А может быть, все же я умерла и это мой ад? Я призрак, через которого кто угодно сможет пройти запросто и не заметить?» – и она замирала в потоке суетливой толпы, ожидая, что кто-то пройдет прямо насквозь. Вежливые пешеходы лишь плавно огибали ее с двух сторон, без слов и лишних движений, как столб посреди тротуара.
«Призрак я или нет, но я тут вроде как совсем одна... – думала Танька, сидя однажды в вагоне метро напротив влюбленной парочки. – И никто больше не разделяет мою реальность».
Влюбленные ссорились. Девушка надувала губки и обиженно пыхтела, что-то ей явно не нравилось в поступках или словах парня, который сидел с нею рядом. Парень молчал, но смотрел на девушку грустно и нежно-нежно, как на редкостный дивный цветок, с которого боязно сдуть пыльцу. Хорошенькое личико девушки все гуще наливалось сердитым румянцем, пока, не выдержав то ли взгляда, то ли молчания парня, она не отвернулась к темному окну, не видя в нем ничего, кроме своего отражения на стекле. В глазах у нее блеснули слезки. Парень продолжал смотреть на ее профиль с трепетом и тревогой – ему вроде пора было выходить, а после этого, может быть, не видеться с любимой целый длинный рабочий день. Очевидно, прощание – пусть даже всего лишь до вечера – стоило ему больших усилий, но она не поворачивала головы. Он виновато погладил ее по коленке и выскочил на следующей станции.
Девушка смахнула слезки и через остановку гордо пошла на выход. Следом направилась Танька – ей тоже нужно было там выходить.
«Выкинь-ка ты его из головы и забудь про ваши дурацкие заморочки, – цинично смотрела она в спину обиженной девушки. – Если любишь по-настоящему, то впереди потери – страшнее чем до конца рабочего дня. А если расстанетесь, то и любви сильной не будет уже. И не будет страха потери. Любовь страшнее смерти, потому что хоть вы и умрете оба, один из вас это сделает раньше».
Танька посмотрела по сторонам, словно пытаясь угадать, кто умрет раньше других, что все обречены поголовно – и так понятно. Мимо нее прошуршал полами длинного пальто мужчина с суровым лицом, и, обогнав, ожесточенно запрыгал вверх через две-три ступеньки движущегося эскалатора.
«Зачем так спешить? Все равно ведь умрешь!» – чуть было не крикнула Танька вслед его стремительно исчезающему затылку.
«И ты умрешь, – мысленно бросила она женщине, нервно дергающей за руку истерично плачущего ребенка в форме ученика частной школы. – И этот мальчишка умрет тоже. Дай бог, повзрослеть к тому времени успеет».
«Ты тоже умрешь! – обратилась она к раздатчику бесплатных газет, зычно возглашающему заголовки последних известий. – Чего орать-то об этом на всю станцию метро? Пусть даже я тут единственная, для кого эти новости абсолютно ничего не значат. Потому что, если я все еще не умерла, то умру когда-нибудь обязательно».
«И ты, – перевела она взгляд на темнокожее лицо с необычными серыми глазами, одновременно поймав себя на мысли, что где-то, кажется, видела это лицо... эти глаза и эту шляпу горшком. – Видела или не видела, в принципе это неважно, потому что и ты умрешь. Все умрут. Рано или поздно».
– А вот фиг! – неожиданно отозвалась обладательница шляпы и серых глаз. – Я не умру, это точно! И насчет тебя самой еще бабушка надвое сказала!
Негритянка в смешной шляпе прошла мимо, бормоча что-то еще на другом, совсем непонятном языке. Танька вросла в цементный пол.
«Я не умру? – безумная, страшная мысль вдруг застонала, завыла, загудела в одну дуду с давно затаившимся страхом. – Я не умру? Почему? Кто я такая, чтоб у меня не было смерти? Я же не бог и не ангел, может быть, я нечистая сила? Черт без копыт? Зомби? Вампир? Или какой-то другой бессмертный монстр? Как эта тетка смогла мои мысли услышать? Кто эта тетка? Кто я?»
– Кто я?.. – повторила она вслух, сама того не заметив.
– Чудо ты в перьях, вот кто! Привет, птица-Танька, – услышала она совсем близко ужасно знакомый голос.
Ярлык
Танька моя... Ну, ужас какой-то, замучилась я… У меня двое детей маленьких на руках, Осе еще пяти не исполнилось, а Грише и месяца нету. Им хорошо, они вместе играют, но не могу же я их без внимания оставлять, боюсь – вдруг Ося Гришу затискает ненароком? Больше за ними приглядывать некому, а ведь мне нужно ходить за продуктами и иногда по делам ездить в центр Москвы на метро.
Варвара ощущала себя великовозрастной версией Ваньки Жукова, сочиняющего письмо «на деревню дедушке». И хоть с высоты своего пятидесятилетнего опыта знала, что конверт с адресом «Таньке в Англию» не отправится дальше московского отделения связи, не переставала строчить эти послания: что если Танька их прочитает каким-то чудом? Она могла совершать вещи куда более загадочные. И сама по себе была полной загадкой, но не такой, от которой, разгадывая, может лишь голова разболеться. Танька была загадкой природы, как солнце или луна, облако или река, восход или закат... А то и больше. Закаты на пустыре напротив Варвариного дома были красочны и удивительны, например, но даже и в красоте своей – привычны и объяснимы. А Танька была, словно двадцать золотистых жирафов на фоне одного из закатов – явлением даже для того пустыря неожиданным, но непреходяще и фантастически прекрасным. От одних только мыслей о ней Варвару переполняло чувство, которое можно было бы ощутить, если, допустим, подойти к зеркалу и увидеть себя восемнадцатилетней. Танька – чудо, таких просто не бывает, огонь, ниспосланный Богом, если только сама не Бог...
Варвара знала, что в любом проявлении жизни и смерти есть смысл, как бы ни было грустно осознавать его в разлуке с Танькой. Находиться всегда с нею рядом было бы равносильно близости к недоступному феномену: жизнь, как правило, такой исключительной роскоши не позволяет. Но стоит дотронуться до того чуда руками, хотя бы один только раз, и вся дальнейшая жизнь в отрыве от него будет казаться невыносимой мукой, а вся последующая жизнедеятельность – направленной лишь на то, чтобы прикоснуться когда-то еще. Письма и были попыткой снова приблизиться к чуду: других способов Варвара пока не придумала. Вот и сидела теперь за компьютером, как собака за дверью подъезда, в который зашел ее хозяин, и порой была не в силах сдвинуться с места – словно ждала, что в ответ на эти послания на экране появится Танькино лицо.
А Евпраксия эта взяла и в окно улетела, может, нарочно, потому что мы ей надоели, а может, ее похитил кто-нибудь, но мне-то откуда знать. Она мне не очень-то нравится, но за Васю ответственность чувствую, раз он жил в моем шкафу, и гномчик, опять же, такой маленький, что с ним делать?
Она перевела взгляд на пол, где Ося и Гриша увлеченно играли в паровоз.
Я не умею детей воспитывать. И Осю я избаловала уже, он меня не слушается, это я, скорее, его слушаюсь.
Ося недавно раскрыл ей «страшную тайну». Оказывается, Танька плакала в то злополучное утро, когда вздумалось ей обратно в Англию улететь, и спрашивала у Оси, не видел ли он папу. «А папа почему-то тогда не пришел, я его тоже звал, – доверчиво сообщил малыш. – У него иногда много дел, и он не сразу приходит, нужно ждать. Я к этому уже привык давно, а мама Таня расстроилась».
«Так вот оно что, – решила Варвара, печально глядя на Осю. – Стало быть, на Таньку именно в тот день нахлынуло страшное осознание. Раньше-то она куражилась только, не приняла, значит, сразу все горе, целиком».
О том, что может человек пережить c потерей кого-то из близких, Варвара знала не понаслышке. Трагедия стучалась не однажды и в ее дверь, хотя время вроде бы залечило скорбь по деду, бабушке и родителям. Бывало, что смерть не проникала в сознание сразу или не принималась душой, но рано или поздно это все же происходило, и трудно потом было справиться с тоской и одиночеством. А одиноким себя после смерти близкого ощущает любой, даже когда его окружают соседи, друзья или родственники. Еще хуже, если никто не окружает либо окружают не те. Так что теперь Варвара жалела сильнее прежнего, что отпустила от себя Таньку. Будь она рядом, баюкала бы ее, ласкала бы – руками, голосом, взглядом – что угодно на свете бы делала, лишь бы не пришлось бедной девочке переживать страшное горе одной. Варвара пыталась узнать Танькин электронный адрес или телефон в Англии, допрашивала Ди, десятки эсэмэсок на Мальдивы и в Индию отправляла. В ответ Ди писала ей о погоде, уточняла, послушен ли Ося и забрасывала «спасибами». Ни телефона, ни адреса Таньки в эсэмэсках этих не было – и даже ни одного слова о ней.
«Может быть, Танька сама попросила Ди, чтобы та ее адреса никому не давала? Может быть, Таньке нужно какое-то время побыть одной?» Такую возможность Варвара с горечью допускала. Оставалось лишь верить, что желание уединения у Таньки пройдет, даже если тоску свою она этим не вылечит, но, по крайней мере, вернется в Москву – к ней и к Осе. Да ну, куда же от своего любимчика денется? Вернется, конечно. А пока... хоть бы письмами глупыми ее отвлечь... успокоить... Эх, докричаться бы...
– Ту-ту-у-у-у! – Ося припарковал паровоз возле дивана и подбежал к столу, зажав в кулачке гнома, как пупсика.
– Варвара! Мы с Гришей кушать хочем. Что у нас сегодня на ужин?
– Не знаю пока, Осенька, надо бы за продуктами в магазин сходить.
– Тогда пойдем поскорее! Как насчет супа гаспачо и бутербродов с авокадо и курочкой?
Варвара послушно надела любимую куртку со шнурками и заклепками, которая свисала теперь с нее, как плащ-палатка, и, проследив, чтобы Ося не вышел из дому без шапки, привычным жестом усадила гномика во внутренний карман. Двух малышей без присмотра она дома не оставляла, так и ходили везде втроем. Ося обычно весело прыгал рядом, держась за Варварину руку, а Гриша тихонько сидел за пазухой. Когда они ездили в метро, пассажиры небось думали, что у нее там котенок, потому что Ося периодически спрашивал «Как он там?», расстегивал молнию сверху куртки, заглядывал внутрь и говорил что-то вроде: «Веди себя хорошо!»
Авокадо в супермаркете не оказалось. А в других магазинах неподалеку не было самообслуживания, и потому как Варвара, по обыкновению своему, не находила контакта с продавщицами, идти туда в поисках авокадо ей совсем не хотелось.
– Ничего! – заключил жизнерадостный Ося. – Можно поужинать без авокадо. Сыр «Эмменталь» купим. И баночку ананасов. Я знаю отличный рецепт, – он сидел верхом на тележке с продуктами и беззаботно болтал ногами.
Неулыбчивая кассирша лениво сканировала упаковки товаров, не глядя на покупателей; очередь двигалась медленно, пока не дошла до Варвары. И тут произошло невероятное: кассирша подняла на Варвару глаза и улыбнулась ей крайне кокетливо. От неожиданности Варвара обалдела. Взяла пластиковый пакет, чтобы покупки сложить, но пальцы лишь бестолково заскользили по слипшимся стенкам. Минуту кассирша наблюдала за ней, улыбаясь, потом взяла пакет из Варвариных рук, подчеркнуто медленно облизала наманикюренный палец, открыла пакет и протянула обратно, продолжая смотреть в глаза. Варвара могла поспорить, что кассирша с ней флиртовала, тем более что, отведя наконец беззастенчивый взгляд, та не переставала стрелять глазками в ее направлении.
«Господи, неужели я теперь явно похожа на лесбиянку? И всем это видно? – забеспокоилась вдруг Варвара. – И ко мне теперь будут приставать женщины?»
Она выбрала в толпе покупателей здоровенного мужичищу с серьгой в левом ухе и криво ему улыбнулась. Тот немедленно отреагировал:
– Девушка, я смешной? А я еще очень полезный, хотите, сумки донести помогу?
Давно ее не называли девушкой, однако Варвара не обольстилась. Схватила пакет с продуктами одной рукой и крепко сжав Осину ладошку в другой, она выбежала из магазина.
«А мужики кое-какие еще находят меня привлекательной, – усмехнулась она, придя домой. – Интересно, а видит ли меня привлекательной Танька? И какой вообще меня видит?»
Варвара подошла близко к зеркалу. Вместо пышной блондинки с кудряшками там уже давно отражалась стройная женщина с темными волосами, волнисто струящимися по плечам. Все одежды висели на ней так же свободно, как белый вязаный свитер на Таньке, когда стояла она в то утро на кухне и казалась такой маленькой и беспомощной... «Какая же ты тонкая вся...» – Варвара улыбнулась в зеркало нежно, словно оно перепутало отражения.
И все же нелепая история с кассиршей странным образом зацепила, и поздним вечером, уложив спать детей, Варвара впечатала в поисковой строке интернета ключевое слово «лесбиянки». На мониторе возник огромнейший «Харлей-Дэвидсон»; верхом на нем, коленями врастопырку, сидели две невообразимо толстые фигуры неопределенного пола: коротко стриженные, почти бритые, головы, кожаные куртки, блеклые джинсы, тяжелые ботинки, татуировки, пирсинг в ноздрях и надпись внизу фотографии: «Настоящие лесбиянки, а не те, на которых вы дрочите, смотря порнуху!»
Варвару аж передернуло. «Во гад, шовинист несчастный!» – со злостью подумала она про автора комментария. Ниже другой идиот оставил свое мнение: «Мужики-геи выглядят в тыщу раз краше!» А «шовинист» все не унимался: «Даже если мотоциклистки сядут на диету и начнут заниматься спортом, то они выглядеть лучше не будут. Куда же денется их нарушенный гормональный баланс?»
«Интересно, как сильно меняется внешность под воздействием гормонального дисбаланса?» – снова встревожилась Варвара и еще раз глянула в зеркало. У нее почему-то никакого желания коротко стричься или протыкать в носу дырку для серьги не было. И лишний вес она не набрала, наоборот, несколько килограммов сбросила за зиму.
Отражение в зеркале излучало истинно женское обаяние.
«Ну а Танька и вовсе красавица, такая вся нежная девочка-эльф...»
Недостатков Танькиной внешности она не замечала в упор. Нездоровая худоба, вечно растрепанные волосы, асимметричные черты лица, порой искажаемые еще сильнее непонятной гримасой ничуть не смущали Варвару. Даже со всеми объективно нелестными характеристиками Танька казалась ей эталонной красавицей, способной сразить наповал кого угодно – мужчину, женщину, ангела или черта. В какой-то степени ей даже хотелось, чтобы Танька была противная, лишь бы никто, кроме нее самой, Варвары, ее больше не любил и не пытался бы, не дай бог, отнять. Она представила Таньку с бритым затылком, располневшей на шестьдесят кило, с татуировками по всему телу – и рассмеялась: «Красавица все равно...»
Я люблю тебя не потому, что ты красивая, и лохматая, и такая хрупкая вся. Если бы ты была толстая, страшная или причесанная волосок к волоску, я бы тебя любила тоже. Даже если бы ты была лысой старухой с клюкой, я бы любила тебя всю – от клюки до лысины – и твое лицо, и твое тело. Больше всего на свете я люблю твою душу, Танька, хоть полюбила ее – во плоти... И когда эту плоть вспоминаю, весь мир пропадает и теряет значение, если можно тебя трогать и обнимать и...................................................
Пальцы замерли на клавиатуре, безымянный запал в одну клавишу, превратив целую страницу в сплошное многоточие, когда окошко с фотографией «Харлей-Дэвидсона» и жуткой фразой «нарушенный гормональный баланс» непроизвольно открылось в нижнем углу монитора.
«О Господи... – пронзила ее нехорошая мысль. – А что если в этом и есть причина Танькиного молчания? Что если она не хочет со мной сближаться опять, потому что боится вот этого гормонального дисбаланса? И ярлыков, которые развешивают шовинисты всякие?..»
Только чужих ярлыков Таньке и не хватало, будто ей недостаточно было своих... Вспомнилось, как когда-то в неуютном белом домике в Измайлово она корчилась от самокритики и со слезами выкрикивала: «Я тощая и противная!» и еще что ее, мол, никто не любит из-за того, что «чокнутая». И хотя Варвара узнала потом, отчего в тот момент у бедной девочки было столько тревоги и беспокойства на душе, сама сцена вдруг показалась немножко комичной. «Глупая девочка, – подумала она, а дыхание будто перехватило от нежности. – Не нужны тебе все эти ярлыки».
Варвара закрыла окно с «Харлей-Дэвидсоном», послушные пальцы вновь легко забегали по нужным буквам:
Жила-была хорошая девочка Танька. Жила – всяко. И скучно, и весело, и печально, и радостно – все как у людей, но составила о себе незаметное мнение, прикрепила его к себе незаметной булавкой и ходила так, с ярлыком; все ее по ярлыку и оценивали.
Где-то рядом жила-была женщина, у которой от жизненных пертурбаций совершенно снесло башку, и не замечала она ярлыков никаких. До того была странная женщина, что даже имя свое позабыла бы, если бы ее им не называли по много раз каждый день. Стояла однажды Танька на улице со своим ярлыком на груди, а та женщина просто мимо шла да вдруг увидела Таньку. Настоящую, прекрасную и красивую Таньку, а не ярлык на ней, ярлыка-то совсем не заметила...
«Вот напишу про нас длинную сказку, – подумала Варвара, потирая уставшие глаза, – и картинок смешных нарисую к ней в ФотоЛёте. Изображу героев, злодеев, ведьм, гномов, чертей, ангелов, может, инопланетян даже и Конька-Горбунка… или нет, пусть там лучше дракон будет, дракон интереснее... И пусть в этой сказке будут загадочные события, приключения, Любовь, Конец Света и глупости всякие».