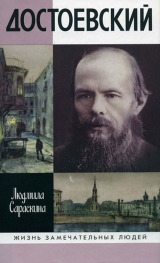
Текст книги "Достоевский"
Автор книги: Людмила Сараскина
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 70 страниц) [доступный отрывок для чтения: 25 страниц]
М. А. Достоевскому было всего 32 года, когда началось его служение в Мариинской больнице для бедных. При главвраченемце Михаил Андреевич был отнюдь не единственный русский лекарь. Здесь служили закаленные недавней войной медики: 45-летний Матвей Козьмич Рожалин, выпускник Медико-хирургической академии – опытный военный доктор, он участвовал в походах против турок, бывал в сражениях при Бухаресте, Браилове, Галаце, Измаиле. Ближайшим соседом и добрым приятелем Достоевского стал позднее эконом больницы Федор Антонович Маркус, родной брат М. А. Маркуса – в 1837-м тот будет назначен лейб-медиком к императрице Александре Федоровне (с особой теплотой вспомнит А. М. Достоевский, как поддерживал сосед-эконом овдовевшего отца). «Все служащие в Московской Мариинской больнице были, конечно, нам знакомы» (А. М. Достоевский). Жены сослуживцев захаживали к молоденькой Марье Федоровне на утреннюю чашку кофе запросто, следуя патриархальным обычаям. «Придут, бывало, часу в 11 утра и просидят до 1 часу. Предметами разговора были базарные цены на говядину, телятину, рафинад... далее про ситцы и другие материи и про покрой платья... Я всегда, бывало, присутствовал при этих разговорах», – вспоминал Андрей Михайлович. Когда его маменька сама ходила на такую же чашку кофе, «прием и беседы были те же самые».
В марте 1821-го, когда супруги Достоевские поселились на Божедомке, они уже знали, что вскоре снова станут родителями: прибавление семейства ожидалось к концу осени. 30 октября роженица благополучно разрешилась от бремени.
«Родился младенец, в доме больницы для бедных, у штаблекаря Михаила Андреевича Достоевского, – сын Федор. Молитвовал священник Василий Ильин, при нем был дьячок Герасим Иванов». Этой метрической записью о рождении из «Книги для записи крещеных и отпетых в церкви Петра и Павла, что при больнице для бедных за 1814—1823 годы» 52, будут начинаться отныне все биографии Ф. М. Достоевского.
Четвертого ноября младенца окрестили. «Восприемниками были: штаб-лекарь надворный советник Григорий Павлов Маслович и княгиня Прасковья Трофимовна Козловская; московский купец Федор Тимофеев Нечаев и купеческая жена Александра Федоровна Куманина. Оное крещение совершал священник Ильин с причтом». Состав крестных объясняется легко: бывший сослуживец отца, сват и свояк Маслович, отец (в его честь скорее всего и был назван новорожденный) и сестра роженицы. Личность княгини Козловской стала известна биографам писателя только полтора века спустя: бывшая крепостная девушка, а потом супруга князя древней фамилии, предводителя дворянства Костромской губернии Д. Н. Козловского, мать троих сыновей – поэта Ивана Козловского, историка-краеведа Александра Козловского и уездного предводителя дворянства Павла Козловского – была хорошей знакомой семьи Достоевских53. Имя младенца Федора соседствовало в «Книге для записи крещеных и отпетых...» с именами умерших в больнице простолюдинов – солдат, солдатских жен, сиделок, вольноотпущенных дворовых, мелких военных чинов в отставке. Воина-великомученика Феодора Тирона, сожженного на костре за веру около 306 года, память которого ежегодно отмечает православная церковь 17 февраля и в первую субботу Великого поста, почитал Достоевский своим святым.
«Я происходил из семейства русского и благочестивого, – писал Ф. М., когда ему было уже за пятьдесят. – С тех пор как я себя помню, я помню любовь ко мне родителей...» И это, конечно, лучшее, что мог сказать об отце и матери писатель, с благодарностью вспоминавший нежные годы своего раннего детства и домашний уклад, где строго соблюдались правила приличия и патриархальные обычаи: Достоевский рос в семье, где присутствовал лад и порядок. Феде был всего год, а Мише два, когда родилась их сестра Варенька; троим малышам необходима была «чистая» (то есть без стирки и уборки – для этих целей имелись горничная Вера и прачка Василиса) няня, и в декабре 1822-го она появилась по найму, на месячное жалованье в пять рублей ассигнациями, – чтобы не просто остаться в многодетной семье на целых 15 лет, а врасти в нее «всею своею жизнью, всеми своими интересами». Нянюшка Алена Фроловна, старая девица необъятной толщины из мещан, гордившаяся, что происходит из вольных, а «не из простых», и важно величавшая себя «гражданкой», станет личностью нарицательной, заслужит яркую, радостную память своих питомцев и «попадет в литературу» (ее имя позаимствует няня Лизы Тушиной в «Бесах»). «Всех она нас, детей, взрастила и выходила. Была она тогда лет сорока пяти, характера ясного, веселого, и всегда нам рассказывала такие славные сказки!» – писал о ней Достоевский. Образ няни, «Христовой невесты» в белоснежных кисейных чепцах с оборками и тюлевых нагрудниках, нюхавшей табак и почитавшей страшным грехом вкушать еду без хлеба, готовой отдать все свои сбережения, чтобы помочь хозяевам-погорельцам (В рассказе о деревенском детстве Вареньки Доброселовой («Бедные люди») обнаруживается еще один след милой няни: «Прибежишь, запыхавшись, домой; дома шумно, весело; раздадут нам, всем детям, работу: горох или мак шелушить. Сырые дрова трещат в печи; матушка весело смотрит за нашей веселой работой; старая няня Ульяна рассказывает про старое время или страшные сказки про колдунов и мертвецов. Мы, дети, жмемся подружка к подружке, а улыбка у всех на губах. Вот вдруг замолчим разом... чу! шум! как будто кто-то стучит! Ничего не бывало; это гудит самопрялка у старой Фроловны; сколько смеху бывало! А потом ночью не спим от страха; находят такие страшные сны».), станет важнейшим аргументом «Дневника писателя» в спорах о культурном типе русского простонародья.
«Отец и мать были люди небогатые и трудящиеся», – напишет Достоевский. Раз и навсегда заведенный домашний порядок подчинялся службе отца. Вставали в шесть утра, в восьмом часу он выходил в больницу, «в палату», как говорилось дома; в девять у ворот больницы его дожидался кучер Давид – вместе с дворником Федором малороссы братья Савельевы были крепостными Михаила Андреевича, а лошади и экипаж приобретались для поездок на частную практику, разрешенную начальством больницы. Едва зайдя домой, чтобы облачиться в черный фрак, белый жилет и белый галстук (костюм, обязательный для визитов к больным), он отправлялся навещать своих многочисленных пациентов.
«Хотя папенька в молодых годах и не прочь был пофрантить, я не помню у него никакого другого костюма, кроме черного или мундирного (тоже черного) фрака с белым жилетом и галстуком, причем всегда с орденом» (А. М. Достоевский). Кавалером ордена Святой Анны 3-й степени (на груди на красной ленте с желтой каймой золотой крест, покрытый красною финифтью, 100 рублей ежегодной пенсии) М. А. стал в апреле 1825-го «по предоставлению начальства, за отличную службу»; девиз ордена «Любящим правду, благочестие и верность» как нельзя лучше отвечал личным качествам лекаря Достоевского. Утренняя «практика» длилась до полудня, в первом часу накрывался стол, и семья садилась за обед, всегда сытный и вкусный (заслуга кухарки Анны, стряпавшей не хуже хорошего повара). Трубка, выкуренная после обеда, полтора-два часа отдыха на диване в халате, вечерний чай в четыре, и снова прием в больнице; вечером – работа со скорбными листами и выписка рецептов; «в 9 часов вечера, не раньше – не позже, накрывался обыкновенно ужинный стол и, поужинав, мы, мальчики, становились перед образом; прочитывали молитвы и, простившись с родителями, отходили ко сну. Подобное препровождение времени повторялось ежедневно».
Материальный достаток семьи держался на врачебной репутации Михаила Андреевича – он не только «неоднократно удостоивался Всемилостивейшего денежного награждения» в больнице (скорее всего, суммы награждения были невелики), но, вылечив однажды запущенную болезнь свояка Куманина, стал домовым доктором братьев Куманиных и приобрел большую практику в купеческих домах. Первое десятилетие его семейной жизни стало временем удач: он пустил корни в Москве и укрепился на службе; семейство росло; день его именин считался едва ли не главным семейным праздником – к обеду собиралось множество гостей, он умилялся и горячо целовал детей, когда утром они приветствовали папеньку по-французски и вручали «слова», переписанные на почтовой бумаге, свернутой в трубочку. Даже прогуливаясь с ними летним вечером в Марьиной Роще, он разговаривал о предметах, важных для общего развития (Андрей Михайлович вспоминал «неоднократные наглядные толкования его о геометрических началах, об острых, прямых и тупых углах, кривых и ломаных линиях, что в московских кварталах случались на каждом шагу»). Он мечтал о настоящем, высоком образовании для своих мальчиков, а им врезалось в память, как однажды, после визита отца Иоанна Баршева, священника при больнице, оба сына которого блестяще окончили курс в университете и стали юристами, папенька сказал: «Ежели бы мне, не говорю уже дождаться, но быть только уверенным, что мои сыновья так же хорошо пойдут, как Баршевы, то я бы умер покойно!»
...В сентябре 1823 года – Феде не было еще и двух лет – свояк лекаря, художник Попов, получил заказ написать погрудные пастельные портреты молодых супругов Достоевских: Марии Федоровне 23 года, Михаилу Андреевичу – около 35 лет, у них уже трое детей. Нежное, с чистейшим овалом и крохотным ртом, большеглазое, с высоким лбом над тонкими дугами бровей, лицо жены; ее хрупкая доброта, тонкое очарование и одухотворенность проступают в каждой черте. Ее портрет в золоченой раме, провисевший вместе со своей парой в гостиной семейного дома(«После смерти родителей портреты эти перешли во владение сестры Варвары Михайловны Карепиной и у нее во время пожара, бывшего в ее квартире в 80-х годах, сгорели. Но, к счастью, я озаботился еще ранее, а именно 21-го июля 1866 года, бывши в Москве, снятием с портретов этих фотографических копий. Так что ныне (1895 г.) копии эти есть единственные портреты моих родителей, и я их очень берегу... Известные в репродукциях портреты родителей Федора Михайловича Достоевского – суть снимки с этих фотографических копий» (А. М. Достоевский).), как правило, не вызывал нареканий. Зато досталось отцу: темноволосый мужчина с аккуратно подбритыми бакенбардами по тогдашней моде, в гражданском мундире с высоким, расшитым и плотно застегнутым воротом, полный сил, в своей лучшей мужской поре, любящий и любимый (портреты обращены друг к другу), молодой отец, в лице которого еще много юношеского, даже мальчишеского, но уже пролегли две глубокие вертикальные складки меж густых бровей над темными распахнутыми глазами – этот мужчина будет обвинен в холодности взора, недружелюбной замкнутости и мефистофелевском очертании бровей, и даже его четко очерченные округлые губы получат репутацию тонких и сжатых54. Беда, которая случится полтора десятилетия спустя, отбросит зловещую тень на прошедшее – истолкователи портрета, вооруженные поздним знанием, отнимут у оригинала его счастливое время.
...По воскресеньям и в праздники на литургию и ко всенощной родители с детьми ходили в больничную домовую церковь. С ней связано было самое раннее детское впечатление – двухлетний мальчик, которого причащала мать, увидел, как голубок пролетел через церковь из одного окна в другое. Воспоминания выступали светлыми точками из темноты, уголком огромной картины, которая гасла и исчезала. Запомнилось еще, как, по просьбе матери, он, трехлетний, стал на колени перед образа'ми и прочел на сон грядущий: «Все упование, Господи, на Тебя возлагаю. Матерь Божия, сохрани мя под кровом Своим». Гости хвалили малютку, а молитва осталась навсегда – ею Ф. М. напутствовал уже своих детей.
Ежегодно ездили с маменькой в лавру – путешествия остались в детской памяти как эпохи в жизни. «У Троицы проводили два дня, посещали все церковные службы, и, накупив игрушек... возвращались домой, употребив на все путешествие дней 5—6». «Каждый раз посещение Кремля и соборов московских было для меня чем-то торжественным. У других, может быть, не было такого рода воспоминаний, как у меня», – благодарно писал Достоевский; спустя десятилетия, возвращаясь из ссылки, он скажет: «Сергиев монастырь вознаградил нас вполне. 23 года я в нем не был. Что за архитектура, какие памятники, византийские залы, церкви! Ризница привела нас в изумление. В ризнице жемчуг (великолепнейший) меряют четвериками, изумруды в треть вершка, алмазы по полумиллиону штука. Одежды нескольких веков, работы собственноручные русских цариц и царевен, домашние одежды Ивана Грозного, монеты, старые книги, всевозможные редкости – не вышел бы оттуда».
След первых духовных впечатлений протянется через всю жизнь и приведет к старцу Зосиме: «Повела меня матушка одного... в храм Господень, в Страстную неделю в понедельник к обедне. День был ясный, и я, вспоминая теперь, точно вижу снова, как возносился из кадила фимиам и тихо восходил вверх, а сверху в купол, в узенькое окошечко, так и льются на нас в церковь Божию лучики, восходя к нам волнами, как бы таял в них фимиам. Смотрел я умиленно и в первый раз отроду принял я тогда в душу семя Слова Божия осмысленно. Вышел на средину храма отрок с большою книгой, такою большою, что, показалось мне тогда, с трудом даже и нес ее, и возложил на налой, отверз и начал читать, и вдруг я тогда в первый раз нечто понял, в первый раз в жизни понял, что' во храме Божием читают».
Старец Зосима убежденно повторит то, что не раз Ф. М. говорил про себя: «Из дома родительского вынес я лишь драгоценные воспоминания, ибо нет драгоценнее воспоминаний у человека, как от первого детства его в доме родительском, и это почти всегда так, если даже в семействе хоть только чутьчуть любовь да союз». «Знайте же, – объяснит мальчикам и Алеша Карамазов в финале романа, – что ничего нет выше, и сильнее, и здоровее, и полезнее впредь для жизни, как хорошее какое-нибудь воспоминание... Прекрасное, святое воспоминание, сохраненное с детства, может быть самое лучшее воспитание и есть. Если много набрать таких воспоминаний с собою в жизнь, то спасен человек».
В черновых набросках к «Карамазовым» старец выскажет пронзительно прекрасную мысль: «Бог дал родных, чтоб учиться на них любви». Федору Достоевскому щедро были даны те, на ком он учился любви. Ему вовремя были посланы и те, на ком он учился состраданию. В больничном саду, с широкими дорожками и липовыми аллеями, прогуливались больные, «в суконных верблюжьего цвета халатах или в тиковых летних, смотря по погоде, но всегда в белых, как снег, колпаках, вместо фуражек, и в башмаках или в туфлях без задников, так что они должны были шмыгать, а не шагать». Приближаться к больным было строго запрещено – так что дети лекаря, играя поблизости в лошадки, довольствовались обществом друг друга. Но бывало, брат Федор нарушал запрет и «очень любил, как-нибудь украдкою, вступать в разговоры с этими больными, в особенности, ежели попадались мальчики...».
Глава четвертая
ТЕРРИТОРИЯ РОСТА И СОЗРЕВАНИЯ
Нежные годы. – Первые книжки. – Семья читателей. – Воспитательная метода. – В пансионе Чермака. – Учители незабвенные. – Покупка имения. – Лето в Даровом. – Смерть матери
«Давно ли мы были с тобой совсем маленькие? Я очень, очень хорошо помню минуту, когда нас, меня и покойного брата, в пятом часу утра, рядом спавших, разбудил радостный отец и объявил нам, что у нас родился брат Андрюшенька».
Это 1825 год, 25 марта. Федору Достоевскому три с половиной года.
Казенная квартира в нижнем этаже северного (левого от входа) каменного трехэтажного флигеля, куда перебрались Достоевские в 1823-м и где мальчик рос, учился говорить и читать, была весьма скромной и, как деликатно заметит брат Андрей, родившийся уже здесь, «не все члены семейства имели удобное помещение». Большая комната (два окна на улицу и три на чистый двор) называлась залом; комната поменьше в два окна на улицу, от которой дощатой перегородкой отделялось полусветлое помещение для родительской спальни, называлась гостиной. Еще была кухня – через холодные чистые сени, кладовка и просторная передняя, от которой опять-таки дощатой перегородкой, не доходившей до потолка, отделялась территория детской – здесь, на сундуках, стелили постели двум старшим братьям, а свет проникал из окна передней. Крашеные стены, три изразцовые печи, белые коленкоровые шторы на окнах, скромная мебель красного дерева; два ломберных стола, служившие старшим братьям для занятий, обеденный стол в окружении пары десятков стульев березового дерева с мягкими подушками из зеленого сафьяна – в зале; диван, несколько кресел, набитых волосом, шифоньер и книжный шкаф, туалетный столик матери, бронзовые канделябры – в гостиной. В спальне – кровати родителей, рукомойник, сундуки с одеждой. На этом пространстве размещалось всё семейство (младенцы спали в люльках при родителях), но и еще няня, кормилица и горничная в темных закутках, кухарка и прачка; впрочем, на кухне имелась громадная русская печь и были устроены полати...
Скромная обстановка квартиры лекаря, при его малых возможностях, обнаруживала стойкое стремление к благообразию. Трудно говорить о едином стиле убранства – здесь виделся и дворянский, и купеческий, и «многодетный» элемент: жилые и подсобные помещения имели двойное и тройное назначение. В зале играли дети, не имевшие своих отдельных комнат; там же семья обедала и чаевничала; в гостиной мать и сестрица Варенька занимались рукоделием, отец писал рецепты (впрочем, сиживал со скорбными листами и в зале), а ночью на диване кто-нибудь спал...
В дом приходили гости, чаще с утренними и обеденными визитами – дедушка и дядя Нечаевы, дядя и тетя Куманины, Масловичи, иная родня и знакомые. На Масленицу каждодневно ели блины; на Пасху катали яйца, на Святки играли «в короли», по большим праздникам бралась ложа в театре и четверо старших детей с родителями посещали дневные спектакли (Федор потом бредил представлением и подражал артистам). И ведь были еще балаганы «под Новинским» с паяцами, клоунами, силачами и комедиантами, куда водил дед Котельницкий; и балаганы с кукольными представлениями в Марьиной Роще, где звучали народные хоры и пение цыган; и домашние концерты для двух гитар – маменька и ее холостой братец Миша, главный приказчик в богатом суконном магазине, на пару исполняли чувствительные романсы и песни.
Раз-два в год навещали своих питомцев бывшие деревенские кормилицы – Дарья, Катерина, Лукерья, и рабочий зал уступал место празднику: дети виснут у гостей на шее, поцелуи, подарки, а потом наступают сумерки. «Усаживаемся, – вспоминал Андрей Михайлович, – все в темноте на стульях, и тут-то начинается рассказывание сказок. Это удовольствие продолжается часа по три, по четыре, рассказы передавались почти шепотом, чтобы не мешать родителям. Тишина такая, что слышен скрип отцовского пера. И каких только сказок мы не слыхивали, и названий теперь всех не припомню; тут были и про “Жар-птицу”, и про “Алешу Поповича”, и про “Синюю бороду”, и про многое другое. Помню только, что некоторые сказки были для нас очень страшными». Какая-то старушкагостья рассказывала одну за другой сказки из «Тысячи и одной ночи» – дети не отходили от нее и горячо спорили, чья из кормилиц, Федина или Варенькина, знает самые интересные истории...
Но главное «слушание» происходило, когда читали попеременно отец и мать. Осознать себя страстными книгочеями супруги Достоевские смогли, вероятно, лишь став многодетными родителями. Согласно заведенному порядку семейные вечера проходили в гостиной при двух сальных свечах за чтением вслух. Фаворитом стала «История государства Российского», сокровище из книжного шкафа («библиотеки»), украшавшего комнату (Многотомная «История государства Российского» начала выходить за несколько лет до рождения Ф. М. Достоевского. К 1870 году относится признание писателя, адресованное Н. Н. Страхову: «Я возрос на Карамзине». По свидетельству П. П. Семенова-Тян-Шанского, однокашника Достоевского по Инженерному училищу, будущий писатель знал «Историю» «почти наизусть».) «Мне было всего лишь десять лет, когда я уже знал почти все главные эпизоды русской истории из Карамзина, которого вслух по вечерам нам читал отец», – запомнилось Федору. «Из истории Годунова и Самозванцев нечто осталось и у меня в памяти от этих чтений», – признавал брат Андрей и добавлял, что «История» была для Феди настольной книгой, которую он читал всегда, когда «не было чего-то новенького». А «новенькое», ко всеобщей радости, появлялось регулярно, так что дети «услышали» и биографию Ломоносова, написанную Полевым, и оды Державина, и переводы Жуковского, и «Письма русского путешественника» вкупе с «Бедной Лизой» и «Марфой Посадницей» Карамзина, и прозу Пушкина, и тогдашних «модных» романистов Загоскина, Лажечникова, Бегичева, и сказки Казака Луганского (В. Даля).
«Все эти произведения остались у меня в памяти не по одному названию, а потому, что чтения эти часто прерывались рассуждениями родителей», – замечал А. М. «В долгие зимние вечера, – вспоминал и Ф. М., – за неумением грамоте, слушал, разиня рот и замирая от восторга и ужаса, как родители читали на сон грядущий романы Радклиф, от которых я потом бредил во сне в лихорадке». И еще одно признание: «С романов Радклиф, которые я читал еще восьми лет, разные Альфонсы, Катарины и Лючии въелись в мою голову. А дон Педрами и доньями Кларами еще и до сих пор брежу» (готические романы Анны Радклиф прочтут, наследуя пристрастие писателя, и его герои – Фома Опискин и Фетюкович, адвокат Мити Карамазова).
Читать детей учила мать. Буквы выговаривали по-старинному: аз, буки, веди, глагол; после букв пробовали пятерные склады: бвгра, вздра; едва выучившись беглому чтению, требовали книг. В нежные годы это были лубки, дешевые серо-бумажные тетрадки в четверть листа, славянскими или русскими буквами, с картинками к сказкам, легендам, былинам. «Таковые тетрадки и у нас в доме не переводились», – писал А. М., и это значило, что, помимо «Бовы Королевича» и «Еруслана Лазаревича», в дом могли попасть и сказания о Куликовской битве, и повести с продолжением, вроде «Шута Балакирева» и «Ермака, покорившего Сибирь», и «Похождений российского Картуша, именуемого Ванькой Каином». Наверняка знали в семье и «Приключения английского милорда Георга» – о их героях, бывшем турецком визире Марцимирисе и прекрасной маркграфине Луизе, «неизвестно почему» вспоминает герой «Двойника» Яков Петрович Голядкин, читавший «когда-то» знаменитую книжку, не исчезавшую с книжного рынка в течение 150 лет (В статье «Книжность и грамотность» (1861) Ф. М. Достоевский призовет издателей «принять в рассуждение успех у народа книжек вроде “Битвы русских с кабардинцами”, “Милорда Георга”, “Анекдотов о Балакиреве”, “Старичка-Весельчака”, “Новейшего астрономического и астрологического телескопа”, “Мамаева побоища” и т. п.».).
Но главная книга, по которой будущий писатель, а также его братья и сестры учились читать всерьез, была одна и та же:
«Сто четыре Священные Истории Ветхого и Нового Завета», на русском языке, с литографиями; только через полвека Достоевскому удастся разыскать тот самый «детский» экземпляр; он будет беречь его как святыню и «одолжит» только любимому старцу – заветная книга согреет также и детство Зосимы:
«Была у меня тогда книга, Священная История, с прекрасными картинками... по ней я и читать учился. И теперь она у меня здесь на полке лежит, как драгоценную память сохраняю».
Через всю жизнь писателя прошла великая «Книга Иова».
Библейская история о муже, «удалявшемся от зла», Сатанепровокаторе («Разве даром богобоязнен Иов?» – подстрекает он Господа) и испытаниях, которые послал Иову Бог через дьявола, волновала душу ребенка и будила фантазию писателя. Бичи Господни, обрушенные на праведника Иова, и ропот несчастного Достоевский чувствовал всем своим существом.
«Читаю книгу Иова, и она приводит меня в болезненный восторг; бросаю читать и хожу по часу в комнате, чуть не плача... – писал он жене в 1875 году. – Эта книга, Аня, странно это – одна из первых, которая поразила меня в жизни, я был еще тогда почти младенцем!» Достоевский всегда помнил, что они в семействе своем «знали Евангелие чуть не с первого детства» и что детей рано начинали учить: «Его уже четырехлетним сажали за книжку и твердили: “учись!”, а на воздухе было так тепло, хорошо, так и манило в большой и тенистый больничный сад!» 55
Гений – это не норма, это нарушение нормы. «Брат Федор, – утверждал Андрей Михайлович, – был во всех проявлениях своих настоящий огонь». Так считали и родители.
«Слишком горяч», «слишком впечатлителен», «слишком резок» – нарушение нормы проглядывало уже в раннем детстве.
«Эй, Федя, уймись, не сдобровать тебе... быть тебе под красной шапкой!» – говаривал отец, которого горячность сына пугала еще и потому, что за ней виделась неизбежность беды. «Отец не любил делать нравоучений и наставлений; но... очень часто повторял, что он человек бедный, что дети его, в особенности мальчики, должны готовиться пробивать себе сами дорогу, что со смертью его они останутся нищими и т. п. Все это рисовало мрачную картину». Так запомнилось Андрею, и страхи отца были не беспочвенны. В них, быть может, таился некий интуитивный расчет: если в семье по какому-то капризу природы окажется гений, нужно постараться его не потушить во младенчестве.
Гений в ней оказался.
Спустя много лет, проявляя поразительную скромность, Ф. М. диктовал биографу: «По старшинству я родился вторым, был прыток, любознателен, настойчив в этой любознательности, прямо-таки надоедлив – и даровит. Года в три, что ли, выдумал слагать сказки, да еще мудреные, пожалуй, замысловатые, либо страшные, либо с оттенком шутливости. Я их запоминал...» 56Кажется, и домашний уклад строился в этой семье так, чтобы поощрить любознательность, укрепить настойчивость, разбудить воображение. На склоне лет Ф. М. напишет брату Андрею: «Заметь себе и проникнись тем, что идея непременного и высшего стремления в лучшие люди (в буквальном, самом высшем смысле слова) была основною идеей и отца и матери наших, несмотря на все уклонения».
Принято считать, что Достоевский из-за этих самых «уклонений» не любил вспоминать о родителях и пресекал любые расспросы. С. Д. Яновский, приятель Ф. М. 1840-х годов, запомнил, что писатель «благоговейно отзывался о матери, сестрах, брате Михаиле, но об отце решительно не любил говорить и просил о нем не спрашивать» 57. Однако А. М. помнил и другое: «Это было не так давно, а именно в конце 70-х годов. Я как-то разговорился с ним о нашем давно прошедшем и упомянул об отце. Брат мгновенно воодушевился, схватил меня за руку повыше локтя (обыкновенная его привычка, когда он говорил по душе) и горячо высказал: “Да знаешь ли, брат, ведь это были люди передовые, и в настоящую минуту они были бы передовыми!.. А уж такими семьянинами, такими отцами... нам с тобою не быть, брат”».
Что значило на языке Достоевского понятие «лучшие, передовые люди», отнесенное к родителям? Скорее всего, речь шла о их стремлении вырваться из плена обыденности, заурядности («семья брата Миши очень упала, очень низменна, необразованна», – с горечью скажет Ф. М. за пять лет до смерти). Достоевский не сомневался: стремление родителей стать «лучшими людьми» было исполнено жертвенности и самоотверженности, ибо всецело было направлено на детей.
В апреле 1827 года М. А. Достоевский «за отличную службу» и «за выслугу узаконенных лет» был награжден чином коллежского асессора, который давал право на потомственное дворянство. В июне 1828-го определением Московского депутатского собрания он был записан в третью часть родословной книги московского потомственного дворянства: утраченное предками сословное достоинство вернулось фамилии и передалось детям. В январе 1829-го по «засвидетельствованию начальства об отличной и ревностной службе» ему был пожалован орден Святого Владимира 4-й степени (девиз «Польза, честь и слава», золотой крест, покрытый красной эмалью, на колодке или в петлице, 100 рублей ежегодной пенсии). В августе 1829-го – знак отличия беспорочной службы за 15 лет при «установленной грамоте». В 1832-м – чин надворного советника и вскоре, по представлению начальства больницы, орден Святой Анны 2-й степени («Анна на шее» – золотой крест, покрытый красной финифтью, носимый на шее на широкой ленте и дававший 150 рублей ежегодной пенсии).
Послужной список Достоевского-старшего, его успешное восхождение по лестнице чинов, его в точном смысле слова заслуженное дворянство никак не соответствуют той репутации, которую создали ему его поздние биографы. Как могла служба лекаря-ординатора из казенного места, руководимого строгими немцами, совмещаться с «тяжелой формой алкоголизма», приписанной ему 130 лет спустя?58 Кто' из городских пациентов-купцов, которых он лечил и наблюдал годами, пустил бы к себе доктора с подобным недугом? Кто' бы из начальства рискнул называть его службу беспорочной и представлять к чинам и наградам? Рисуя Михаила Андреевича человеком неуживчивым, раздражительным, угрюмым и нетерпимо требовательным ко всем окружающим, с ужасными вспышками гнева и при этом крайне скупы м59, биограф не посчитался ни с отзывами об отце сына Федора («лучшие, передовые люди»), ни с мнением внучки Любови Федоровны – что дед Михаил, при всей своей бережливости, когда дело шло о воспитании сыновей, не скупился; ни с воспоминаниями сына Андрея: «Родители наши были отнюдь не скупы, скорее даже тароваты; но вероятно по тогдашним понятиям считалось тоже за неприличное, чтобы молодые люди имели свои хотя бы маленькие карманные деньги».
Дети, исполняя волю отца, росли в отгороженном мире, их кругозор был стеснен рамками семьи. Мальчикам запрещались, как неприличные, шумные, игры в мяч и лапту. Пресекались не только знакомства в больничном саду, но и общение со сверстниками – «из товарищей к братьям не ходил никто».
«Отец наш был чрезвычайно внимателен в наблюдении за нравственностью детей, и в особенности относительно старших братьев, когда они сделались уже юношами. Я не помню ни одного случая, когда бы братья вышли куда-то одни; это считалось отцом за неприличное, между тем, как к концу пребывания братьев в родительском доме старшему было уже 17, а брату Федору почти 16».
Быть бы таким детям буками и дикарями, но вместо этого – глубокая дружба и настоящая духовная близость старших братьев. Быть бы им темными, тупыми недорослями, но вместо этого – страстная любовь к книгам и редкая увлеченность чтением, долгое время заменявшая реальные впечатления. Но была ли строгость родителя следствием его деспотизма? Была ли атмосфера отчего дома невыносимой, омрачившей детство писателя? Можно ли горькие слова из «Подростка»: «Есть дети... оскорбленные неблагообразием отцов своих и среды своей» – прямо отнести к автору романа? Ведь Ф. М. в те же годы называл свое семейство благочестивым – в отличие от семей случайных!








