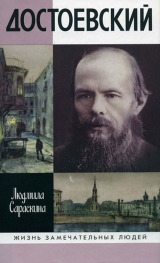
Текст книги "Достоевский"
Автор книги: Людмила Сараскина
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 70 страниц) [доступный отрывок для чтения: 25 страниц]
И тотчас первая тройка – Петрашевский, Момбелли и Григорьев – были вызваны к столбам; их привязывали веревками, затянули руки позади столбов и затем обвязали веревки поясом. Григорьев увидел перед собой полтора десятка солдат своей роты во главе с знакомым и симпатичным фельдфебелем. Вряд ли расстрельная команда знала, что участвует в непристойном спектакле. Никакого сопротивления казнимые не оказывали. Раздался приказ: «Колпаки надвинуть на глаза» – и на лица привязанных были опущены капюшоны. Петрашевский, уже связанный, шутил: «Момбелли, подымите ноги выше, а то с насморком войдете в царство небесное». Солдаты направили ружья и взяли на прицел приговоренных. Истекали последние секунды...
Следующим по очереди стоял Спешнев, за ним Львов.
«Я, – напишет вечером того же дня Достоевский, – стоял шестым, вызывали по трое, следовательно, я был во второй очереди и жить мне оставалось не более минуты...» Он не чувствовал сожаления и весь находился под влиянием мысли о том неизвестном, что наступит уже через несколько мгновений. Львов увидел, как за минуту до выстрелов Ф. М. вплотную приблизился к Спешневу. «Достоевский был несколько восторжен, вспоминал “Последний день осужденного на смерть” Виктора Гюго и, подойдя к Спешневу, сказал: “Nous serons avec le Christ” (“Мы будем вместе со Христом”). “Un peu de poussiPr” (“Горстью праха”) – отвечал тот с усмешкою» 96. «Я успел тоже обнять Плещеева, Дурова, которые были возле, и проститься с ними», – напишет Достоевский.
Как все из спешневской семерки, он дорожил возможностью быть вместе со своим кумиром. Стоять вместе на эшафоте и вместе, вдвоем, в один и тот же миг, предстать пред Господом – это ли не высшая привилегия? Достоевский простился с Плещеевым и с Дуровым, потому что за миг до смерти разлучался с ними; он не прощался со Спешневым, потому что в последнюю минуту им выпадало быть вместе.
Первые трое простояли под прицелом с полминуты. «Момент этот был поистине ужасен. Видеть приготовление к расстрелянию... видеть уже наставленные почти в упор ружейные стволы и ожидать – вот прольется кровь... было ужасно, отвратительно, страшно» (Ахшарумов). Не все поняли значение раздавшейся вдруг барабанной дроби; но вслед за ней нацеленные ружья были подняты стволами вверх. Казнь была остановлена; привязанных к столбам отвязали и привели на прежние места у эшафота. Григорьев был бледен смертельной бледностью; умственные способности ему изменили навсегда. К месту казни подъехал экипаж; вышел флигель-адъютант Ростовцев с бумагой. Рескрипт возвещал о помиловании: государь дарил каждому преступнику жизнь и, по виновности его, назначал особое наказание.
Двадцать лет спустя, в Петербурге, в прихожей Епанчиных, своими впечатлениями о такой казни поделится с камердинером генерала князь Лев Николаевич Мышкин: «Что же с душой в эту минуту делается, до каких судорог ее доводят?.. Кто сказал, что человеческая природа в состоянии вынести это без сумасшествия? Зачем такое ругательство, безобразное, ненужное, напрасное? Может быть, и есть такой человек, которому прочли приговор, дали помучиться, а потом сказали: “Ступай, тебя прощают”. Вот этакой человек, может быть, мог бы рассказать. Об этой муке и об этом ужасе и Христос говорил. Нет, с человеком так нельзя поступать!»
Все помилованные были потрясены жестокой инсценировкой. «Кто просил?.. Лучше бы уж расстреляли...»
С них сняли саваны и колпаки. Какие-то двое, одетые в старые цветные кафтаны, вроде палачей, став позади осужденных, ломали над их головами шпаги: действие, совершенно безразличное для ссылаемых в Сибирь, продержало их на морозе лишние четверть часа. «Потрите щеку», «потрите подбородок», – говорили они друг другу. Им выдали арестантские шапки с ушами, овчинные тулупы и валенки. На Петрашевского тут же, на эшафоте, надели ножные кандалы, весившие фунтов десять, страшно неудобные при ходьбе и натиравшие ноги (такие потом наденут на всех). С трудом передвигаясь, он подходил по очереди ко всем товарищам, целовал, обнимал, прощался: пожизненная ссылка не сулила никаких надежд на встречу. «Только на эшафоте впервые полюбил я его!» – запоздало признавался Ахшарумов, со слезами расставаясь с этим странным, ни на кого не похожим чудаком-предводителем, которого мало кто понимал, ценил и тем более любил. «Передайте матушке, что я поехал путешествовать в Сибирь на казенный счет», – сказал шутник напоследок. Говорили, будто кто-то из толпы, стоявшей позади войск, снял с себя шубу и бросил ему в сани. Кибитка с арестантом в сопровождении фельдъегеря и жандарма развернулась и медленно двинулась; тройка дюжих лошадей, выбравшись с площади, повернула на Московскую дорогу.
...Шел десятый час утра. Кареты вернулись в крепость; приговоренные заняли свои прежние камеры. Вскоре вместе с Набоковым совершил обход доктор Окель, желая удостовериться, не произвела ли церемония на арестантов слишком потрясающее впечатление, могущее отразиться на здоровье. В рапорте коменданту крепости значилось: «Осмотрев арестантов сего числа, я нашел, что отставной поручик Достоевский имеет золотушные раны во рту, которые с давнего времени мною пользуются» 97. Энгельсон рассказывал, как родственники осужденных кинулись к Набокову, потом к Орлову, пробовали просить императрицу, но все они боялись передать просьбу государю. Тогда в отчаянии снова обратились к коменданту крепости. «Наконец этот ворчун 1812 года, который за свирепой солдатской внешностью скрывал не вполне извращенное и полное благочестия сердце, решил осмелиться и, осенив себя крестным знамением, рискнул войти в кабинет царя. Он получил милостивое разрешение дать родителям проститься с детьми» 98.
В тот день, однако, просивший о свидании с братом Достоевский получил отказ – ему разрешили только написать прощальное письмо. Он очень торопился – Mich-Mich мог услыхать про смертный приговор и не узнать о помиловании. «Из окон кареты, когда везли на Семеновский плац, я видел бездну народа; может быть, весть уже прошла и до тебя, и ты страдал за меня. Теперь тебе будет легче за меня».
Двадцать второго декабря «Русский инвалид» опубликовал приговор. «Пагубные учения, породившие смуты и мятежи во всей Западной Европе и угрожающие ниспровержением всякого порядка и благосостояния народов, отозвались, к сожалению, и в нашем отечестве... Горсть людей, совершенно ничтожных, большею частию молодых и безнравственных, мечтала о возможности попрать священнейшие права религии, закона и собственности... Богохуления, дерзкие слова против священной особы государя императора, представление действий правительства в искаженном виде и порицание государственных лиц – вот те орудия, которые употреблял Петрашевский для возбуждения своих посетителей... приступил к образованию тайного общества... написан был план для производства общего восстания в государстве».
Тем временем один из «ничтожных и безнравственных» прощался с братом перед долгой разлукой: «Брат! я не уныл и не упал духом. Жизнь везде жизнь, жизнь в нас самих, а не во внешнем. Подле меня будут люди, и быть человеком между людьми и остаться им навсегда, в каких бы то ни было несчастьях, не уныть и не пасть – вот в чем жизнь, в чем задача ее. Я сознал это. Эта идея вошла в плоть и кровь мою». Он прощался и просил прощения, ободрял и бодрился сам.
Пережив утром минуты смертного томления, он нашел в себе силы уже вечером написать настоящий гимн жизни: «Как оглянусь на прошедшее да подумаю, сколько даром потрачено времени, сколько его пропало в заблуждениях, в ошибках, в праздности, в неуменье жить; как не дорожил я им, сколько раз я грешил против сердца моего и духа, – так кровью обливается сердце мое. Жизнь – дар, жизнь – счастье, каждая минута могла быть веком счастья». Он обещал брату не терять надежды и дожить до встречи. «Живи тихо и предвиденно... Живи положительно...»
Кроме семьи Михаила, сестер и братьев, он мог передать привет лишь Майковым и Яновскому – больше у него никого не было. Он готов был забыть все ссоры и обиды. «Нет желчи и злобы в душе моей, хотелось бы так любить и обнять хоть кого-нибудь из прежних в это мгновение. Это отрада, я испытал ее сегодня, прощаясь с моими милыми перед смертию».
Кого из прежних он имел в виду? Белинского не было в живых уже полтора года – и теперь он, Достоевский, держал ответ за «преступное о религии и правительстве» письмо критика; передавали, будто Дубельт, на свой лад сожалея о преждевременной кончине автора письма, восклицал: «Мы бы сгноили его в крепости!» Тургенев, утверждавший, что письмо Белинского (то самое, за которое Достоевский шел на каторгу) – это «вся его (Тургенева) религия» 99, с начала 1847 года поселился за границей с семьей певицы Полины Виардо и все российские неприятности переживал вместе с ней в Париже. Некрасов по-прежнему жил в Петербурге, сошелся с Панаевой, в которую безнадежно и безответно был влюблен Достоевский в дни своего былого триумфа.
Пройдет два десятилетия, прежде чем Некрасов обмолвится о политическом процессе конца сороковых: «Помню я Петрашевского дело, / Нас оно поразило, как гром, / Даже старцы ходили несмело, / Говорили негромко о нем. / Молодежь оно сильно пугнуло, Поседели иные с тех пор, / И декабрьским террором пахнуло / На людей, переживших террор». Степень несмелости, однако, была явно преувеличена: сам Некрасов в сентябре 1849-го «свободно» писал в «Современнике», что он не слишком «большой охотник» до «так называемых психологических повестей г. Достоевского», в то время узника Алексеевского равелина. Впрочем, Панаева запомнила, что в редакции «Современника» и в самом деле царили уныние и тревога: «Гости не собирались на обеды и ужины... Все говорили тихим голосом, передавая тревожные известия об участи молодых литераторов, замешанных в историю Петрашевского... По вечерам, для развлечения, Некрасов стал играть в преферанс, по четверть копейки...»
Но не злоба на «прежних», «наших» мучила Достоевского в те два дня, когда после приговора он готовился к отправке в Сибирь. Сводила с ума лишь одна мысль: «Неужели никогда я не возьму пера в руки?.. Боже мой! Сколько образов, выжитых, созданных мною вновь, погибнет, угаснет в моей голове или отравой в крови разольется! Да, если нельзя будет писать, я погибну. Лучше пятнадцать лет заключения и перо в руках».
В день отъезда, 24 декабря, ему разрешили попрощаться с братом. Одетый по-дорожному, в полушубок и валенки, Ф. М. был приведен в комендантский дом. Он искренне радовался, что брат не пострадал и находится рядом со своим семейством. Mich-Mich, а с ним и Милюков (он оставит воспоминания об этом свидании) не услышали ни слова жалобы – напротив, узник тепло отзывался о коменданте крепости, который чем мог облегчал положение арестантов. Ни слова не было сказано о строгости суда или о суровости приговора. У Михаила в глазах стояли слезы, дрожали губы, а младший брат, каторжник, утешал его: «И в каторге не звери, а люди, может, еще и лучше меня... Выйду из каторги – писать начну. В эти месяцы я много пережил, в себе-то самом много пережил, а там впереди-то что увижу и переживу, – будет о чем писать».
В страданиях приговоренного к смерти он готов был видеть сюжет для биографии персонажа. В каторжном остроге надеялся обрести темы будущих сочинений, ради которых имело смысл перенести все испытания. Конечно, это была страсть, мономания, род недуга. Но когда эта страсть оказывалась сильнее страданий, судьба вдруг являла к нему дивную благосклонность. И только Михаил был способен понять весь ужас положения: в течение четырех лет его брату, призванному писать, отныне разрешалось только читать.
М. М. Достоевский и Милюков, выйдя из крепости, остановились у тех ворот, откуда должны были выехать осужденные. Милюков запомнил время: на крепостной колокольне куранты проиграли девять вечера, когда в воротах показались ямские сани: арестант в кандалах сидел рядом с жандармом. Все происходило согласно предписанию: «Преступников Дурова, Достоевского и Ястржембского, назначенных к отправлению сего числа вечером в Тобольск, закованными, выдать их назначенному для сопровождения поручику фельдъегерского корпуса Прокофьеву и из списков об арестованных по равелину исключить».
«Прощайте!» – кричали провожающие. «До свидания!» – отвечали им из саней. Сутками ранее из арестантского списка были исключены Спешнев, Толль, Григорьев и Львов. Они, как и вся партия каторжников, были закованы в кандалы и посажены в открытые повозки, каждый отдельно и со своим жандармом; их поезд из Петербурга двинулся на восток тем же маршрутом.
Рождественской ночью Достоевский прощался с празднично освещенным Петербургом. «У меня было тяжело на сердце и как-то смутно, неопределенно от многих разнообразных ощущений. Сердце жило какой-то суетой и потому ныло и тосковало глухо. Но свежий воздух оживлял меня, и так как обыкновенно перед каждым новым шагом в жизни чувствуешь какую-то живость и бодрость, то я в сущности был очень спокоен».
Он знал, что Эмилия Федоровна, жена Михаила, и их дети отправились на елку к редактору «Отечественных записок».
«У Краевского было большое освещение... И вот у этого дома мне стало жестоко грустно».
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
НА АРШИНЕ ПРОСТРАНСТВА
Глава первая
ПУТЕШЕСТВИЕ НА КАЗЕННЫЙ СЧЕТ
Отрезанный ломоть. – Поезд на восток. – Тобольский острог. – Ссыльные старого времени. – Подаренное Евангелие. – Каторжные картины. – Стихия добра. – Тюремный лазарет. – Сибирская тетрадь. – «Волк в западне»
Московская родня Достоевского узнавала о несчастье постепенно; сначала от Андрея Михайловича – в сентябре 1849-го он выехал из Петербурга в Елисаветград, к месту службы, с остановкой в Москве у Карепиных; потом из грустного письма Коли – о том, что брат Федор все еще находится в крепости; наконец из газет, которые сообщили о приговоре по делу Петрашевского.
«Ты верно, еще не знаешь общего нашего горя, и я с ужасом помышляю, каково тебе будет узнать эту горестную для нас всех, братьев и сестер, весть» 1, – писала Андрею сестра Варвара в январе 1850-го, имея в виду каторжный приговор. Она с грустью замечала, что беда, случившаяся с Федором, сильно охладила благодетеля дядю Куманина ко всем Достоевским. Сам Карепин, предвидевший, что «область мечтательная и артистическая» не доведет шурина до добра, теперь убеждался в своей правоте. «Мы не знаем подробностей, но скорбим бесконечно о жалкой участи брата Федора... Терять надежды не должно, – наставлял он Андрея. – Брат молод, снисхождение неограниченно: статься может, что и величайший грешник способен к исправлению... Скорбь сестры и родных так велика, что не решаюсь распространяться в этом жалком предмете» 2. (П. А. Карепина, страдавшего от мучительных припадков, не станет в 1850 году.)
Итак, государственный преступник, избежавший позорной смерти одной лишь милостью государя, в глазах законопослушных граждан стал изгоем. В первых числах января в Елисаветграде был получен номер «Северной пчелы» от 23 декабря. «Сведение о том, – вспоминал А. М. Достоевский, – что я брат приговоренного к каторге, мгновенно разнеслось по городу и, конечно, никто мне не задавал больше вопросов о существовании родства, но во взгляде всех я читал этот вопрос и при том во взглядах только меньшинства встречал сочувствие... Большинство же долгое время чуралось меня...»
«Я теперь от вас как ломоть отрезанный, – и хотел бы прирасти, да не могу...» – это чувство поселится в душе Достоевского на весь срок его каторги и солдатчины.
Жестокое наказание, которому по воле российского монарха подвергся один литератор за публичное чтение письма другого литератора к третьему, имело вид изощренного надругательства. Будто кто-то долго и пристально следил за судьбой «чтеца», выведывал его планы, проникал в честолюбивые замыслы, угадывал литературные мечтания и человеческие надежды, а затем, зло посмеявшись, все отнял в одночасье. «Та голова, которая создавала, жила высшею жизнию искусства, которая сознала и свыклась с возвышенными потребностями духа, та голова уже срезана с плеч моих. Осталась память и образы, созданные и еще не воплощенные мной. Они изъязвят меня, правда! Но во мне осталось сердце и та же плоть и кровь, которая также может и любить, и страдать, и желать, и помнить, а это все-таки жизнь! On voit le soleil!»
«Та голова»... Будто кому-то очень нужно было сурово проучить его, чтобы не зарекался ни от сумы, ни от тюрьмы...
Он жаждал свободы в самом широком смысле слова – а был лишен ее в самом узком. Пожертвовал всем во имя писательства – а у него отняли право писать. Отказался от обеспеченного офицерского поприща в столичном департаменте – а взамен получил солдатчину в сибирском захолустье. С шестнадцати лет тяготился военной муштрой и предполагал, что навсегда расстался с «фрунтом», а попал на военную каторгу и в линейный батальон. Успел привыкнуть к одинокой, независимой жизни – а был принужден к ежеминутному, и днем и ночью, в течение четырех лет, пребыванию в казарме, в «насильственном этом коммунизме». Хотел иметь друзей, нуждался в родной душе – а очутился среди разбойников, воров и убийц. Намеревался вернуть себе славу – однако карьера его продолжилась на нарах и каторжных работах.
Много позже Достоевский изменит свой взгляд на вину свою и своих товарищей по несчастью. «Государство только защищало себя, осудив нас», – скажет он. Слыша от собеседников слова о несправедливости их ссылки, раздраженно возразит: «Нет, справедливое. Нас бы осудил народ» 3. Крепостной люд, ожидавший получить свободу «по манию» царя, не поверил бы в честность намерений бар и господ, кем в его глазах были молодые люди из «общества пропаганды». Путь к такому пониманию пролегал через «путешествие в Сибирь на казенный счет».
...Маршрут проходил через Петербургскую, Новгородскую, Ярославскую, Владимирскую, Нижегородскую, Казанскую, Вятскую, Пермскую и Тобольскую губернии. Первая остановка пришлась на Шлиссельбург. «Мы налегли на чай, как будто целую неделю не ели. После 8-ми месяцев заключения мы так проголодались на 60 верстах зимней езды, что любо вспомнить. Мне было весело». Они «пробовали» фельдъегеря, Кузьму Прокофьевича Прокофьева, от которого на этапе в три тысячи верст зависело слишком много. «Оказалось, что это был славный старик, добрый и человеколюбивый до нас, как только можно представить, человек бывалый, бывший во всей Европе с депешами. Доро'гой он нам сделал много добра... Между прочим, он нас пересадил в закрытые сани, что нам было очень полезно, потому что морозы были ужасные... Мы мерзли ужасно. Одеты мы были тепло, но просидеть, например, часов 10, не выходя из кибитки, и сделать 5, 6 станков было почти невыносимо. Я промерзал до сердца и едва мог отогреться потом в теплых комнатах. Но, чудно: дорога поправила меня совершенно».
Двухнедельная зимняя дорога сквозь снега, метели и трескучие морозы, со скупыми остановками, даже и при славном фельдъегере, взявшем на свой счет чуть ли не половину расходов (несмотря на кандалы путешественников, на станциях с них драли втридорога), оставила смешанное впечатление. Дуров без умолку говорил, Ястржембскому виделись необыкновенные страхи в будущем. Когда переезжали через Урал, лошади и кибитки завязли в сугробах. «Мы вышли из повозок, это было ночью, и стоя ожидали, покамест вытащат повозки. Кругом снег, метель; граница Европы, впереди Сибирь и таинственная судьба в ней, назади всё прошедшее – грустно было, и меня прошибли слезы». На середине маршрута наступил новый, 1850 год, чужой праздник. Зато в селениях вдоль дороги шла гульба, и целые деревни выбегали смотреть на кандальных пассажиров...
В Тобольский тюремный замок поезд из трех кибиток прибыл на пятнадцатый день пути, 9 января. Несколькими днями ранее сюда привезли Петрашевского, вслед за ним – Спешнева и его спутников. «Тобольский приказ о ссыльных» выдал фельдъегерю расписку в том, что трое каторжников доставлены по месту назначения. В канцелярии острога их представили смотрителю, «седенькому старичку с черствою, как высушенный гриб, физиономией», обыскали, отобрали деньги, дали по чашке щей, куску хлеба и ломтику говядины, отвели в узкую, темную, холодную, грязную каморку с нарами, на которых валялись три грязных мешка, набитых сеном, и такие же три подушки. За дверью, в холодных сенях, взад и вперед расхаживал часовой; за тонкой стеной слышались шум, ругань, возгласы играющих в карты, стукание рюмок и шкаликов. «Мы присели и скорчились – Дуров на нарах, а я с Достоевским на полу, – вспоминал Ястржембский. – Возможность беседовать с товарищами во время кратких остановок в пути доставляла истинное счастье». Нечаянно и нежданно они получили (от знакомого Ястржембскому офицера охраны) сальную свечу, спички и горячий чай, который показался вкуснее нектара. Ф. М. вспомнил о сигарах, уцелевших при обыске. «Симпатичный, милый голос Достоевского, его нежность и мягкость чувств» («Достоевский принадлежал к разряду тех субъектов, о которых Mishelet сказал: que tout en е'tant le plus fort m>les, ils on beaucoup de la nature fе'minine (обладая очень сильным мужским началом, они имеют многое и от женской природы). Этим обстоятельством объясняется сторона его сочинений, в которой видят жестокость таланта и охоту мучить... При данной природе Достоевского те тяжелые страдания, которые слепая и глухая судьба послала ему совершенно незаслуженно, отразились и на его характере. Не мудрено, что он сделался нервен и раздражителен в высшей степени. Но, кажется, я не погрешу парадоксом, если скажу, что сами эти страдания послужили на пользу его таланта, развили в нем совершенство его психического анализа» (И. Л. Ястржембский). Комментарий О. Ф. Миллера: «Точно так же смотрел на свою судьбу сам Достоевский. Захотев быть ему мачехой, она на самом деле воспитала его как строгая, но попечительная мать» (Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского. С. 127)) подействовали на бедного Ястржембского, еще в равелине замыслившего самоубийство, успокоительно и утешительно. Он отказался от крайнего решения...
Наутро узников осмотрел врач приюта общественного призрения Г. М. Мейер – Достоевский показался ему маленьким, тщедушным, молоденьким; «был чрезвычайно спокоен, хотя у него были очень тяжелые кандалы на руках и ногах» 4. Несмотря на такие же кандалы, Львов прыгал и даже танцевал, без всякого признака грусти. У Дурова пальцы на руках и ногах были отморожены и ноги сильно повреждены от кандалов, у Ястржембского отморожен кончик носа. Тяжелое впечатление на доктора произвел Петрашевский. На вопрос, за что их всех осудили, Михаил Васильевич ответил запиской, где излагал теорию Фурье и описывал фаланстеры: «Записка была крайне беспорядочная и обличала в пишущем некоторое повреждение ума» 5.
Появление в Тобольске группы политических каторжников не прошло незамеченным. «На Новый год в Тобольске был бал, на котором присутствовал и губернатор К. Ф. Энгельке. Несмотря на страшный холод, бал был чрезвычайно оживленный. В час ночи вошел очень толстый полицмейстер Тецкой и шепотом что-то сказал губернатору. Губернатор смутился, побледнел и сейчас же уехал с бала. Мигом в публике распространился слух, что привезли социалистов; настроение сразу изменилось, и все гости тотчас разъехались» 6. Острог навестил вице-губернатор А. Н. Владимиров; вежливо обратившись к арестантам, спросил, довольны ли они помещением и содержанием. Львов поддержал разговор: дескать, всем очень довольны, помещение прекрасное, комнаты высокие, воздух свежий... Чиновник сконфузился и ретировался.
Тобольск, столица каторжного края, приютил самую большую колонию декабристов. Город впервые увидел сразу столько блестяще образованных людей, с которыми иметь дружеские отношения было почетно для лучших из горожан. Несмотря на удаленность от столиц, все те, кто жил здесь на поселении (М. А. Фонвизин, И. А. Анненков, А. М. Муравьев, П. С. и Н. С. Бобрищевы-Пушкины, П. Н. Свистунов, С. М. Семенов), имели подробные сведения о процессе петрашевцев. «Везде – по пространству всей Сибири, начиная от Тобольска, – в Томске, Красноярске, в Иркутске и далее, за Байкалом, – он найдет наших, которые все, без исключения, будут ему помощниками и словом и делом... Его везде встретят как родного» 7, – писал Е. П. Оболенский брату о их близком родственнике Н. С. Кашкине (получившем, однако, по приговору не сибирскую каторгу, а ссылку рядовым на Кавказ). Жены декабристов сразу взяли осужденных под свою опеку.
Несмотря на строгий надзор, жене Фонвизина Наталье Дмитриевне (супруги жили в Тобольске уже 12 лет и считались «своими») удалось навестить Петрашевского. Убеждения его кружка – социализм, коммунизм, фурьеризм – были ей совершенно чужды, но страдальцы нуждались в помощи, и это было выше идейных различий. Она легко победила предубеждение Петрашевского против декабристов; живое сострадание смягчило холодность и отчужденность. В письме, адресованном к брату мужа и отправленном в мае 1850-го с оказией, она подробно описала свои встречи с узниками8. «На меня вдруг напала такая жалость, такая тоска о несчастном, так живо представилось мне его горькое, безотрадное положение, что я решилась подвергнуться всем возможным опасностям, лишь бы дойти до него». Зашив в ладанку 20 рублей серебром и образок, она отправилась в острог к обедне вместе со своей няней М. П. Нефедовой, добровольно разделившей с ней ссылку. Под предлогом раздачи милостыни Фонвизина пробралась в тюремную больницу, увиделась с больным Петрашевским, передала ему ладанку с деньгами – и, к ужасу своему, узнала, что ее старший сын Дмитрий, студент Петербургского университета, оставленный на попечение родственников трехлетним ребенком, тоже был замешан в деле, но избежал ареста, уехав лечиться на юг России от чахотки (приказ об аресте был уже подписан Дубельтом).
Выйдя от Петрашевского и не помня себя от жгучей и давящей сердце скорби, Наталья Дмитриевна отправилась в другие отделения острога. «Пришли в одну огромную удушливую и темную палату, наполненную народом; от стеснения воздуха и сырости пар валил, как от самовара, – напротив дверь с замком и при ней часовой... “Отвори, пожалуйста, я раздаю подаяние”. Он взглянул на меня, вынул ключ и, к великому моему удивлению, отпер преравнодушно и впустил меня. Четверо молодых людей вскочили с нар. Я назвала себя и спросила об именах их – то были Спешнев, Григорьев, Львов и Толль. Спешнев – прекрасный и преобразованный молодой человек. Григорьев и Львов тоже премилые. Первый грустный и молчаливый, а второй живой, маленький и веселый. Толль – претолстый молодой человек и по наружности кажется весьма ограниченным. Я уселась вместе с ними, и, смотря на эту бедную молодежь, слезы мои, долго сдержанные, прорвались наружу – я так заплакала, что и они смутились и принялись утешать меня... Узнав, что я от Петрашевского, догадались о моей скорби тотчас – и, не принимая нисколько на свой счет, утешали меня в моем горе. Это взаимное сочувствие упростило сейчас наши отношения, и мы как давно знакомые разболтались... Мне было так ловко и хорошо с новыми знакомыми, что я забыла о времени».
Уходя, Фонвизина произнесла: до свиданья. «После этого нам уже невозможно было не принимать живейшего участия во всех этих бедных людях и не считать их своими».
Обещанное свидание состоялось на следующий день и было обставлено весьма ловко: на квартиру смотрителя острога, куда будто бы в гости пришли Фонвизина, Муравьева, Анненковы (мать и дочь) и Свистунов, привели арестантов. «Смотритель и офицер согласились на нашу просьбу и сначала привели Петрашевского одного. Он был с нами довольно долго – мы его угощали, смотритель потчевал чаем. Он так сосредоточен в себе, что даже не замечает, что ест. Этого увели, привели 4-х, с которыми я сидела взаперти, их не приказано было сводить вместе с Петрашевским и с тремя остальными – нам стало жаль, что трое остальных как бы покинуты».
«Трое остальных» были Достоевский, Дуров и Ястржембский. «Становилось поздно, и няня вздумала просить офицера, чтобы и остальных привели, не уводя еще этих. Тот взял на свой страх. Вдруг мы слышим звук цепей, все вскочили и, когда вошли, с криком бросились обнимать друг друга, – описать восторга их при неожиданном свидании друг с другом невозможно. Мы все прослезились, и даже смотритель. Им столько было сообщить друг другу, что мы оставили их на несколько времени и сами забились в уголок... Поговорив и успокоившись, они бросились к нам с благодарностью, целовали нам платье, руки, как обрадованные дети».
Едва выйдя из острога, в 1854-м, Достоевский взволнованно напишет об этом свидании, как о ярчайшем впечатлении:
«Спешнев и другие, приехавшие раньше нас, сидели в другом отделении, и мы всё время почти не видались друг с другом». В этом почти, которое Ф. М. тогда не мог раскрыть даже брату («здесь не место»), сказались нечаянная радость и восторг – надо полагать, теперь и Спешнев был открыт общему порыву.
«В ожидании дальнейшей участи сидели в остроге на пересыльном дворе, жены декабристов умолили смотрителя острога и устроили в квартире его тайное свидание с нами. Мы увидели этих великих страдалиц, добровольно последовавших за своими мужьями в Сибирь, – продолжил Достоевский в 1873-м. – Они бросили всё: знатность, богатство, связи и родных, всем пожертвовали для высочайшего нравственного долга, самого свободного долга, какой только может быть. Ни в чем неповинные, они в долгие двадцать пять лет перенесли всё, что перенесли их осужденные мужья. Свидание продолжалось час. Они благословили нас в новый путь, перекрестили и каждого оделили Евангелием – единственная книга, позволенная в остроге. Четыре года пролежала она под моей подушкой в каторге. Я читал ее иногда и читал другим. По ней выучил читать одного каторжного».
Была в этой истории и еще одна сказочная подробность: жандармский офицер Смольков, пораженный безоглядной смелостью Фонвизиной, захотел помочь ей и передал всем узникам деньги, вделанные в Евангелия, а также показал каждому, как заклеивать купюры в переплет книги и как их доставать оттуда. «При вступлении в острог, – уточнит Достоевский в 1860-м, – у меня было несколько денег; в руках с собой было немного, из опасения, чтоб не отобрали, но на всякий случай было спрятано, то есть заклеено, в переплете Евангелия, которое можно было пронести в острог, несколько рублей. Эту книгу, с заклеенными в ней деньгами, подарили мне еще в Тобольске те, которые тоже страдали в ссылке и считали время ее уже десятилетиями и которые во всяком несчастном уже давно привыкли видеть брата. Есть в Сибири, и почти всегда не переводится, несколько лиц, которые, кажется, назначением жизни своей поставляют себе братский уход за “несчастными”, сострадание и соболезнование о них, точно о родных детях, совершенно бескорыстное, святое».








