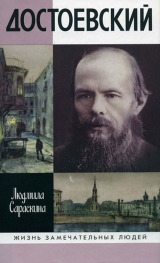
Текст книги "Достоевский"
Автор книги: Людмила Сараскина
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 47 (всего у книги 70 страниц) [доступный отрывок для чтения: 25 страниц]
Кого он хотел изобразить «слишком давно»?
Право биографа искать ключ к пониманию натуры литературного героя неоспоримо. Как правило, этот ключ видится в сходстве автора и героя – портретного, духовного, бытового, событийного. Если сходство есть, его быстро обнаруживают. Давно установлено, что герой из плана «Жития великого грешника» многими чертами характера напоминал молодого Достоевского, каким он выглядел по письмам брату Михаилу. Но герой «Жития» и должен был походить на автора «Жития», раз главный вопрос задуманного сочинения звучал как существование Божие: тот самый, которым как раз автор мучился всю свою жизнь.
Какой же ключ мог бы подойти к образу Ставрогина? Ведь в случае с «обворожительным демоном» биографические сближения таили скандальный оттенок и служили внелитературным целям. К примеру, печально известные страховские разоблачения в письме Л. Н. Толстому имели заднюю мысль: ценой осквернения памяти одного писателя заслужить после его смерти дружбу и доверие другого. Меж тем Страхов был первым, у кого в руках оказалась тайна замысла Достоевского, – именно ему в октябре 1870-го Ф. М. признался: «Новый герой до того пленил меня...» И если бы Страхова-критика действительно занимали творческие загадки, он скорее других мог бы догадаться, почему новый герой пленяет автора, как только достигает нужного демонического градуса.
«Близость наша была так велика, что я имел полную возможность знать его мысли и чувства...» 2– утверждал Страхов в воспоминаниях о Достоевском. Собственно, только он и мог понять, какой же именно ключ вручил ему Достоевский. Но не понял – ни тогда, когда получал от автора «Бесов» по письму ежемесячно, имея богатую возможность задавать любые вопросы о новом сочинении (ведь спрашивал же Майков насчет Яновского – не он ли прототип «вечного мужа», и Достоевский честно отвечал). Не захотел Страхов узнать больше и тогда, когда писал «Воспоминания» – работе над «Бесами» была посвящена всего одна строка3, и тогда, когда в письме Толстому отрекался от своих мемуаров: «Все время писанья я был в борьбе, я боролся с подымавшимся во мне отвращением, старался подавить в себе это дурное чувство... Но пусть эта правда погибнет, будем щеголять одною лицевою стороною жизни, как это мы делаем везде и во всем!» 4
Что же могла значить лично для Достоевского мрачная стихия души демонски порочного Князя А. Б., каким он представал в записных тетрадях 1870 года?
Когда Достоевский писал Каткову, что своего нового героя «слишком давно уже хотел изобразить», он был честен и точен. Он и в самом деле давно уже знал своего «хищного», был связан с ним – не только «возмущающими нашептываниями», но и общей судьбой. Писать же о своей судьбе, своей истории, обойдя молчанием того, кто давно вселился в сердце, было недостойно и бессмысленно. Имея в виду как раз роковую способность демонской личности овладевать сердцем «смирного», Достоевский и употребил в высшей степени точное, но понятное только ему выражение: «Я из сердца взял его».
Но дерзость всего замысла с риском потерять зря время, с пожертвованиями уже написанного варианта романа проявилась в намерении, лаконично обозначенном простым глаголом: ИЗОБРАЗИТЬ.
Изобразить своего демона – вслед за великими мастерами, дерзнувшими запечатлеть те силы и стихии, которыми они были одержимы, – это была достойная цель. «Тогда какой-то злобный гений / Стал тайно навещать меня. / Печальны были наши встречи: / Его улыбка, чудный взгляд, / Его язвительные речи / Вливали в душу хладный яд...» Об этом, вероятно, и следовало бы написать Каткову, если бы в деловом письме был уместен возвышенный поэтический слог. Но не решаясь на бо'льшую откровенность, Достоевский все же намекнул:
«Это и русское, и типическое лицо...»
Суть дела, однако, состояла в том, что ассоциации с демонскими предшественниками были как раз крайне нежелательны – нельзя было никому подражать и никого повторять. Следовало воздержаться от романтических штампов и байронических отвлеченностей. Человеческая судьба и романная история героя должны были быть слиты с судьбой и историей автора – в этом и заключался глубинный смысл и з о б ражен и я демона.
Понимая, задача какой сложности встала перед ним, Достоевский не скрывал, как грустно ему будет, если лицо не удастся или выйдет ходульным. «Что-то говорит мне, что я с этим характером справлюсь. Не объясняю его теперь в подробности; боюсь сказать не то, что надо. Замечу одно: весь этот характер записан у меня сценами, действием, а не рассуждениями; стало быть, есть надежда, что выйдет лицо».
Все сошлось в дерзновенном решении справиться с демоном, изобразив его. Чтобы освободиться от демона – если только это входило в намерения Достоевского – следовало творчески овладеть им.
Автору и герою предстояло помериться силами. Тот факт, что формально герой находился как бы в полной авторской власти, не делал поединок легче.
Глава вторая
ЧТО СЧИТАТЬ ЗА ПРАВДУ?
Работа наудачу. – Исцеление. – Краски для демона. – «Донос» Страхова. – Двойники и антиподы. – Существа в беспредельности. – Маска Мефистофеля. – Спешнев и Ставрогин. – Преображение прототипа. – Высший произвол
Спустя месяц после выхода в свет начальных глав романа появились первые отклики. Критики были осторожны и на всякий случай ограничивались общими местами. Анонимный рецензент «Биржевых ведомостей», воздав дань таланту писателя, дежурно напомнил об угасании его дара и одноцветности недавних сочинений. В обзоре «Голоса» критиковалась повествовательная манера, достоинства которой могли обернуться недостатками: тонкий анализ душевных движений граничил с излишеством, утомительной многословностью рассказа.
В сущности говорилось то же самое, что в связи с «Идиотом» писал Страхов: якобы невладение талантом, неэкономное расходование художественных средств. «Вы ужасно метко указали главный недостаток, – дипломатично отвечал критику Достоевский. – Да, я страдал этим и страдаю; я совершенно не умею, до сих пор (не научился), совладать с моими средствами. Множество отдельных романов и повестей разом втискиваются у меня в один, так что ни меры, ни гармонии. Всё это изумительно верно сказано Вами, и как я страдал от этого сам уже многие годы, ибо сам сознал это. Но есть и того хуже: я, не спросясь со средствами своими и увлекаясь поэтическим порывом, берусь выразить художественную идею не по силам... И тем я гублю себя».
Однако в письме Страхова Достоевского больше всего беспокоило молчание о главном. Критик писал, как прелестен Степан Трофимович Верховенский, как глубок и ярок Кириллов, как хороши сцены с Хромоножкой и Кармазиновым. О Ставрогине, как ни надеялся Ф. М. услышать хоть что-то, не было ни слова.
«Пишу наудачу. Вот теперешний мой девиз», – признавался он Страхову, когда уже была напечатана треть романа. Писать н а удачу – значило писать без всякого внешнего одобрения. Ведь не только Страхов, но и никто другой ничего не сказал о его новом герое – ни анонимные рецензенты, ни Майков, восхищавшийся Степаном Трофимовичем, этим «тургеневским героем в старости», хваливший Шатова и Хромоножку. Впрочем, некий намек можно было усмотреть в рецензии «Санкт-Петербургских ведомостей» (1871, 6 марта):
«Вместе с живыми лицами выходят куклы и надуманные фигуры; рассказ тонет в массе ненужных причитаний, исполненных нервической злости...»
Работа н а удачу (Ф. М. боялся, что он испортит роман «до грязи, до позора») шла туго, вяло, усиливала тревогу и мрачное настроение. В апреле 1871 года исполнялось четыре года, как он жил вне России, и надежда на возвращение казалась все более призрачной. Ф. М. чувствовал, что на чужбине гибнет его талант и что для «Бесов» ему во что бы то ни стало нужна Россия. Анна Григорьевна снова ждала ребенка, и если они не вернутся домой до родов, то застрянут здесь еще на год. Мучительные, гнетущие мысли... От Дрездена до Висбадена было сравнительно недалеко...
Недельная поездка на рулетку в апреле 1871 года, предпринятая в момент тяжелого творческого кризиса, была инициирована, как уверяла позднее Анна Григорьевна, именно ею, выдавшей мужу сотню «свободных талеров» и предвидевшей проигрыш (но почему же через три дня Ф. М. умолял ее не отчаиваться, уверяя, что есть несчастья, которые сами в себе носят и наказание?). Впервые за десять лет он боялся играть. Накануне видел во сне покойного отца («но в таком ужасном виде, в каком он два раза только являлся мне в жизни, предрекая грозную беду, и два раза сновидение сбылось»), а также свою 25-летнюю Аню, но совершенно седой. Сон потряс его до глубины души. И все же он поехал, пришел в воксал, стал у стола и начал ставить мысленно, угадал десять раз кряду, угадал даже шанс zero. Он был так поражен чудом мысленной удачи, что включился в игру и в пять минут выиграл 18 талеров. Он мечтал привезти домой хоть что-то, хоть 30 талеров, но вскоре проиграл всё и на взволнованное, тревожное письмо жены ответил «подло и жестоко», требуя прислать денег...
Тем же вечером с ним приключилась странная история. Выбежав из казино, Ф. М., как очумелый, бросился к священнику Янышеву, который однажды, в подобных же обстоятельствах, уже выручал его. «Я думал дорогою, бежа к нему, в темноте, по неизвестным улицам: ведь он пастырь Божий, буду с ним говорить не как с частным лицом, а как на исповеди». Но заблудился и, когда дошел до церкви, которую принял за русскую, узнал (ему сказали в лавочке), что это – еврейская синагога. «Меня как холодной водой облило». Бросился обратно в отель и всю ночь писал Ане, плакал, каялся, просил прощения – так же, как и прежде, десятки раз.
Достоевский был уверен, что этот раз – последний. «Теперь эта фантазия кончена навсегда... Я никогда не ощущал в себе того чувства, с которым теперь пишу. О, теперь я развязался с этим сном и благословил бы Бога, что так это устроилось... Не думай, что я сумасшедший, Аня, ангел-хранитель мой! Надо мной великое дело совершилось, исчезла гнусная фантазия, мучившая меня почти 10 лет. Десять лет (или, лучше, с смерти брата, когда я вдруг был подавлен долгами) я всё мечтал выиграть. Мечтал серьезно, страстно. Теперь же всё кончено! Это был ВПОЛНЕ последний раз! Веришь ли ты тому, Аня, что у меня теперь руки развязаны; я был связан игрой, я теперь буду об деле думать и не мечтать по целым ночам об игре, как бывало это. А стало быть, дело лучше и спорее пойдет, и Бог благословит!.. Я перерожусь в эти три дня, я жизнь новую начинаю... А до сих пор наполовину этой проклятой фантазии принадлежал».
Он не старался убедить жену, будто сам, своими силами может удержаться от «гнусной фантазии». Его заслуги в деле перерождения вроде и не было – не он совершил великое дело, но оно совершилось над ним. «Теперь буду работать для тебя и для Любочки, здоровья не щадя, увидишь, увидишь, увидишь, всю жизнь, И ДОСТИГНУ ЦЕЛИ! Обеспечу вас». С благодарностью отдавал он свое новое сочинение на волю высших сил, которые – теперь он был уверен в этом – действительно помогали ему. Похоже, новый роман вытаскивал его из игорного вихря.
Действительно, опыт 1871 года положил предел многолетнему кошмару. В пламенных висбаденских письмах Достоевского звучало страстное обещание – не ходить к здешнему батюшке Янышеву за деньгами, которые могут быть снова брошены на игорный стол. «Не беспокойся, не был, не был и не пойду!.. К священнику же не пойду, не пойду, клянусь, что не пойду!»; «К священнику не пойду, ни за что, ни в каком случае. Он один из свидетелей старого, прошедшего, прежнего, исчезнувшего! Мне больно будет и встретиться с ним!»
Сразу по приезде в Дрезден, принявшись за продолжение
«Бесов», Достоевский записал вчерне несколько сцен на тему
«Князь и Тихон». Вместо сочинителя, надорванного гибельным омутом рулетки, на исповедь и покаяние к старцу отправлялся его новый герой, Князь-солнце, в ком ужасные страсти трагически боролись с подвигом.
Скромные достоинства игрока Алексея Ивановича меркли перед жестоким обаянием нового героя; сомнительное очарование zero не шло ни в какое сравнение с масштабами грандиозного и в высшей степени опасного замысла. Рискованная художественная игра в магию подлинности рождала новую творческую легенду, чреватую неизбежными жертвами. «Тут действительно есть что-то, что' переступает “за черту” искусства: это слишком живо» 5, – напишет позже Дмитрий Мережковский, первым прочтя неопубликованную главу «У Тихона».
Этой опаснейшей художественной работе и суждено было вытащить Достоевского из омута русской игры, чтобы явить то единственное в своем роде исключение, о котором говорил благородный английский сахаровар мистер Астлей, персонаж
«Игрока»: «На мой взгляд, все русские таковы или склонны быть таковыми. Если не рулетка, так другое, подобное ей. Исключения слишком редки. Не первый вы не понимаете, что такое труд (я не о народе вашем говорю). Рулетка – это игра по преимуществу русская».
«Трудно было быть более в гибели, – писал Достоевский жене из Саксон-ле-Бена о лихорадке 1865 года, – но работа меня вынесла». Он свято верил, что вытащить его из игорного омута и спасти сможет только работа – роман. Так случилось, что спасительным сочинением стало не «Преступление и наказание» (на что была надежда в 1865-м), и не «Идиот» (на что была надежда в 1867-м), а только «Бесы». Обещание, данное в момент работы над «Бесами», оказалось – впервые – посильным для исполнения.
«Конечно, я не могла сразу поверить такому громадному счастью, как охлаждение Федора Михайловича к игре на рулетке, – вспоминала Анна Григорьевна. – Ведь он много раз обещал мне не играть и не в силах был исполнить своего слова. Однако счастье это осуществилось, и это был действительно последний раз, когда он играл на рулетке. Впоследствии в свои поездки за границу (1874, 1875, 1876, 1879 гг.) Федор Михайлович ни разу не подумал поехать в игорный город. Правда, в Германии вскоре были закрыты рулетки, но существовали в Спа, в Саксоне и в Монте-Карло. Расстояние не помешало бы мужу съездить туда, если б он пожелал. Но его уже более не тянуло к игре. Казалось, эта “фантазия” Федора Михайловича выиграть на рулетке была каким-то наваждением или болезнью, от которой он внезапно и навсегда исцелился».
...В начале мая 1871 года вышла апрельская книжка «Русского вестника» с окончанием первой части романа: на сцену являлся «хищный тип», замысел которого автор откладывал много лет. Краски художника смешивались дерзко и вызывающе; автор усердно работал, создавая герою репутацию буяна и светского льва. Длинный шлейф опасных безумств, глухие слухи о загадочном прошлом, а также поразительная красота и изящество облика создавали изысканно-утонченный контраст, поражавший воображение. Всем в мире романа, кто впервые видел Ставрогина, он казался зловеще прекрасным: хотелось – как на слепящем солнце – закрыть глаза или спрятаться в тень. Оставив в прошлом безумные кутежи и дикую разнузданность, герой являлся в облике неотразимо обольстительном и как бы вечно новом; чары мужского обаяния соединялись с безупречностью жеста и блеском светского шарма. Магическое очарование героя гипнотизировало, заставляло видеть происходящее в каком-то призрачном свете. И если «безмерная высота» Николая Всеволодовича заключалась в его нечеловеческой власти над людьми, то он был еще и завораживающе ласковым, приветливым демоном.
Разрабатывая любовные линии «Бесов», которые должны были, перекрещиваясь и переплетаясь, создавать напряженную атмосферу романной интриги, автор, обладавший неукротимой фантазией, насыщал их причудливым и усложненным эротизмом. Но при всем обилии вариантов, при всей огромности любовного потенциала, которым автор награждал героя, стилистика его эротических начинаний имела вполне опознаваемый акцент: Ставрогин уподоблялся не столичному ловеласу, не губернскому Казанове, а Эроту, божеству любви – смелому, крылатому стрелку, чьи стрелы пронзают сердце и зажигают его непобедимым влечением. «Помещик с крылышками» оказывался красавцем, божественно одаренным всевластной мировой силой, вечной и неутолимой жаждой обладания, – то есть не только сияющим и искусным, но также коварным и беспощадным.
Донжуанский список Ставрогина (Князь трижды был назван Дон Жуаном в черновых тетрадях) свидетельствовал об исключительной разносторонности его любовных предпочтений, ничего общего не имевших с общепринятыми стандартами. Дон Жуан оказывался «кроток, скромен, тих, безмерно горд и зверски жесток»; зверский огонь вспыхивал и разгорался в нарушение всех общественных правил и приличий. Неистовая одержимость жертв возбуждала сладострастие Князя и его потребность томить, «выдерживать» околдованных им женщин, то есть действовать «по-печорински» – холодно, властно, с ястребиной целеустремленностью. Намеченную жертву надлежало измучить таким страстным томлением, заморочить таким густым туманом неясности, что она приходила сама, без приглашения и даже без видимого повода – приходила и бросалась к ногам. Вот тут-то, насладившись унижением дамы, и следовало отказать ей с обидным пренебрежением.
Впрочем, иногда он «оставлял мгновение за собой», чтобы отказать уже наутро, и, откровенно презирая красавиц за их всегдашнюю готовность броситься ему в объятия, неизменно ускользал... Достоевский видел характер сумасшедший, со вспышками мгновенной страстности и глубокой сердечной нежности; внушая очередной жертве коварную мысль о своей неспособности полюбить, он буквально приковывал ее к себе цепями азартного и самонадеянного сострадания.
Пройдет немногим больше десяти лет, Достоевского уже не будет в живых, и Страхов решится «заявить» на своего покойного друга: «Его тянуло к пакостям, и он хвалился ими... Лица, наиболее на него похожие, – это герой Записок из подполья, Свидригайлов в Прест. и Нак. и Ставрогин в Бесах» 6. Когда в 1914 году А. Г. Достоевская впервые прочитала эти строки, она возмутилась до глубины души: «Человек, десятки лет бывавший в нашей семье, испытавший со стороны моего мужа такое сердечное отношение, оказался лжецом, позволившим себе взвести на него такие гнусные клеветы! Было обидно за себя, за свою доверчивость, за то, что оба мы с мужем так обманулись в этом недостойном человеке».
Дело было не только в том, что Страхов «донес» на Достоевского, когда писателя уже не было в живых и он не мог себя защитить, и даже не в том, что «донос» содержался в письме Толстому, то есть был обречен на публичность. Быть может, литературная зависть Страхова, его человеческая заурядность, которую он годами пытался скрывать, тесно общаясь с двумя гениями, были истинным несчастьем, и он не удержался на точке чести и благородства.
Но страховский «донос», обнаживший злое лицемерие, самолюбивую зависть доносчика к чужой славе и любовь к «пирогам жизни» (в рабочих тетрадях Достоевский оставил едкую характеристику критика), был чреват и саморазоблачением. Называя среди лиц, «наиболее похожих» на Достоевского, Ставрогина, Страхов рисковал выглядеть или действительно был элементарно некомпетентным: зная автора «Бесов» так долго и так близко, он не почувствовал, что писатель вывел на сцену не своего двойника, а своего антипода.
«Пожилой, некрасивый мужчина...» – так, по словам Анны Григорьевны, рекомендовал ей себя Достоевский. Наружность Достоевского, описанная самыми разными людьми, смотрелась естественно рядом с типажами из «Бесов». «Взгляните на лицо Достоевского, – писал в 1888 году Фридриху Ницше датский критик Георг Брандес, знавший лицо Достоевского лишь по фотографиям и портретам, – наполовину лицо русского крестьянина, наполовину – физиономия преступника, плоский нос, пронзительный взгляд маленьких глаз под нервно подрагивающими веками, этот высокий, рельефно очерченный лоб, выразительный рот, который говорит о безмерных муках, неизбывной скорби, о болезненных страстях и ярой зависти. Гений-эпилептик, одна уже внешность которого говорит о приливах кротости, заполнявших его душу, о приступах граничащей с безумием проницательности, озарявших его голову; наконец, о честолюбии, о величии стремлений и о недоброжелательстве, порождающем мелочность души...» 7
Если признать этот словесный портрет хотя бы отчасти похожим на оригинал, если согласиться с заявлением Страхова, что Достоевский создавал героев по своему образу и подобию, то всё как будто сходится: писатель и многие его герои кажутся людьми, вылепленными из одного теста, – бледный, злой Подпольный с всклокоченными лохмами; опухший, отечный, с крошечными красноватыми глазками Мармеладов; косматый низкорослый неуклюжий Шатов...
И только одно лицо явилось в эту портретную галерею будто из другого мира, вылепленное из иного, неведомого материала. Достоевский творил Ставрогина как эстетический вызов и самому себе, и своей привычной среде. Долго и тщательно подбирая тона и краски для героя, писатель создавал существо другой породы и другого порядка. Во всех подробностях своего бытия не похожее на автора, оно вызывало не зависть и раздражение, а восторг и восхищение.
Достоевский бился в нищете и зарабатывал на жизнь тяжким литературным трудом, беря деньги в долг и вперед, – его герой был обеспечен и независим. Достоевский был тяжело нездоров – его герой отличался чрезвычайной физической и телесной силой. В ранней юности Достоевский остался сиротой и родней имел московских купцов – его герой вращался в высшем петербургском обществе, куда автора «Бедных людей» пустили как свежую знаменитость лишь раз-другой.
Писатель сочинил для своего красавца, богача и аристократа Ставрогина завидную биографию. В том самом возрасте, когда Достоевский носил ножные кандалы и куртку каторжника, расплачиваясь за увлечения молодости, его герой путешествовал: вся Европа, Иерусалим, Исландия. В остроге Достоевскому запрещали читать и писать – его герой получал образование в немецких университетах. Герой, бесстрашный барин, мог позволить себе роскошные причуды и изысканные шалости – просто так, для развлечения. Литературный пролетарий Достоевский даже на рулетку ездил от безысходности – в надежде на спасительный выигрыш.
Герой, с его победительным мужским обаянием, имел феноменальный успех у дам – у всех дам; его триумфы были тем бесспорнее, чем бо'льшим «хищником» и «кровопийцем» хотел он себя показать. Автор в своей интимной жизни играл роль не «хищную», а «смирную», и был чаще всего не адресатом любовных посланий, а почтальоном и конфидентом – в мире инфернальных романов ему никогда бы не досталась роль инфернального героя. Ставрогин, согласно замыслу автора, обольщал, околдовывал и порабощал всех, кто имел роковую неосторожность подойти к нему слишком близко; мужчины «Бесов» претерпели в этом смысле ничуть не меньше, чем женщины.
«Ставрогин, для чего я осужден в вас верить во веки веков?.. Разве я не буду целовать следов ваших ног, когда вы уйдете?» – пламенно кричал бесталанный Шатов. «Вспомните, что вы значили в моей жизни, Ставрогин!» – восклицал маниакальный Кириллов. «Вы значили столько в судьбе моей!.. Я же имею теперь великие страхи, и от вас одного только и жду и совета и света», – открывался Ставрогину капитан Лебядкин.
«Ставрогин, вы красавец!.. Я люблю красоту... Я люблю идола! Вы мой идол!.. Я никого, кроме вас, не знаю. Вы предводитель, вы солнце, а я ваш червяк...» – неистовствовал Петруша Верховенский.
«Мы два существа и сошлись в беспредельности... в последний раз в мире». Эти пронзительные слова Шатова с гораздо большим основанием могли бы быть сказаны самим Достоевским: он и герой «безмерной высоты» сходились в беспредельности романического вымысла в первый и последний раз. В этом призрачном диалоге Достоевскому выпадала роль Шатова. «Я не могу вас вырвать из моего сердца!» – твердил Шатов своему кумиру. «Я из сердца взял его», – будто повторял вслед за Шатовым Достоевский.
Так же как и Шатов, познал Достоевский гибельный холод одиночества и тот ужас безнадежности, который охватывает человека, когда ответом на сердечное признание оказывается гримаса высокомерного безразличия. «Мне жаль, что я не могу вас любить, Шатов», – холодно говорил Шатову Николай Всеволодович, не церемонясь с учеником («Шатова он околдовал и с презрением бросает», – стояло в черновиках). «Вы никого не оскорбляете, и вас все ненавидят; вы смотрите всем ровней, и вас все боятся... К вам никто не подойдет вас потрепать по плечу», – восторгался Ставрогиным Петр Степанович.
Никогда не имел Достоевский аристократического блеска и великолепия манер, никогда не мог усвоить безмятежное спокойствие и невозмутимость тона. Он писал длинные просительные письма, которых стыдился; он вынужден был излагать свои частные обстоятельства с унизительными мелкими подробностями, был мнителен и недоверчив, мучился невыдержкой тона не только на бумаге, но и на людях. Он появлялся в гостиных, сгорбившись, мрачно поглядывая вокруг и сухо раскланиваясь. По словам литературных знакомцев, он не был создан для «света». Он не знал тонкостей салонного обращения – этой холодной вежливости и любезной привычки смотреть через плечо, которые новичка могли довести до обморока. Формальный вопрос о здоровье, заданный Достоевскому в «свете», мог так оскорбить его, что он замыкался в глухом молчании на весь вечер. Многие запомнили его болезненным, раздражительным, нервным и крайне обидчивым. Его растрепанные нервы, его странности были притчей во языцех.
Но с каким любовным тщанием, с каким вдохновением придумывал он светский почерк Ставрогина, когда тот играл роль завсегдатая гостиных! Писатель сочинял легкие, как дым, диалоги в «светском» ключе – в них его Nicolas был верхом совершенства, впрочем, как и во всем другом по части изящества и самого утонченного благообразия: он и одевался так, что губернские франты смотрели на него с завистью и «совершенно пред ним стушевывались». «Безмерная высота», на которой обретался герой, была создана на пределе авторского представления об аристократической роскоши, комфорте, утонченном вкусе.
Мемуаристы обычно вспоминали скромную обстановку комнат, которые снимал Достоевский: простые письменные столы, какие стоят в казенных присутствиях, старые кресла без мягких сидений, рыночные диваны, жесткие стулья; посетители заставали писателя дома в неизменном потертом пальто из черного сукна – оно служило ему домашней одеждой много лет подряд. «Пошлого в нем нет, но он мещанин. Да, мещанин. Не дворянин, не семинарист, не купец, не человек случайный, вроде художника или ученого, а именно мещанин. И вот этот мещанин – глубочайший мыслитель и гениальный писатель» 8, – замечала в 1880 году Штакеншнейдер.
Сойдясь со своим героем в метафизическом пространстве, на границе романического вымысла и собственной жизни, Достоевский будто бросал ему вызов: кто ты и кто я? Я – бедный, изнуренный работой, тщедушный, некрасивый пожилой «мещанишко», с грубым и простым лицом, измученный нездоровьем и дурным бытом. Ты? Тебя я вижу бесконечно сияющим, обольстительным красавцем; я придумал тебя, дав все лучшее, достойное беспредельного восхищения. Сотворив тебя таким, я дал тебе шанс, какого никогда не было у меня. Что ты сделаешь с ним и с собой?
Приглашение к дуэли было тем более парадоксальным, что вызываемый к барьеру персонаж сам был мучим виде'ниями и призраками. Достоевский смотрел в зеркало сочиняемого романа и видел своего демона грозным светоносным красавцем. А грозный красавец имел обыкновение устремлять неподвижный взор в одну точку в углу комода. Оттуда ему являлся его демон – «маленький, гаденький, золотушный бесенок с насморком, из неудавшихся».
...Напомню об открытии Миллера, когда он прочитал воспоминания, записки и рассказы людей, близко знавших писателя. Орест Федорович увидел, что роман «Бесы», во-первых, странно не понят; во-вторых, является сочинением автобиографическим «в психологическом смысле». Это значило, что искать точные аналогии с реальной жизнью Достоевского в романе бесполезно, но в нем с автобиографической определенностью присутствует история его духовных увлечений. Ни один из воспоминателей и товарищей писателя эту догадку никогда не отрицал. Осознав, что «Бесы» – в значительной степени история революционной молодости Достоевского, а не только исторический этюд о нечаевских событиях 1869 года, интерпретаторы обнаруживали в романе, наряду с хроникой былого и политической злобой дня, даже личные мемуары – о временах «петрашевских».
Однако оттого что автор насыщал роман «петрашевскими» красками, он еще не становился автобиографическим. Пронзительно личные, обжигающе интимные интонации замысел начал обретать тогда, когда его центральный герой, пройдя невероятную череду превращений, приблизился наконец к той черте, за которой взрывался памфлет и вырастала трагическая мистерия. «Князь молчит и хоть ничего не говорит, но видно, что он господин разговора... Иногда молчаливо любопытен и язвителен, как Мефистофель. Спрашивает как власть имеющий, и везде как власть имеющий».
Повинуясь какому-то импульсу, какому-то неясному намеку, Достоевский заставил пока еще аморфного героя встретить страстные речи Шатова многозначительным мефистофельским молчанием.
Маска Мефистофеля, мелькнувшая вдруг в облике Князя, магически воскресила память. Нечто глубоко в ней спрятанное вспыхнуло и загорелось – и этот огонь придал мучительным и до того времени бесплодным поискам чудодейственную энергию и целеустремленность.
«Понимаете ли вы, что у меня с этого времени есть свой Мефистофель, – твердил Ф. М. доктору Яновскому два с лишним десятилетия назад, когда обнаружилось, что он опасно покорился авторитету «чересчур сильного барина» и стал его порученцем. – Теперь я с ним и его». Речь шла совсем не о деньгах, которые Спешнев дал в долг Достоевскому, а о тяготившей писателя подчиненности чужой воле, когда его пыл агитатора сменялся длительными дурнотами. Достоевский переживал свою несвободу как физическую болезнь – всем своим естеством – и имел предчувствие, что она, болезнь, не пройдет, а долго и долго будет его мучит ь.
Когда доктор Яновский опубликовал свои мемуары, где был фрагмент о Спешневе-Мефистофеле, он никак не мог знать, что в черновиках к «Бесам», хранимых вдовой писателя, содержатся строки, поразительно созвучные той фатальной фразе, которую воспоминатель хранил всю свою жизнь. То же и Достоевский: когда после многих проб и вариантов ему явились строки о Князе-демоне, язвительном, как Мефистофель, он никак не мог предполагать, что через много лет эти строки причудливо отзовутся в мемуарах старого друга.








