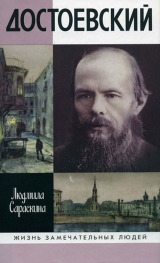
Текст книги "Достоевский"
Автор книги: Людмила Сараскина
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 59 (всего у книги 70 страниц) [доступный отрывок для чтения: 25 страниц]
ЧАСТЬ ДЕВЯТАЯ
БРАТЬЯ И БРАТСТВО
Глава первая
«MEMENTO...» ПОМНИТЬ О РОМАНЕ
Прекращение «Дневника». – Ухудшение здоровья. – Над могилой Некрасова. – Публичные чтения. – Предсказания гадалки. – Приобщение к «бессмертным». – Знаки признания. – Смерть Алеши. – На лекциях Вл. Соловьева. – У Каткова
В начале осени 1877 года, когда Достоевский с женой и детьми вернулся в Петербург после летних каникул, проведенных в имении И. Г. Сниткина (усадьба Малый Прикол в десяти верстах от заштатного городка Мирополье Суджинского уезда Курской губернии), он решил прекратить с будущего года издание «Дневника писателя», несмотря на его читательский и финансовый успех. Причин было несколько: тяготила срочная работа, многое из написанного цензура не пропускала в печать, заметно пошатнулось здоровье и, самое главное, звал большой художественный замысел.
Октябрьский выпуск «Дневника» вышел с авторским уведомлением: «По недостатку здоровья, особенно мешающему мне издавать “Дневник” в точные определенные сроки, я решаюсь, на год или на два, прекратить мое издание. Делаю это с чрезвычайным сожалением, потому что и не ожидал, начиная прошлого года “Дневник”, что буду встречен читателями с таким сочувствием. Сочувствие это продолжалось всё время, до последнего дня. Благодарю за него искренно. Благодарю особенно всех обращавшихся ко мне письмами: из писем этих я узнал много нового. И вообще издание “Дневника”, в продолжение этих двух лет, многому меня самого научило и во многом еще тверже укрепило. Но, к сожалению, я решительно принужден остановиться. С декабрьским выпуском издание окончится. Авось ни я, ни читатели не забудем друг друга до времени».
В декабрьском прощальном выпуске Ф. М. благодарил читателей, называл своих корреспондентов сотрудниками. «Мне много помогли их сообщения, замечания, советы и та искренность, с которою все обращались ко мне...» Он твердо намеревался возобновить «Дневник» спустя год, понимая, сколь важно для писателя в тяжелое время быть вместе с читателем. «Как много висит на волоске именно в настоящую минуту, и как-то заговорим обо всем этом через год!»
Он исполнит свое намерение только через три года. Новая встреча, обещанная читателям, окажется непредвиденно и трагически короткой.
24 декабря 1877 года Достоевский набросал в рабочей тетради план на ближайшее десятилетие:
«Memento. На всю жизнь.
1) Написать русского Кандида.
2) Написать книгу о Иисусе Христе.
3) Написать свои воспоминания.
4) Написать поэму “Сороковины”.
NB. (Всё это, кроме последнего романа и предполагаемого издания “Дневника”, т. е. minimum на 10 лет деятельности, а мне теперь 56 лет.)».
Здесь же были помещены перечни тем: «Мечтатель. Великий Инквизитор и Павел. Великий Инквизитор со Христом. В Барселоне поймали черта. Тайный совет, князь Д. Оболенский, три звезды на фраке, встреча с учительницами, дело в части, бежавший сумасшедший».
Планов было много, а жизни оставалось мало. Мысль и воображение настраивались на новый роман, «неприметно и невольно» сложившийся за два «дневниковых» года и рвавшийся выразиться, – туда войдут многие темы из перечня; но ни фантастического рассказа о сбежавшем сумасшедшем, ни издания ежемесячного журнала с отделами прозы, поэзии, хроники событий, новыми выпусками «Дневника», статьями и рецензиями (о замысле, который расширит «форму действия», Ф. М. писал Яновскому), ни тем более своих воспоминаний осуществить он уже не успеет.
Здоровье Достоевского зримо ухудшалось. Число припадков за время работы над «Дневником» увеличилось чуть ли не вдвое. «Небывалое еще учащение припадков», – записывал Ф. М. в июне 1876-го в памятной книжке, фиксируя сильнейшие приливы к голове, крайнюю раздражительность, грусть и ипохондрию, болезненные ощущения в пояснице и ногах.
«Очень долго не приходил в сознание... Не столько поражена голова, сколько спина и ноги... Очень усталое состояние... Очень туго соображение... Фантастичность, неясность, неправильные впечатления, разбиты ноги и руки... Более всего пострадала голова. Кровь выступила на лбу чрезвычайно и в темя отзывается болью... Смутно, грустно, угрызения... Перед тем расстроил нервы длинной работой и многим другим...»
Припадки ослабляли память писателя до такой степени, что часто он не узнавал людей, не помнил самых простых вещей и надеялся только на записную книжку. А. Г. Достоевская полагала, что самый большой промежуток между припадками насчитывал четыре месяца (сам он упоминал о перерыве в пять с половиной месяцев); при этом случались такие полосы, когда на неделе было по два припадка или через час после первого наступал второй. «Начиналось это обычно страшным нечеловеческим криком, какого нарочно никогда не произнести. Очень часто я еще успевала перебежать из своей комнаты через промежуточную, заваленную книгами, к нему и застать его, стоявшего с искаженным лицом и шатающегося. Я успевала обнять его сзади и потом опуститься на пол» 1.
Чаще всего падучая приходила ночью. «Он и спал не на постели, а на низеньком широком диване на случай падения. Он ничего не помнил, приходя в себя. Потом жалко и вопросительно произносил: “Припадок?” – “Да, – отвечаю я, – маленький!” – “Как часто! Кажется, был недавно”. – “Нет, уж давно не было”, – успокаивала я. После припадка он впадал в сон, но от этого сна его мог пробудить листок бумаги, упавший со стола. Тогда он вскакивал и начинал говорить слова, которых постигнуть невозможно. Ни предотвратить, ни вылечить этой болезни нельзя. Все, что я могла сделать, это – расстегнуть ему ворот, взять его голову в руки. Но видеть любимое лицо, синеющее, искаженное, с налившимися жилами, сознавать, что он мучается, и ты ничем не можешь ему помочь, – это было таким страданием, каким, очевидно, я должна была искупать свое счастье близости к нему. Дня четыре после каждого приступа он был разбит физически и духовно – в особенности ужасно было его нравственное страдание... Каждый раз ему казалось, что он умирает...» 2
Хуже всего было, когда приступ настигал средь бела дня, в отсутствие жены. Записная книжка, 8 апреля 1875 года: «Предчувствовал сильно с вечера да и вчера. Только что сделал папиросы и хотел сесть, чтобы хоть 2 страницы написать романа, как помню, полетел, ходя среди комнаты. Пролежал 40 минут. Очнулся, сидя за папиросами, но не сделал их. Не помню, как очутилось у меня в руках перо, а пером я разодрал портсигар. Мог заколоться... Теперь почти час после припадка. Пишу это и сбиваюсь еще в словах. Страх смерти начинает проходить, но есть всё еще чрезвычайный. Так не смею лечь. Бока болят и ноги. Уже 40 минут спустя пошел будить Аню и удивился, услышав от Лукерьи, что барыня уехала. Подробно расспрашивал Лукерью, когда и зачем она уехала. За полчаса до припадка принял opii benzoidi 40 капель в воде. Всё время полного беспамятства, то есть уже встав с полу, сидел и набивал папиросы, и по счету набил их 4, но неаккуратно, а в последние две папиросы почувствовал сильную головную боль, но не мог понять, что со мною...»
Падучая не оставит больного до конца дней – в сентябре 1880-го, после очередного припадка, Ф. М. запишет: «Порванность мыслей, переселение в другие годы, мечтательность, задумчивость, виновность, вывихнул в спине косточку или повредил мускул». Заметка от 6 ноября 1880-го, после припадка «из средних, утром в 7 часов, в первом сне», будет еще драматичнее: «Болезненное состояние очень трудно переносилось и продолжалось почти неделю. Чем дальше – тем слабее становится организм к перенесению припадков, и тем сильнее их действие».
Этого «дальше» оставалось совсем немного; эмфизема легких, катар дыхательных путей и сосудов, от чего его лечили в Эмсе, тоже не поддавались исцелению; сосуды истончались и становились опасно хрупкими. Он тяжело дышал – будто через материю, сложенную вчетверо, и с трудом ходил по лестницам. «Вот, к примеру, поднимаемся мы к Полонскому на 5 этаж, – вспоминала жена. – Садится он и отдыхает на каждой площадке. Десяток знакомых проходит мимо, видит нас и раскланивается и, конечно, несет хозяевам весть: “Идет Достоевский”. Немудрено, что когда он входит, уже и хозяин и хозяйка в прихожей, и все наперебой начинают его раздевать, а он задыхается и не может сказать слова. Но чтобы не затруднять, и сам начинает помогать раздеванию, а всякое движение ему вредно. Дома был целый обряд его раздевания – минут десять» 3.
Лечение водами давало лишь временное улучшение – при условии сна по ночам, отказа от физических и нервных нагрузок, изнурительных творческих напряжений. Но вне Эмса врачебные рекомендации теряли обязательность. Он по-прежнему писал ночами при двух свечах, ложился на рассвете или поздним утром и спал до двух часов дня, курил толстые папиросы, зажигая их одна об другую, пил крепкий черный чай и такой же кофе, не щадил себя ни в художественной работе, ни в эпистолярном общении, ни в публичных выступлениях. Провожая в последний путь друга юности Некрасова, в тиши кладбища Новодевичьего монастыря думал и о своем уходе.
«Когда я умру, Аня, похорони меня здесь или где хочешь, но запомни, не хорони меня на Волковом кладбище, на Литераторских мостках. Не хочу я лежать между моими врагами, довольно я натерпелся от них при жизни!»
На Волковом уже много лет лежали Белинский, Добролюбов, Писарев...
Но к Некрасову понятие «враг» не относилось – Достоевский не держал зла на него. С ним была связана память о начале писательского поприща; поэт был первым, кто признал талант автора «Бедных людей». И дальше тоже что-то продолжалось в их жизни, соединявшее, важное, что не хотело и не могло прерваться, даже если они годами не встречались и глубоко расходились во взглядах. В ту ночь, когда не стало Некрасова и Ф. М. всю ночь просидел над его стихами, он попытался дать себе отчет о затаенной стороне духа этого загадочного человека, крупнейшего русского поэта, стоящего в ряду поэтов вслед за Пушкиным и Лермонтовым. «Это было раненное в самом начале жизни сердце, и эта-то никогда не заживавшая рана его и была источником всей страстной, страдальческой поэзии его на всю потом жизнь».
О том же говорил Достоевский и у могилы Некрасова. «Федор Михайлович, глубоко взволнованный, прерывающимся голосом произнес небольшую речь, в которой высоко поставил талант почившего поэта и выяснил ту большую потерю, которую с его кончиною понесла русская литература. Это было, по мнению многих, самое задушевное слово, сказанное над раскрытой могилой Некрасова», – вспоминала А. Г. Достоевская. «Находясь под глубоким впечатлением, – писал Ф. М. в
«Дневнике», – я протеснился к его раскрытой еще могиле, забросанной цветами и венками, и слабым моим голосом произнес вслед за прочими несколько слов. Я именно начал с того, что это было раненое сердце...»
Слабый, глухой, взволнованный до изнеможения, прерывающийся голос Достоевского запомнился многим, кто слышал его публичные выступления в конце 1870-х. «Больной, с больным горлом и эмфиземой, опять был слышен лучше всех, – вспоминала Е. А. Штакеншнейдер. – Что за чудеса! Еле душа в теле, худенький, со впалой грудью и шепотным голосом, он едва начнет читать, точно вырастает и здоровеет. Откуда-то появляется сила, сила какая-то властная. Он кашляет постоянно и не раз говорил мне, что это эмфизема его мучает и сведет когда-нибудь, неожиданно и быстро, в могилу... Но во время чтения и кашель к нему не подступает; точно не смеет» 4.
О проникновенном чтении Достоевским пушкинского
«Пророка» писала и М. Н. Стоюнина, гимназическая подруга Анны Григорьевны: «Читал он удивительно. Никто так, как он, не читал! Незабвенное осталось впечатление!.. Маленький человечек, худенький, серенький, светлые волосы, цвет лица и всего – серый. Ну, какая же фигура для “Пророка”. И вот вырастал и вырастал! Читал он, и все слушали, затаив дыхание. Тихо начал, просто, и кончил – как пророк. У него и голос гремел, и он все вырастал. Пророк...» 5
«Когда он читал “Пророка”, казалось, что Пушкин именно его и видел перед собой, когда писал: “Глаголом жги сердца людей”» 6.
Худые, нервно сжатые руки. Изжелта-серое, усталое, почти восковое лицо. Бескровные, страдальчески изогнутые, будто в чем-то виноватые губы. Сдержанная, добродушная улыбка. Сероватая жидкая борода. Тихая походка, сосредоточенный взгляд себе под ноги, когда, сгорбившись, он шел по улице, не узнавая знакомых. Съежившиеся, словно им зябко, плечи. Незабываемые, глубоко запавшие глаза, которые сверкали как угли, когда он воодушевлялся в разговоре. «В лице Федора Михайловича всего более поражали его глаза. Они были темнокарие, глубокие, голова была покрыта темно-каштановыми, с небольшой проседью, мягкими волосами... Иногда [глаза] лихорадочно блестели, иногда казались потухшими, но в том и другом случае производили равно сильное впечатление. Это происходило еще и потому, что Ф. М., говоря, всегда смотрел пристально в упор» 7, – писала мемуаристка.
Таким в конце 1870-х Достоевского видели в домах, где он чаще всего бывал, – у Штакеншнейдер, у Я. П. Полонского, у А. П. Философовой. Анна Павловна, одна из учредительниц Высших женских курсов, супруга главного военного прокурора, называла писателя своим нравственным духовником. «Я ему все говорила, все тайны сердечные ему поверяла, и в самые трудные жизненные минуты он меня успокаивал и направлял на путь истинный. Я часто неприлично себя с ним вела! Кричала на него и спорила с неприличным жаром, а он, голубчик, терпеливо сносил мои выходки! Я тогда не переваривала романа “Бесы”. Я говорила, что это прямо донос» 8. Достоевский и в самом деле был снисходителен к обворожительной красавице (в 1877-м ей исполнилось сорок), ценя в ней «умное сердце», беззаветную доброту и талант каким-то восьмым чувством притягивать доверие людей. Именно в ее доме, где помощь оказывалась всем без исключения, расскажет Ф. М. о том черном эпизоде своего детства, когда какой-то пьяный мерзавец изнасиловал девятилетнюю девочку, и та умерла, истекая кровью.
«Знаете ли вы гадалку-француженку Фильд? Мне говорил про нее ваш брат; рассказал много интересного. Вы как ее знаете?» – спрашивал Достоевский Вс. С. Соловьева, когда в ноябре 1877 года тот навестил писателя, застав его в добром настроении и веселом расположении духа: в такие часы Ф. М. «всех любил» и «проповедовал снисходительность». О знаменитой гадалке Соловьев знал многое, так как успел побывать у нее дважды и убедиться, что пророчества француженки, сделанные в минуту вдохновения, сбываются точно и без промедления. Маленькая живая старушка с какими-то особенными черными глазами и необыкновенным даром слова сообщала ему такие вещи, которые, казалось, не могут случиться ни при каких обстоятельствах и которые тем не менее случались во всех подробностях, ею предсказанных.
Достоевский склонен был верить в возможность предсказаний. «Все верят, и если не признаются, то единственно из малодушия, которого в нас так много. Сам верит, верит, может быть, даже больше, чем бы следовало, – и в то же время смеется, глумится над искренним человеком, который так прямо и скажет, что верит...»
К мадам Фильд, проживавшей неподалеку, они отправились вместе, однако разговаривала гадалка с Ф. М. наедине.
«Она интересная женщина, – возбужденно говорил Достоевский своему спутнику по дороге домой, – и я рад, что мы к ней отправились. Может, она и наврала, но я давно не испытывал такого сильного впечатления. О, как она умеет обрисовывать людей! Если б вы знали, как она рассказала мне мою обстановку!.. Она сказала, что меня ожидает такая известность, такой почет, о которых я никогда не мог и мечтать. Поверить ей, так меня на руках будут носить, засыпать цветами – и все это будет возрастать с каждым годом, и я умру на верху этой славы... Но вот, голубчик, может быть, она врунья, только интересная... интересная врунья! А ведь я все-таки же теперь и буду ждать этой славы, и уж это утешительно!.. Она произвела на меня очень сильное впечатление. Ведь другие говорят общими местами, более или менее ловко; но сейчас же и замечаешь шарлатанство, каждое предсказание можно повернуть так или иначе – ну, а у нее все ясно...»
Увы, мадам Фильд предсказала также, что будущей весной у ее незнакомого гостя (гадалка понятия не имела, кто к ней пришел) случится семейное горе – смерть в доме. Достоевский сразу и как-то обреченно поверил: «Я теперь так и думаю, что оно наверное будет».
Дожидаться, пока сбудутся оба предсказания, долго не пришлось. Меньше чем через месяц, 2 декабря 1877 года, Достоевский был избран членом-корреспондентом Императорской Академии наук по отделению русского языка и словесности. 29 декабря избрание было оглашено в торжественном годовом собрании Академии наук и подтверждало право Достоевского приобщиться к почетному званию, какое до него из художников слова уже 25 лет носил А. Н. Майков, 20 лет – Ф. И. Тютчев, 17 лет – И. С. Тургенев и И. А. Гончаров, 14 лет – А. Н. Островский, 4 года – Л. Н. Толстой и А. К. Толстой. «Федор Михайлович был очень доволен этим избранием, хотя и несколько запоздалым (на 33-й год его деятельности) сравнительно с его сверстниками по литературе», – писала А. Г. Достоевская. Но «опоздание» академии могло иметь и внелитературную причину: только в июле 1875 года распоряжением Министерства внутренних дел писатель был освобожден от полицейского надзора.
Шестого февраля 1878 года Достоевский получил официальное письмо, подписанное академиком-экономистом К. С. Веселовским, непременным секретарем Академии наук:
«Императорская Академия наук, желая выразить свое уважение к литературным трудам вашим, избрала вас, милостивый государь, в свои члены-корреспонденты по отделению русского языка и словесности». Вместе с письмом был получен и традиционный диплом на латыни на имя «славнейшего мужа»:
«...virum clarissimum Theodorum Michaelis filium Dostoiefski...»
«Убедительнейше прошу Вас, высокоуважаемый Константин Степанович, – отвечал академику Веселовскому новоизбранный член-корреспондент на листе почтовой бумаги большого формата крупным и нарядным почерком, – передать высокому ученому учреждению, удостоившему меня избрания, что я принимаю избрание это с живейшею признательностью, вполне сознавая и ценя всю великость оказанной мне чести за столь малые и слабые, покамест, заслуги мои...» 3 марта 1878 года письмо Достоевского было прочитано на заседании общего собрания академии.
Знаки общественного признания выражались той зимой в самых разных формах и от самых разных лиц. В декабре 1877-го вышла в свет книга «Русские современные деятели. Сборник портретов замечательных лиц настоящего времени с биографическими очерками», где был помещен и очерк о Достоевском с его гравированным портретом. Автор очерка, А. Михайлов, в частности, писал: «Бесспорно, что Ф. М. Достоевский принадлежит к числу самых талантливых и наиболее любимых русских романистов. Ф. М. особенно силен в изображении болезненных явлений нравственного мира...» И будто в рифму к словам очеркиста звучали строки из письма
Ковнера, «старого знакомого», сосланного после двух лет тюрьмы в Томск: корреспондент Достоевского сожалел, что с прекращением «Дневника писателя» одним честным органом стало меньше, так как, при всей странности взглядов писателя, они вызывали сочувствие, и каждый читатель был убежден, что автор «Дневника» действительно любит русский народ9.
В начале года Достоевского посетил Д. С. Арсеньев, воспитатель великих князей, двадцатилетнего Сергея (в 1905-м он будет взорван «адской машиной» эсера-террориста Каляева) и семнадцатилетнего Павла (его расстреляют большевики в 1919-м). От имени их отца, государя Александра II, Арсеньев передал желание императора познакомить царских сыновей с писателем, который их интересует. «Федору Михайловичу приятно было сознавать, что он имеет возможность исполнить хотя бы небольшое желание лица, пред которым всегда благоговел за великое дело освобождения крестьян, – за осуществление мечты, которая была дорога ему еще в юности и за которую отчасти он так жестоко пострадал в свое время», – писала А. Г. Достоевская; она гордилась, что общение их высочеств с ее мужем произвело на них хорошее впечатление и продолжилось до самой смерти Ф. М. Знакомство с великими князьями доставило писателю, сообщала Анна Григорьевна, «самое благоприятное впечатление: он нашел, что они обладают добрым сердцем и недюжинным умом и умеют в споре отстаивать свои, иногда еще незрелые убеждения, но умеют с уважением относиться и к противоположным мнениям своих собеседников».
Предсказать, что у этих прекрасно образованных, талантливых юношей впереди мученическая смерть, а у страны – две революции, мировая война, отречение от российского престола их племянника Николая (в 1878-м будущему государю было всего десять лет) и распад империи, не могли тогда ни А. Г. Достоевская, ни гадалка Фильд. Для Достоевского, несмотря на тревожные предчувствия («мы живем в мучительное время... вся Россия стоит на какой-то окончательной точке, колеблясь над бездной», – писал он как раз весной 1878-го), это было время большой славы, частых выступлений на литературных вечерах, в придворных салонах – ему случалось читать свои вещи у великого князя Константина Константиновича, будущего известного поэта К. Р., в то время двадцатилетнего юноши, в котором Ф. М. разглядел истинный поэтический дар; чтения проходили порой в присутствии супруги наследника престола великой княгини Марии Федоровны и других особ царской семьи.
«В начале 1878 года, – вспоминала А. Г. Достоевская, – Федор Михайлович бывал на обедах, которые устраивались каждый месяц Обществом литераторов в разных ресторанах: у Бореля, в “Малоярославце” и др. Приглашения рассылались за подписью знаменитого химика Д. И. Менделеева. На этих обедах собирались исключительно литераторы самых различных партий, и здесь Федор Михайлович встречался со своими самыми заклятыми литературными врагами. За зиму (1878 года) Федор Михайлович побывал на этих обедах раза четыре и всегда возвращался с них очень возбужденный и с интересом рассказывал мне о своих неожиданных встречах и знакомствах».
Весной 1878-го признание пришло и с Запада. Комитет общества литераторов Франции прислал Достоевскому приглашение принять участие в Международном литературном конгрессе в Париже под председательством Виктора Гюго. Список почетных членов Международной литературной ассоциации, представляющих Россию, выглядел заманчиво: «Fе'dor Dostojewsky, le Conte Lе'on Tolstoj, Ivan Tourgeneff». «Меня особенно влечет к этому литературному торжеству то, что оно должно открываться под председательством Виктора Гюго, поэта, чей гений оказывал на меня с детства такое мощное влияние», – отвечал Достоевский устроителям, принимая приглашение. Однако поехать на конгресс в конце мая не смог: наступил срок предсказания старухи Фильд о смерти в семье.
Только задним числом узнает Анна Григорьевна о зловещем пророчестве гадалки: 16 мая 1878 года не стало маленького (ему не было и трех лет) Алеши Достоевского. «Алексей, – вспоминала его старшая сестра, – казался крепким и здоровым ребенком, но у него был странный овальный, почти угловатый лоб; маленькая головка была яйцевидной формы. Это не уродовало ребенка, но придавало ему забавное, удивленное выражение. Когда Алексей подрос, он стал любимцем Достоевского. Брату и мне было запрещено входить в кабинет отца без разрешения, но на маленького Алешу этот запрет не распространялся... Алеша был очень умным и приятным ребенком...»
О том, что Ф. М. любил своего младшего сына болезненной любовью, будто предчувствуя, что скоро потеряет его, вспоминала и мать ребенка. Вскоре после смерти Алеши она записала, по свежим следам, как развивалась болезнь. Мальчик захворал 28 апреля, с жаром и рвотой, плохо спал и ел; однако через четыре дня поправился. 30 апреля у него случился припадок с судорогами и потерей сознания (родимчик?), продолжавшийся четыре минуты; жар появлялся также 12 и 14 мая. 16 мая приключился судорожный припадок, который длился более трех часов. «Агония продолжалась 1 час 40 мин, сначала очень стонал и охал, а потом тихо...» Приглашенный доктор принял припадок за родимчик и успокоил родителей. Судороги заметно уменьшились; А. Г. была рада, что они переходят как будто в спокойный сон. «И каково же было мое отчаяние, когда вдруг дыхание младенца прекратилось и наступила смерть. Ф. М. поцеловал младенца, три раза его перекрестил и навзрыд заплакал. Я тоже рыдала; горько плакали и наши детки, так любившие нашего милого Лешу».
Доктора объясняли безутешным родителям, что всему виной неправильная форма черепа ребенка – мозг не находил места для роста. Потрясенный отец был особенно угнетен, что мальчик умер от приступа эпилепсии. Всю ночь простоял Ф. М. на коленях перед тельцем сына, сокрушаясь, что передал ему эту жестокую болезнь. «Я была поражена их одиночеством, – рассказывала А. П. Философова, извещенная о смерти Алеши, – принесла им гробик, и меня просили положить ребенка. Я его положила, много с ними плакала» 10.
«Сегодня скончался у нас Алеша, – писал Ф. М. брату Николаю, – от внезапного припадка падучей болезни, которой прежде и не бывало у него. Вчера еще веселился, бегал, пел, а сегодня на столе. Начался припадок в 1/2 10-го утра, а в 1/2 третьего Лешечка помер. Хороним в четверг 18-го на Большом Охтенском кладбище. До свидания, Коля, пожалей о Леше, ты его часто ласкал (помнишь представлял пьяного: Ванька дуляк?) Грустно, как никогда».
Алеша Достоевский был похоронен рядом со своим дедом Г. И. Сниткиным, которого уже 12 лет не было на свете. «Мы все четверо сели в коляску – папа, мама, мой брат Федя и я, – вспоминала Л. Ф., – и маленький гробик был поставлен между нами. Дорогой много плакали, гладили маленький белый гробик, усыпанный цветами, и вспоминали все любимые выражения дорогого малютки. После короткой службы в церкви понесли гроб на кладбище. Как хорошо помню я этот день! Это был сияющий день мая; все цвело, в ветвях старых деревьев пели птицы, чередующееся пение священника и хора мелодично разносилось по исполненному поэзии кладбищу. Слезы катились по щекам отца, он поддерживал рыдающую жену. Она не могла оторвать взор от маленького гробика, медленно исчезавшего под землей...»
Грустной весной 1878 года Анну Григорьевну охватила апатия – исчезла жизнерадостность, пропала энергия. Она признавалась позже, что охладела в тот момент и к хозяйству, и к делам, и даже к собственным детям. Ф. М. умолял жену пожалеть их семью и со смирением принять ниспосланное несчастье. Она же, видя, как мужественно муж переносит горе, стала опасаться, что загнанная вглубь сердца печаль может фатально отразиться на его хрупком здоровье. «Чтобы хоть несколько успокоить Федора Михайловича и отвлечь его от грустных дум, я упросила Вл. С. Соловьева, посещавшего нас в эти дни нашей скорби, уговорить Федора Михайловича поехать с ним в Оптину Пустынь, куда Соловьев собирался ехать этим летом».
Знакомство с Вл. Соловьевым насчитывало уже пять лет – в январе 1873-го двадцатилетний кандидат Московского университета написал письмо в редакцию «Гражданина», предлагая «доставить краткий анализ отрицательных начал западного развития: внешней свободы, исключительной личности и рассудочного знания – либерализма, индивидуализма и рационализма» 11. «Впечатление он производил тогда очаровывающее, – вспоминала А. Г., – и чем чаще виделся и беседовал с ним Федор Михайлович, тем более любил и ценил его ум и солидную образованность... Про лицо Вл. Соловьева Федор Михайлович говорил, что оно ему напоминает одну из любимых им картин Аннибала Карраччи “Голова молодого Христа”».
Двадцать восьмого января 1878 года в заседании петербургского отделения Общества любителей духовного просвещения (членом Общества был и Достоевский) прошла первая из двенадцати лекций Вл. Соловьева «О Богочеловечестве» – которые тот с огромным успехом читал в зале Соляного городка в Петербурге и которые Ф. М. регулярно посещал (о «чуть не тысячной толпе», слушающей лекции молодого философа, писатель сообщил, кстати, ученику Н. Ф. Федорова Н. П. Петерсону). А. Г. Достоевская, бывая на лекциях Соловьева вместе с мужем и встречая среди слушателей общих знакомых, запомнила, возвращаясь однажды с чтений, как странно сдержан при встрече был Страхов, явно избегавший общения. Когда обычный воскресный гость Достоевских («беседами со Страховым муж очень дорожил и часто напоминал мне пред предстоящим обедом, чтоб я запаслась хорошим вином или приготовила любимую гостем рыбу») пришел в «свой день» к ним обедать, все разъяснилось: «Ах, это был особенный случай... Я не только вас, но и всех знакомых избегал. Со мной на лекцию приехал граф Лев Николаевич Толстой. Он просил его ни с кем не знакомить, вот почему я ото всех и сторонился».
Вспоминая эпизод, Анна Григорьевна невольно сравнивала смех Страхова и острую досаду Достоевского:
«Как! С вами был Толстой? – с горестным изумлением воскликнул Федор Михайлович. – Как я жалею, что я его не видал! Разумеется, я не стал бы навязываться на знакомство, если человек этого не хочет. Но зачем вы мне не шепнули, кто с вами? Я бы хоть посмотрел на него!
– Да ведь вы по портретам его знаете, – смеялся Николай Николаевич.
– Что портреты, разве они передают человека? То ли дело увидеть лично. Иногда одного взгляда довольно, чтобы запечатлеть человека в сердце на всю свою жизнь. Никогда не прощу вам, Николай Николаевич, что вы его мне не указали!»(«Я всегда жалею, что никогда не встречался с вашим мужем», – говорил вдове Достоевского Л. Н. Толстой при их единственной личной встрече «однажды зимой», в большой низенькой комнате его московского дома. «А как он об этом жалел! А ведь была возможность встретиться – это когда вы были на лекции Владимира Соловьева в Соляном городке. Помню, Федор Михайлович даже упрекал Страхова, зачем тот не сказал ему, что вы на лекции. “Хоть бы я посмотрел на него, – говорил тогда мой муж, – если уж не пришлось бы побеседовать”. – “Неужели? И ваш муж был на той лекции? Зачем же Николай Николаевич мне об этом не сказал? Как мне жаль! Достоевский был для меня дорогой человек и, может быть, единственный, которого я мог бы спросить о многом и который бы мне на многое мог ответить”!» Двойная игра Страхова, «фальшивого друга» и «злого гения», как аттестовала его А. Г., открылась, к сожалению, весьма поздно, когда ни его самого, ни Достоевского, ни Толстого уже не было в живых...)








