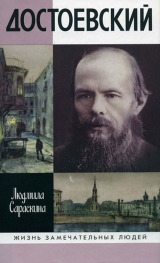
Текст книги "Достоевский"
Автор книги: Людмила Сараскина
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 37 (всего у книги 70 страниц)
Анна считала Достоевского едва ли не сверстником своего 67-летнего отца. Писатель рисовался ей то толстым и лысым, то высоким и худым, но непременно старым, суровым и хмурым. «Всего более волновалась я о том, как буду с ним говорить. Достоевский казался мне таким ученым, таким умным, что я заранее трепетала за каждое сказанное слово. Смущала также мысль, что я не твердо помню имена и отчества героев его романов, а я была уверена, что он непременно будет о них говорить. Никогда не встречаясь в своем кругу с выдающимися литераторами, я представляла их какими-то особенными существами...»
Настораживало строгое «не раньше, не позже половины двенадцатого» – именно в такой форме передал Ольхин приглашение Достоевского. 4 октября Анна загодя вышла из дому, прогулялась по Гостиному Двору, приобрела набор карандашей и маленький портфель, медленно двинулась в сторону Большой Мещанской и вскоре была у дома Алонкина; дворник указал, как найти нужную квартиру. Когда она очутилась в скромной столовой, куда ее проводила пожилая служанка в накинутом на плечи зеленом клетчатом платке («тот самый, драдедамовый платок Мармеладовых?» – подумала девушка, прочитавшая первую часть «Преступления и наказания»), стенные часы, висевшие над диваном, показали ровно половину двенадцатого.
Через пару минут появился хозяин и пригласил гостью в кабинет. В тот день большая комната в два окна была залита солнцем и казалось очень светлой, но обстановка выглядела вполне заурядно: диван, круглый стол с лампой, стулья и кресла, над диваном портрет очень худой дамы в черном платье и темном чепце, поперек комнаты письменный стол – за ним Анне придется сидеть все то время, что Ф. М. будет ей диктовать «Игрока».
Она хорошо запомнила первое впечатление – и в целом оно не было обманчивым. «Достоевский показался мне довольно старым. Но лишь только заговорил, сейчас же стал моложе, и я подумала, что ему навряд ли более тридцати пяти – семи лет. Он был среднего роста и держался очень прямо. Светло-каштановые, слегка даже рыжеватые волосы были сильно напомажены и тщательно приглажены. Но что меня поразило, так это его глаза; они были разные: один – карий, в другом зрачок расширен во весь глаз и радужины незаметно (позже она узнает, что, поранив глаз во время приступа эпилепсии, Ф. М. лечил его каплями атропина. – Л. С.) Двойственность глаз придавала взгляду какое-то загадочное выражение. Лицо, бледное и болезненное, показалось чрезвычайно знакомым, вероятно потому, что я раньше видела его портреты. Одет он был в суконный жакет синего цвета, довольно подержанный, но в белоснежном белье (воротничке и манжетах)».
Спустя десятилетия Анна Григорьевна подробно опишет их первые встречи и отрывочные разговоры, его расспросы и свои ответы – серьезные, без тени улыбки, без малейшей фамильярности; вспомнит, как Ф. М., то закуривая, то гася папиросу, предлагал курить и ей, а она отказывалась, объясняя, что не любит, когда дамы курят. Она замечала, что писатель полон сомнений насчет диктовок, ведет себя неопределенно, поминутно раздражается, быстро переходя от рассеянности к резкости, которую смягчает добродушным юмором («Я был рад, когда Ольхин предложил мне девицу-стенографа, а не мужчину, и знаете почему?.. Да потому, что мужчина, уж наверно бы, запил, а вы, я надеюсь, не запьете?»). Чуть ли не с первой фразы он сообщил о своей эпилепсии и о пережитой смертной казни. То и дело переспрашивал имя собеседницы и тут же его забывал. Так и не начав работу днем, просил снова прийти вечером.
«Рассказ Федора Михайловича произвел на меня жуткое впечатление: у меня прошел мороз по коже. Но меня чрезвычайно поразило и то, что он так откровенен со мной, почти девочкой, которую он увидел сегодня в первый раз в жизни. Этот по виду скрытный и суровый человек рассказывал мне прошлую жизнь свою с такими подробностями, так искренно и задушевно, что я невольно удивилась. Только впоследствии, познакомившись с его семейною обстановкою, я поняла причину этой доверчивости и откровенности: в то время Федор Михайлович был совершенно одинок и окружен враждебно настроенными против него лицами. Он слишком чувствовал потребность поделиться своими мыслями с людьми, в которых ему чудилось доброе и внимательное отношение. Откровенность эта в тот первый день моего с ним знакомства чрезвычайно мне понравилась и оставила чудесное впечатление».
Вернувшись домой около полуночи, Анна даже от матери скрыла свой испуг. Но пугала не угрюмость и не мрачность Достоевского. «В первый раз в жизни я видела человека умного, доброго, но несчастного, как бы всеми заброшенного, и чувство глубокого сострадания и жалости зародилось в моем сердце...»
На следующий день она уже знала подробности кабального договора со Стелловским – Ф. М. рассказал ей о хитрости издателя-хищника, который умел подстерегать людей в тяжелые минуты их жизни: в его капкан угодили и А. Ф. Писемский, и В. В. Крестовский, и М. И. Глинка («денег у него столько, что он купит всю русскую литературу, если захочет. У того ли человека не быть денег, который всего Глинку купил за 25 целковых», – скажет Достоевский о Стелловском спустя пять лет). Именно он скупил за бесценок векселя Ф. М., натравил на него подставных лиц, чтобы те душили должника, и принудил писателя к сделке.
Он открыл стенографке и предысторию западни. Получив весной 1866-го разрешение на поездку за границу «для пользования от падучей болезни» (на самом деле ему хотелось отправиться в Дрезден, «засесть там на 3 месяца и кончить роман, чтоб никто не мешал»), Достоевский, по причине острого безденежья, вынужден был остаться в Петербурге. «Грустный, гадкий и зловонный Петербург, летом, идет к моему настроению и мог бы даже мне дать несколько ложного вдохновения для романа», – сообщал он Корвин-Круковской, отвечая на приглашение погостить в Палибине. Чуткой Анне Васильевне Ф. М. подробно описал, в какие силки угодил, заключив злополучный договор.
«Статья контракта совершенно походила на те статьи петербургских контрактов при найме квартир, где хозяин дома всегда требует, что если у жильца в его доме произойдет пожар, то должен этот жилец вознаградить все пожарные убытки и, если надо, выстроить дом заново. Все такие контракты подписывают, хоть и смеются, так и я подписал. 1-е ноября через 4 месяца; я думал откупиться от Стелловского деньгами, заплатив неустойку, но он не хочет. Прошу у него на три месяца отсрочки – не хочет и прямо говорит мне: что так как он убежден, что уже теперь мне некогда написать роман в 12 листов, тем более что я еще в “Русский вестник” написал только что разве половину, то ему выгоднее не соглашаться на отсрочку и неустойку, потому что тогда всё, что я ни напишу впоследствии, будет его».
Теперь, когда он был загнан в угол крайним сроком, и наступило время «Игрока»: «Я хочу сделать небывалую и эксцентрическую вещь: написать в 4 месяца 30 печатных листов, в двух разных романах, из которых один буду писать утром, а другой вечером и кончить к сроку».
В июле, за три месяца до срока, Достоевский озаботился планом. («Составил план – весьма удовлетворительного романчика, так что будут даже признаки характеров. Стелловский беспокоит меня до мучения, даже вижу во сне».) За месяц, по совету Милюкова (предлагавшего писать роман при участии нескольких авторов«Друзья Федора Михайловича – А. Н. Майков, А. П. Милюков, И. Г. Долгомостьев и другие, желая выручить его из беды, предлагали ему составить план романа. Каждый из них взял бы на себя часть романа, и втроем-вчетвером они успели бы кончить работу к сроку; Федору же Михайловичу оставалось бы только проредактировать роман и сгладить неизбежные при такой работе шероховатости. Федор Михайлович отказался от этого предложения: он решил лучше уплатить неустойку или потерять литературные права, чем поставить свое имя под чужим произведением» (А. Г. Достоевская)), согласился прибегнуть к помощи стенографа. За 28 дней в квартире Достоевского появилась стенографка-дебютантка Анна Сниткина.
Итогом четырехнедельной срочной работы и стала та эксцентрическая вещь, которую задумал Ф. М., ища выход из западни. «Знаете ли, добрая моя Анна Васильевна, – писал он в июне 1866-го Корвин-Круковской, – что до сих пор мне вот этакие эксцентрические и чрезвычайные вещи даже нравятся. Не гожусь я в разряд солидно живущих людей. Простите, похвастался! Но что ж мне и осталось более, как не похвастаться; остальное-то ведь уж очень не завлекательно. Но какова же литература-то? Я убежден, что ни единый из литераторов наших, бывших и живущих, не писал под такими условиями, под которыми я постоянно пишу, Тургенев умер бы от одной мысли».
Диктовки начались. В почти безнадежной ситуации писатель внезапно обретает верного и добросовестного сотрудника. Качество и эффективность необычной профессиональной помощи заставляют его быстро втянуться в дело. Вскоре он уже не сочиняет «изустно», а работает ночью; утром диктует по рукописи. Помощница проникается сочувствием и готовностью к солидарным действиям, ибо она – соучастник творческого процесса. Чувство взаимной симпатии возникает в ходе совместного труда. Писатель (тем летом он был как-то особенно влюбчив) смог завоевать сердце юной помощницы, показав, на какие блестящие импровизации способно его воображение. Вдохновенные фантазии сочинителя о страстной любви к одной женщине разворачиваются перед глазами другой, которая обязана превращать диктовки в текст; и вот уже среди персонажей романа у нее появляются любимцы и недруги. «Мои симпатии заслужила бабушка, проигравшая состояние, и мистер Астлей, а презрение – Полина и сам герой романа, которому я не могла простить его малодушия и страсти к игре. Федор Михайлович был вполне на стороне “игрока” и говорил, что многое из его чувств и впечатлений испытал сам на себе. Уверял, что можно обладать сильным характером, доказать это своею жизнью и тем не менее не иметь сил побороть в себе страсть к игре на рулетке».
Анна приходила ежедневно около полудня, и они работали два-три часа: сначала Ф. М. прочитывал то, что надиктовал накануне, а она переписала набело, потом диктовал дальше. С каждым днем стопка листков росла, и с каждым днем писатель относился к своей помощнице сердечнее и добрее: запомнил, наконец, и уже не переспрашивал ее имя, называл «голубчиком» и «милочкой». Освоилась и помощница: перестала бояться «знаменитости», общалась с ним непринужденно, а он охотно посвящал ее в подробности своего прошлого и мечтал вслух о счастливой жизни – с доброй женой, которая будет его жалеть и любить.
Заканчивая работу, оба – и писатель, и стенографистка – чувствовали, что привязались друг к другу. За недели совместной работы прежние интересы Анны отошли на второй план. Она сравнивала Ф. М. со знакомыми молодыми людьми – их разговоры и они сами казались ей теперь ничтожными. «С грустью видела я, что работа близится к концу и наше знакомство должно прекратиться. Как же я была удивлена и обрадована, когда Федор Михайлович высказал ту же беспокоившую меня мысль. “Знаете, Анна Григорьевна, о чем я думаю? Вот мы с вами так сошлись, так дружелюбно каждый день встречаемся, так привыкли оживленно разговаривать; неужели же теперь с написанием романа все это кончится? Право, это жаль! Мне вас очень будет недоставать. Где же я вас увижу?”».
Инициатива была за ним – и теперь календарь их встреч был заполнен до отказа. 29 октября состоялась последняя диктовка, 30-го Анна принесла ему переписанный текст; к радости обоих, листков оказалось больше, чем они ожидали. В тот день Достоевскому исполнилось 45 – она это знала и принарядилась, сменив всегдашнее черное суконное платье на шелковое лиловое; именинник был польщен ее вниманием, похвалил наряд, вручил заработок, пожал руку и поблагодарил за сотрудничество. 31-го внес в роман последнюю правку и 1 ноября, согласно контракту, смог отвезти «Игрока» Стелловскому (пришлось, за отсутствием издателя, сдать рукопись под расписку приставу той части, где проживал хитрец). 3 ноября, фактически напросившись, Ф. М. впервые был в гостях у Анны и ее матери, в их доме на Песках, и предложил продолжить совместную работу – теперь уже над последней частью «Преступления и наказания». 6 ноября внезапно приехал снова, без приглашения, без видимой для воскресного визита причины, имел вид робкий и сконфуженный: дескать, скучал, раздумывал, ехать ли, решил ни за что не ехать и все же приехал. Просил Анну непременно быть во вторник.
Скорее всего в тот момент Ф. М. все уже решил. «Стенографка моя, Анна Григорьевна Сниткина, – напишет он спустя полгода «Полине», – была молодая и довольно пригожая девушка, 20 лет, хорошего семейства, превосходно кончившая гимназический курс, с чрезвычайно добрым и ясным характером. Работа у нас пошла превосходно... При конце романа я заметил, что стенографка моя меня искренно любит, хотя никогда не говорила мне об этом ни слова, а мне она всё больше и больше нравилась. Так как со смерти брата мне ужасно скучно и тяжело жить, то я и предложил ей за меня выйти... Сердце у ней есть, и любить она умеет».
8 ноября, в знаменательный для обоих день, Анна пришла к нему стенографкой, а ушла – невестой. Признание в любви, предложение руки и сердца взволнованный Достоевский, с восторженно-радостным выражением лица, сделал все же обиняками, рассказав вещий сон о найденном среди бумаг крошечном, но ярком и сверкающем бриллиантике, и на ходу сочинив роман о немолодом художнике и юной девушке. Это была, как вспоминала позже Анна Григорьевна, блестящая импровизация. «Никогда, ни прежде, ни после, не слыхала я от Федора Михайловича такого вдохновенного рассказа, как в этот раз. Чем дальше он шел, тем яснее казалось мне, что Федор Михайлович рассказывает свою собственную жизнь, лишь изменяя лица и обстоятельства. Тут было все то, что он передавал мне раньше, мельком, отрывками. Теперь подробный последовательный рассказ многое мне объяснил в его отношениях к покойной жене и к родным. В новом романе было тоже суровое детство, ранняя потеря любимого отца, какие-то роковые обстоятельства (тяжкая болезнь), которые оторвали художника на десяток лет от жизни и любимого искусства. Тут было и возвращение к жизни (выздоровление художника), встреча с женщиною, которую он полюбил: муки, доставленные ему этою любовью, смерть жены и близких людей (любимой сестры), бедность, долги...»
Героя романа мучила мысль – имеет ли право пожилой, больной, обремененный долгами человек мечтать о молодой жизнерадостной девушке? Что он может ей дать? Не будет ли любовь к художнику страшной жертвой со стороны юной особы и не раскается ли она, связав с ним свою судьбу? Кульминация объяснения оставляла возможность отступления: разговор в любой момент можно было свести к обсуждению некоего сюжета и не перейти на личности – так пожилому мужчине легче было бы перенести отказ.
Но они оба давно уже вышли за рамки литературы.
«Поставьте себя на минуту на ее место, – сказал он дрожащим голосом. – Представьте, что этот художник – я, что я признался вам в любви и просил быть моей женой. Скажите, что вы бы мне ответили?
Лицо Федора Михайловича выражало такое смущение, такую сердечную муку, что я наконец поняла, что это не просто литературный разговор и что я нанесу страшный удар его самолюбию и гордости, если дам уклончивый ответ. Я взглянула на столь дорогое мне, взволнованное лицо Федора Михайловича и сказала: “Я бы вам ответила, что вас люблю и буду любить всю жизнь!”».
Это и был сверхвыигрыш, грандиозная писательская и мужская победа. Если правда (как об этом писала позже Анна Григорьевна), что у него был выбор из трех путей – ехать паломником на Восток, в Константинополь и Иерусалим, ехать за границу, чтобы погрузиться всей душой в рулетку, или жениться второй раз и искать счастья в семье, – успех совместной работы определил выбор. Выполнив контракт к сроку, он не должен был платить неустойку, сохранил за собой авторские права на все свои сочинения и одержал победу над акулой-издателем. «Стенография чуть ли не вдвое сокращает работу. Единственно только этим способом мог я кончить, в один месяц, 10 печатных листов Стелловскому; иначе не написал бы и пяти», – сообщал Достоевский в «Русский вестник», едва рассчитался со Стелловским.
Это была и победа стенографки – она «была поражена, почти подавлена громадностью своего счастья и долго не могла в него поверить». «Припоминаю, что, когда почти час спустя Федор Михайлович стал сообщать планы нашего будущего и просил моего мнения, я ему ответила: “Да разве я могу теперь что-либо обсуждать! Ведь я так ужасно счастлива!..” Неужели это правда? Разве это не сон? Неужели он будет моим мужем?!» Как скоро подтвердились слова чуткого Г. И. Сниткина о стенографии, которая приведет к счастью! Любящий отец знал, что, кроме стенографии, его дочь умеет сострадать и жалеть, способна на жертвенную, то есть действенную любовь, и готова служить любимому человеку и в горе, и в радости. Она сумела внушить загнанному в угол писателю надежду – Ф. М. хорошо разглядел ее сияющее лицо, когда они вместе пересчитывали исписанные листочки, и думал про себя: «Какое доброе сердечко у этой девушки! Ведь она не на словах только, а и на самом деле жалеет меня и хочет вывести из беды».
С этого и началась его признательная любовь, и теперь ему умиленно хотелось любить и ее лицо, и красивые серые глаза, и добрую, ясную улыбку. «Теперь же для меня лучше твоего лица на свете нет! Ты для меня красавица!» – твердил невесте Достоевский, припоминая историю своей влюбленности – как приятно был удивлен тактом, с которым она себя держала, как радовался, что в русском обществе появился привлекательный тип серьезной и деловитой девушки, как увлекся искренней сердечностью, с которой она вошла в его интересы, как эта незнакомка (на первых порах, едва за ней закрывалась дверь, он уже не мог вспомнить, как она выглядит) разом вошла в его положение и без лишних слов стала помогать делом. Успех письма и самоотверженность помощницы вдохновили его; он увидел, что работа идет в два раза быстрее, так что за четыре недели декабря 1866 года они, уже жених и невеста, сделали вместе семь листов последней части «Преступления и наказания». Этим успехом был закреплен кредит у Каткова, необходимый для свадьбы. «Наша судьба решилась», – писал невесте Достоевский, имея в виду, что свадьба будет сыграна на аванс от Каткова в счет будущих сочинений.
Достоевский ничуть не стеснялся того, что «Игрок» получился опасным романом-авантюрой. Писатель-игрок не только сочувствует герою-игроку, но и играет вместе с ним. Оба одержимы пагубной страстью, оба познали коварный соблазн игры. Автор-игрок дает игроку-герою дурманящий опыт сверхудачи, когда можно, наконец, безраздельно властвовать над чертовым колесом рулетки. Волшебный миг выигрыша видится как воскресение из мертвых. «Игрок» получился сочинением, в котором солидарность автора и падшего героя достигает запредельной степени. Это было творчество на краю бездны, когда рушатся барьеры между вымыслом и действительностью, когда тайные силы хаоса получают свободу и магическим образом претворяют фантазии в реальность. Рассказ «от Я» игрока, когда оно, это «Я», выступает настолько слитно с «Я» авторским, что кажется, будто автор дерзко потакает герою; атмосфера маниакальности и фаталистический финал, где игорный омут побеждает игрока, создавали прецедент феноменально рискованного писательского опыта. Будто волшебным фонарем Достоевский осветил свой воображаемый, но как будто отмененный второй путь – ехать за границу и погрузиться всей душой в игру.
Отношения Анны Григорьевны с ее будущим мужем начинались по красивому литературному сценарию, которому благодаря его счастливому продолжению суждено будет стать классическим и даже легендарным. Переплетение вымысла и яви подразумевало продолжение сюжета; сочинение с инфернальными героями имело реальную подоплеку и подразумевало наличие опасного и поэтому заранее презираемого прототипа. Роман, который Анна Сниткина прослушала малыми порциями в устном исполнении автора, записала значками, аккуратно переписала от руки, перечитала и принесла обратно (наборный экземпляр для Стелловского был выполнен ее четким почерком), открывал девушке, незнакомой с темными страстями и любовным мучительством, сложные, бурные чувства, за которыми стояли оскорбленное самолюбие и любовьненависть, – о существовании чего целомудренная, воспитанная в строгих правилах Анна даже и не подозревала. Она напишет впоследствии, как ласково Достоевский отнял у нее, своей невесты, некий фривольный французский роман, как не пускал на спектакли оперетты-буфф, оберегая чистую девушку от впечатлений, грязнящих воображение. Он видел в жене «цельного, ясного, тихого, кроткого, прекрасного, невинного и в него верующего ангела» и боялся, что не сто'ит ее.
«Мне Бог тебя вручил, – признается Ф. М. жене спустя три месяца после свадьбы, – чтоб ничего из зачатков и богатств твоей души и твоего сердца не пропало, а напротив, чтоб богато и роскошно взросло и расцвело; дал мне тебя, чтоб я свои грехи огромные тобою искупил, представив тебя Богу развитой, направленной, сохраненной, спасенной от всего, что низко и дух мертвит».
Впрочем, это письмо он напишет из адского Гомбурга, вспоминая, как заплакала жена, провожая его в рулеточное пекло. За собой, человеком закаленным, он оставлял право знать все и многое испытать самому.
Слишком велики оказались ставки в приключении, именуемом роман «Игрок». Очень скоро станет очевидно, что абсолютного выигрыша не бывает, и наступит жестокая расплата за баснословную удачу. Пугающе скоро, фактически немедленно, сработает эффект «наведения на себя»: автор не только не освободится от порочных страстей героя, использовав свой прежний личный опыт, но выпустит на волю гибельную стихию, готовую поглотить его самого.
Очевидным станет и другое: Анна не забудет, как безумно и самозабвенно любил инфернальницу Полину Алексей Иванович – игрок, чьи чувства и впечатления Достоевский «испытал сам на себе». Очень скоро его жене придется окунуться в бездну доселе неведомых переживаний. Роман «Игрок» (вещь «небывалая, эксцентрическая») и его внелитературные последствия надолго станут злым мороком супругов Достоевских.








