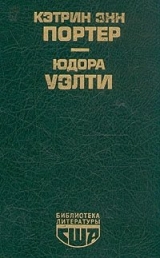
Текст книги "Библиотека литературы США"
Автор книги: Кэтрин Портер
Соавторы: Юдора Уэлти
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 47 (всего у книги 59 страниц)
(Перевод В. Бошняка)
Лоренцо Дау ехал по старой Натчезской тропе, гнал скакуна во весь опор, и клич Божия странника «Мне души, души мне нужны!», заглушая шум ветра, гремел в его собственных ушах. Он мчал так, будто нигде и никогда не будет остановки, спешил туда, где вечером ждали его проповедь.
То был час заката. Все спасенные им души и все не спасенные печальными тенями проступали в тумане меж высоких склонов лощины, они теснились в таком множестве, что, казалось, не протолкнешься, причем ни раствориться, ни обратиться вновь в туман они явно не собирались, и он даже испугался, сумеет ли вообще когда-нибудь сквозь них пробиться. Несчастные души, которые он не спас, были темнее и жалостнее, нежели души спасенные, но даже и среди спасенных при всем желании ему не удавалось разглядеть ни проблеска, ни лучика искомого просветления.
– Именем Господа, осветитесь! – вскричал он, пронзенный болью разочарования.
И тут вокруг него заклубились светляки – целым роем, вверх и вниз, взад и вперед, сперва один золотой проблеск, потом другой, – вспыхивали ярко, не то что поникшие, тусклые души. Значит, Господь указует ему, что он не видит света озаренных спасением душ потому лишь, что ему не дано его видеть, что его глаза более приспособлены разглядеть Божьих светляков, чем просветленные Богом души.
– Боже, когда я попаду в рай, дай мне сил видеть ангелов, – взмолился он. – Да не отстанут мои глаза от исполненного Твоей любовью сердца.
Судорожно сглотнув, он помчался дальше. Ну ничего, хоть день был и не прост: барышничество хлопотное дело, зато теперь у него испанский скаковой жеребец, правда, за него еще предстоит выслать в ноябре деньги из Джорджии. Быстрей, еще, еще быстрее, он мчался, чуть ли не летел вперед, и, едва не обгоняя его, летели слова любви к Пегги – жене, оставшейся в Массачусетсе. Любовь на расстоянии давалась ему легко. Он глядел на расцветающие деревья, и его сердце полнилось любовью к Пегги, подобно тому как являющиеся ему видения преисполняли его любовью к Богу. А Пегги, с которой он заговорил не ранее, чем смог произнести решающие слова (согласна ли она пойти за него, недостойного?), – Пегги, невеста, с которой он провел едва ли несколько часов, отозвалась письмом, написанным мелким округлым почерком, сообщив в этом письме, в самом первом, сразу все: да, она чувствует то же, что и он, и, более того, разлука не страшит ее, страшит лишь смерть.
Лоренцо Дау прекрасно понимал, прекрасно видел смерть и в бездне под ногами, и в ночных шорохах, и в тишине, пронизанной пением птиц. Смерти он смотрел в лицо, он был к ней ближе любого зверя или птицы. Сменяя одну лошадь на другую и каждую насмерть загоняя, он мчался либо к ней, либо от нее, и Господь руководил им, помышлением своим защищая.
И тут как раз он налетел на засаду индейцев; со всех сторон они целились в него из своих новых ружей. Один выступил вперед, взял коня за недоуздок, конь стал как вкопанный; кольцо индейцев начало смыкаться. И ружейные дула отовсюду.
– Пригнись! – сурово скомандовал ему внутренний голос, как всегда вовремя.
Лоренцо бросился грудью коню на холку, припал лицом к шелковистой гриве, слившись с конем воедино, так что посланная в него пуля, того и гляди, убила бы коня, а что толку тогда в смерти владельца. Прильнув к коню, прорвал он кольцо индейцев, от собственной подчиненности этому голосу ощущая прилив бесстрашия и почти беззаботную радость.
Вот выпрямился, вот подстегнул коня, но нет – озабоченность все-таки догнала. Расщепление своего «я», превращение в нечто полуживотное-полубожественное, вроде языческого кентавра, в который раз спасло его от смерти. Однако неужто всегда только подобное превращение, только принижение веры, обращение к силе и хитрости, а не покорность и вера будут спасать его? Поступая так, каждый раз он идет на поводу у страха, с готовностью принимая его за ангельское внушение, и только потом, когда уже слишком поздно, осознает, что внушение было от Диавола. Как тигр, рычал он на индейцев, сидел в воде, пуская пузыри, как аллигатор, и они обходили его. Валялся, притворяясь мертвым, и обманывал медведей. Но ведь Господь всякий раз оградил бы его по-своему, менее суетно, более божественно.
Вот и теперь – глядь, перед ним змея: ползет через Тропу и умудренно посматривает.
– Я понял, я тебя узнал! – воскликнул он, и, бросив на него всего один потухший взгляд, в два броска змея скрылась в зарослях.
Объятый предвкушением, он ехал дальше, и голоса диких зверей почти неощутимо складывались в слова. «Свят Господь», – говорили они. И еще: «Избави нас друг от друга». Птицы наперебой воспевали божественную любовь, которая есть единственная и непреложная защита. «Покой! По-кой!» – с учтивой мелодичностью взывала одна за другой из кустов шиповника, и странствующий проповедник обращал лицо ко всем порхающим созданиям, силясь благожелательностью сравняться с ними.
На пути попадались ему скрещения узких тропок, развилки, и он позволял себе следовать голосам и проблескам света. Из звуков чаще слышались шумы битвы, заставлявшие его пришпоривать коня, но иногда доносился как бы шум прибоя, тот долгий грохот океанских волн, от которого его сердце билось так же редко и тяжко, как эти волны, и вновь он ощущал безысходность при воспоминании о своем провале в Ирландии, когда он после долгого плавания стоял, прижавшись к двери спиной, и пытался переубедить католиков, а потом бежал, преследуемый их криками: «Ату! Ату его! Тоже мне белая шляпа!»[45]45
Белая шляпа символизировала радикальные устремления, поскольку в белой шляпе ходил известный реформатор церкви – «Оратор» Хант.
[Закрыть] Но когда ему слышалось пение, то были не резкие звуки воинственных веслианских гимнов[46]46
Весли, Джон (?–1791) – английский богослов, основатель Веслианской методистской церкви. В противоположность кальвинизму проповедовал возможность спасения для всех.
[Закрыть], но тихая, нескончаемая и нежная мелодия, приглушенная расстоянием песнь без конца и начала, и он молил Всевышнего, прося ниспослать понимание: нет ли здесь происков Лукавого, – но не получил ответа.
Еще немного, и опустится тьма, а на сельской площади будет грешников, как звезд на небосводе. Как нужны они ему! В предвидении и нетерпении любви видел он перед собой толпу с факелами, бросающими на лица тени все новых, новых и новых перемен. Что он им может дать большее, чем божественная любовь и разумное назидание о преткновениях, которых следует им остеречься? Он еще прибавил скорости. Он следовал велению долга, и долг вел его по обозримой вселенной, куда ни поманит поднебесная ширь, пока он не уподобился челноку, снующему взад-вперед. Бездомный по собственному выбору, волей-неволей он должен был когда-нибудь поспеть везде, а значит, кое-куда совсем скоро. Он мчал, летел среди безлюдья, давая на ходу собравшейся при свете факелов толпе свое слегка несвоевременное благословение: ждать он не мог. Он широко раскинул руки (правда, не сразу обе, а по одной, для безопасности) и решил, что главное, прибыв туда, где собравшаяся на зов его жестяного рожка паства будет покорно слушать вдохновенные речи, – да, главное – при этом самому всецело вникнуть в неистовое бытие вселенной, самому стать правоприимствующей ее частицей.
Устремил взор вперед.
– Обитатели Времени! Эта чащоба есть воплощение ваших заблудших душ! – понесся к верхушкам деревьев его крик. – Если хотите увидеть скудость вашего духа, помещенного в среду сию Всеблагим Господом для устрашения и увещевания вашего, оглядитесь. Безлюдные эти места и ужасающие эти тропы одиночества не лежат нигде, нигде кроме как в сердцах ваших!
Тут некто мрачный, а именно Джеймс Маррелл, беглый разбойник, выломился верхом на лошади из тростниковой чащи, поскакал рядом с Лоренцо, при этом на него не глядя. Лицом он был попеременно то горделив, то удручен, как это свойственно тому, кто полагает себя орудием в деснице власти, а он и впрямь, когда был помоложе, незамедлительно объявлял незнакомцу, мол, мною движет само Зло, а иногда путника останавливал его окрик:
– Стой! Я Дьявол!
Теперь он ехал рядом, он что-то говорил и, говоря, затягивал речами; при этом ухитрился голосом замедлить бег коня Лоренцо, и вскоре оба всадника уже ехали мелкой трусцой. Впрочем, его бы удивило, если бы он узнал, что ни одного его слова Лоренцо не слышал, – Маррелл не знал, что тот внимает лишь голосам, божественная природа коих ему не столь сомнительна.
Вот едет Маррелл, едет рядом с тем, кого он уготовил себе в жертву, едет и безостановочно говорит. А говорил он, как обычно, свои нескончаемые сказки, в которых дальняя даль переливалась в долгую давность, и все они кругами сходились к некоему молчуну. В каждой из них этот молчун вершил какое-либо зло – грабеж или убийство, сотворенное в местах нездешних и стародавних, и так сказки были задуманы, чтобы в конце открылось: молчун этот – сам Маррелл, события из его длинной сказки произошли вчера, а место – вот оно: Натчезская тропа. И уже только взгляд один был нужен жертве, чтоб прояснилось: вся нынешняя явь вокруг – еще один рассказ, в который слух завлек беднягу; теперь он и сам шагнет во глубь времен (туда, где ужасу нет места), а кто-нибудь другой вот так же будет слушать про него, и тогда он вновь оживет для этого слушателя, хотя и во временах стародавних. «Истреби сущее!» – вот, вероятно, то, что изначально билось в сердце Маррелла; бытие мгновения и бытие в нем человека надлежало уничтожить и потом только двигаться дальше. Конец путешествия – а оно могло длиться не один день – у него в обычае было обставить не без некоторой торжественности. Обернет лицо к лицу несчастного (ибо прежде тот не видел его), возвысится над ним, обретя стать уже не сказителя, но безмолвного прототипа, и умолкнет – именно так, еще ступенью ближе к своему герою. Затем он убивал путника.
Но ведь всегда одно и то же! Идя вперед, он в своих россказнях шел назад. Ничего не видел, мир был от него сокрыт. Оба конца пути к нему стягивались, держа его на тропе в никуда, а он, полусонный, улыбался и коварно поигрывал задуманным деянием. Убийца, чей окончательный удар откладывался чересчур долго, – перейти к делу? О нет, скука, скука! – словно вся та безлюдная чащоба, где он родился, путалась у него в ногах. Однако, будь тот впереди или позади Маррелла, он не спускал глаз с несчастного, видел его застывшим на пороге смерти – как бы ни отрицал этого взгляд жертвы, взгляд обреченного, чьи руки вскинуты как будто в первый раз вслед уходящей жизни. Презрение! Вот все, чем мог наделить его Маррелл.
Лоренцо мог бы и понять, кабы не спешка, что Маррелл, поднимая руку на человека, пытается решить загадку бытия. Так, словно люди – кроме него, конечно, – подвергшись нападению, выпустят из рук эту тайну и она падет к ногам Маррелла в миг смерти жертвы. Насилие в его руках было лишь подступом к загадке. Сперва ярость сотрясла его самого, набираясь силы, и вот уже он повернулся в седле.
Воспламенить отчаянье в Лоренцо было столь же необходимо, как и зажечься исступлением самому, без этого просто никак. Хотя опять-таки, прежде чем придет исполненное ужаса мгновенье, когда, озарившись вспышкой, лицо вскинется вверх, будто рукою ангела взятое за подбородок, – нет, раньше все равно ведь не поймешь, что из твоей затеи выйдет – радость или печаль. Но тут лицо Маррелла обратилось к Лоренцо – повернулось наконец словно само собой прямо к нему, тут Лоренцо сразу бы и схватить попутчика за сюртук да тряхнуть, чтобы душа его блудная вон, ибо тотчас же Лоренцо опознал в его сердце ложный огонь вместо истинного. Но Маррелл – что и говорить, проверен, когда ему надо, – властно выставил вперед руку и возложил ее на трепетную плоть испанского скакуна, прянувшего и задрожавшего под ладонью.
Они как раз подъехали к огромному виргинскому дубу у края болотистой низины. Пылающее солнце висело низко, будто склоненная на сложенные руки голова, и вечер, нависший над лиловеющими купами деревьев, казалось, застыл в задумчивости. Поляна была знакома Лоренцо: много раз она виделась ему среди других во сне, и он остановился добровольно и с готовностью. Натянул повод, и Маррелл натянул повод; спешился, и Маррелл спешился; он шаг, и Маррелл туда же; однако Лоренцо вряд ли удивился тому, как близко оказался к нему Маррелл: в темном долгополом сюртуке и с еще более темным лицом, Маррелл стоял, словно ученик, взыскующий просветления.
Но в то мгновенье у огромного раздвоенного дуба остановились не два человека, а три.
Из дальних мест шел человек науки, Одюбон, легчайшим шагом двигался через подлесок, не приминая ни былинки, так была его поступь легка. Он шел весь этот полный красоты длиннейший день, и пройдено было немало. Чу, пронеслась над головой стайка багряных вьюрков; он было попытался их даже пересчитать. И тихое «так-так» красноголового дятла он разложил по буквам. Всегда твердил себе: запоминай.
Выйдя на Тропу и поглядев на высокие кедры, недвижно голубевшие в вышине как отдаленный дым и стлавшиеся во все стороны по земле серебряными корнями, этими венами глубин, он отметил себе для памяти некий факт, а именно что здешняя почва не крошится, не оползает и не обращается в пыль – такое, говорят, присуще лишь одному еще месту в мире, Египту, – и сразу забыл об этом. Он шел бесшумно. Вся живность пользовалась этой Тропой, и ему нравилось смотреть, как по ней с рассеянной деловитостью ходят животные – ведь это с них началась Тропа: еще до того, как человек придумал наконец, куда идти, ее проторили бизоны, олени и маленькие суетливые создания, а птичьи стаи величавой вереницей плыли по ее отражению в зеркале неба. Идя под ними, Одюбон припоминал, как в той, городской, жизни он представлял всех этих птиц как раз такими, и по воле воображения они послушно ему являлись – даже там, в чопорных выскобленных приемных, где художнику, если он наберется терпения и подождет, чья-то ленивая рука протягивала обещанные деньги. Он шел легко и ногу ставил так же уверенно, как и тогда, в два часа ночи, когда он вышел, взяв с собой мелки, бумагу, ружье и небольшую фляжку спирта. (Для памяти: пересмешники такие непуганые, что, когда к ним подходишь, взлетают нехотя.) Он внимательно глядел по сторонам; буйство жизни перестало поражать его, и он уже обрел способность видеть предметы порознь. Еще в Натчезе он наслушался о множестве дивных и странных птиц, которые в этих местах гнездятся. Причем описания оказались точны и в невероятном их многообразии совершенны, тогда как он принимал их за выдумки и полагал такими же, как и все прочие порождения городской молвы, от которых приходится со стыдом избавляться, едва вступив в пределы природной реальности.
В лощине он оказался как раз под тем дубом, в себе уверенный, уверенный весьма, но чуткий, словно, прикоснувшись к земле, испачкав ею свою одежду, он воспринял все это от нее вместе с пятнами болотного многоцветия.
Лоренцо обратил к нему любящий взор и поприветствовал его. Надежда превратить человека в ангела была той силой, что бросала его во все стороны света, никогда не позволяя ни уклониться от случайной встречи, ни слишком долго временить с прощанием. Эта надежда непреложно разделяла его жизнь на две составляющие – поход и отдых. Ночь, день, любовь, отчаянье, тоска и радость – ничто не нарушало исступленного единства этого чередования. Главное – нести слово.
– Бог сотворил мир, – сказал Лоренцо, – и мир существует, чтобы свидетельствовать. Жизнь – это слово: говори.
Но речь не раздалась; наоборот, наступило мгновенье глубочайшего молчания.
Одюбон ничего не сказал, потому что уже много дней он шел, не говоря ничего. Свои мысли про птиц и животных он не считал, в их первом проявлении, достойными словесного выражения. А когда подолгу играл на флейте, это не было вызвано желанием поговорить с собой. Чтобы объяснить свою просьбу индейцу, он без лишних слов рисовал перечеркнутую лань, и тот понимал, что пришлому нужно мясо. К словам он обратился, только обнаружив, что, если не записать увиденное в тот же день, потеряется нечто важное; теперь он многое заносил в журнал, стараясь, чтобы не было таких потерь, как то и дело случались раньше, и на исходе дня он, бывало, отмечал: «Жаль только, что село солнце».
Марреллу, коварно затаившему оружие под полой, ничего не оставалось, кроме как стоять и улыбаться Лоренцо, но он припоминал со злорадством, как сам когда-то оборотился проповедником, и уже готовы были у него слова, которые он скажет жертве в ее последний миг: «А ведь одним из моих обличий был ты».
А Одюбон увидел в Маррелле то, что мысленно определил как «наслоившуюся скорбь», – некую тягостную мрачность, от которой, скажем, голый индеец, существующий в том же виде, в каком он вышел из-под руки Господа, начисто свободен. Обратил внимание на глаза – полные тьмы, из тех, что склонны подсматривать в замочную скважину и не различают даль от близи, света от темноты, которым ничто не кажется ни странным, ни знакомым. Сощурены, чтобы сжать сердце, сощурены в измышлении отвлекающего маневра. Одюбону известны были тончайшие сухожилия тела и механика их работы: он все их видел, каждого касался и полагал, что глаз человека, расширяясь, силясь разглядеть, приводит в движение руку, побуждая делать и совершать, а прищур глаза останавливает руку и сжимает сердце. Теперь глаза Маррелла следили за муравьем на травинке – вниз по травинке и вверх, бессчетное число раз в единое мгновенье. Одюбон когда-то обследовал «Каменный грот», где один грабитель жил своей затаенной жизнью, и воздух в гроте был тем самым пещерным воздухом, который окружал того человека – с тем же запахом, кремнистым и мрачным. «Как загадочна жизнь! – подумал он. – Быть может, в том-то как раз и дело, что тайна жизни не подлежит истинному постижению, а человек – всегда пещерный житель и видимые просторы, лесные просеки, переливающиеся светом реки, широкие дуги, вычерчиваемые в воздухе птицами, – лишь мои мечты о свободе? Если мое начало от меня сокрыто, значит ли это, что и конца знать не должно? А то просветление, что открывается мне, – затеснено ли в промежутке меж тьмой и тьмой и не может ли оно высветить обе тьмы, чтобы раскрыть в конце концов, пусть не в словах хотя бы, то, что считалось затаенным и утраченным?»
В этот тихий миг невдалеке опустилась и принялась кормиться рядом с болотным бочажком одинокая белая цапля.
Сиротливая, пронеслась она быстрым прочерком, уши скакуна поднялись, и глаза обеих лошадей налились мягкими отсветами заката, который в следующий миг отразился и в глазах людей, одновременно посмотревших на запад, туда, где села цапля, так что у всех глаза были словно налиты неким неистовством.
Лоренцо одарил птицу торжествующим взглядом, как человек, любующийся своим детищем, и подумал: «Близка близость, ибо освещена низина, и пища дана закатная. Слава Господу: любовь Его стала зримой».
Маррелл же, с подозрением перехватывая взглядом, лишь щурился на закатное марево и не видел ничего, кроме белизны, окутанной темнотою, словно перед ним фосфорическая раковина, приковавшая к себе и не отпускающая его взгляд. Попытался ладонью заслониться от солнца, и самому в глаза бросилось выжженное на большом пальце тавро: «ВОР», причем, глядя на птицу, он так и лучился замыслами Богопротивного Бунта, исходящими от него, будто яркие блики отраженного света; стоял с гордым видом, будущий вожак рабов, злодеев и подонков, собранных со всей Натчезской округи, и хитросплетение планов, дат и топографических наметок жгучим тавром горело у него в мозгу, а себя он видел уже в тот миг, когда, подобно пророку, обходил ряд за рядом шеренги рабов, приветствующих его поклоном, готовый развернуть и взметнуть кверху огромное, вселяющее ужас изображение Дьявола, намалеванного на знамени.
Глаза Одюбона, устремленные на ту же отдаленную птицу, охватывали ее всесторонне и видели так, словно она тут, на ладони. Это была одинокая белая цапля, отбившаяся от стаи. Одюбон спокойно наблюдал за ней, со вниманием отмечая про себя точный смысл непременных деталей. Отыскивая корм, она мутит ногой воду… Каждая мелочь проявлялась во времени, медлительно и лишь однажды. Почувствовал всегдашний укол удивления: каким образом связала природа и чешую рептилии, и перо цапли? Понимание этого тоже утрачено. Не шелохнувшись, он продолжал смотреть. На свете нет птице иной защиты, кроме напряжения ее жизни, и он внутренне удивлялся тому, как может жар крови и убыстрение сердца защитить ее. Потом подумал, как всегда поразившись невероятности и новизне окружающего, что нет в пространстве и во времени ничего, способного удержать ее от полета. Он помедлил, зная, что некоторые птицы, прежде чем улететь, ждут, пока их присутствие не будет осознано человеком.
Прорисовываясь чистым белым профилем, она стояла, безрассудно упуская драгоценный миг, – на голове хохолок, брачный наряд лучится, – стояла и спокойно поедала водяную живность. Трое людей стояли и смотрели пораженно, каждый на некотором удалении от остальных. Глядя на них, никто бы не сказал, встречались ли они прежде, происходило ли еще когда-либо в их жизни такое тройственное схождение и сбылось ли предвещанное им в этом мгновенье. Но перед ними в травах, покоясь среди сумерек, стояла белая цапля, белоснежная, светлей и тише, чем сами сумерки; чреватое полетом тело, замкнутое в круг красоты, – птица видения, птица покоя, самой своей торжественной повадкой как бы предлагавшая: «Вот мой полет, возьми…»
У каждого из троих желанием было попросту желание всего. Спасти все души, уничтожить всех людей, увидеть и запечатлеть всю жизнь, наполняющую этот мир, – всю, никак не меньше, – но в тот миг все трое исходили одним и тем же смутным стремлением, оно как бы протянулось от них к одной и той же белоснежной пугливой птице среди болот. Словно три вихря, сойдясь в одной точке, совпали на мирно кормящейся белой цапле. Неспешное круговращение полета через миг могло бы унести ее, но еще и еще держала она всех в неподвижности, осеняя покоем, и еще минуту постояли они, ничем не обремененные…
Никогда Маррелл не носил маски, ибо само его лицо было маской: бодрствующее, когда он спал, ждущее подвоха, бдительно охраняющее его, тревожное и почти жестокое – не лицо, а страж заговорщика. Быстрый во внешнем, он был не чужд внутренней медлительности, цедил время, странствуя и строя козни, однако все его желание вздымалось в нем, тяготея к концу (не это ли было концом – зрелище птицы, кормящейся на закате?), тяготея к мгновению исповеди. Бесчисленные злодеяния стеснили ему сердце, и, бросившись наземь, он устало подумал: «Когда все деревья срубят и Тропа затеряется, мой Заговор, который ждет еще воплощения, будет раскрыт, увешанные камнями тела убитых будут подняты и все вокруг узнают о бедняге Маррелле». Его взгляд впился в Лоренцо, который глядел вверх, затем в Одюбона, снимавшего с плеча ружье, и в прищуре Маррелла появилось что-то умоляющее, словно он хотел сказать: «Когда же вы позволите мне заговорить, когда же вы пожалеете меня?» Потом он вновь обратил глаза к птице и подумал, что, если она глянет на него, проникновение страха наполнит и ублаготворит его сердце.
Одюбон в каждом действии своей жизни сознавал ту загадку происхождения, каковую он отчасти скрывал, а отчасти ее же доискивался. Люди на его пути, кто участливо, а кто и злорадно, спрашивали, правда ли, что он родился принцем, что он Пропавший Дофин, и некоторые утверждали, будто он хранит это в тайне, а другие говорили, что он и сам не прочь это узнать, хотя бы перед смертью. Пытался ли он открыть секрет своего происхождения или что-то другое, что не менее важно человеку постигнуть, но путь его был путем бесконечного исследования, со вниманием к каждой птице, мелькнувшей над головой, и к каждому гаду, скользнувшему под ногами. Ничто постигнутое не было ему достаточно; взгляд его проникал все глубже и глубже, все дальше и дальше, словно в поисках невиданного зверя или мифической птицы. Есть люди, у которых глаза при всем желании взглянуть вовнутрь смотрят вовне, и, к вящей радости таких людей, под небом перед ними распахивается удивительный мир. Когда человек в конце концов сподобится взглянуть на некую гладь, подобную зеркальной, он окажется лицом к лицу все с тем же окружающим его миром, его лишь увидит, и даже если он станет вглядываться все дольше и дольше, все пристальнее и пристальнее, что с того? Однако взгляд, направленный вовне, нужно без устали упражнять, чтобы сделать его всепроникающим. Он должен быть нетороплив, как муравей Маррелла на былинке, исчерпывающе зорок, как божий ангел Лоренцо, и тогда, мечтательно подумал Одюбон, лелея мысль о своей тонкой рисовальной кисти, только тогда будешь видеть по-настоящему; при этом он крепче охватил приклад ружья, потянул за спусковой крючок, и его веки сомкнулись. Память запечатлела цаплю во всем ее одиночестве, во всей красоте. Ее белизна как бы охватывалась взглядом со всех сторон, совершенное строение и уклад ее перьев – одно к одному, каждое наперечет – теперь с ним навсегда. Но писать ее по памяти он не мог.
Открывшись, его глаза встретились с глазами Лоренцо – глядевшими в упор, пылающими, – и вот тогда-то, заметив в их глубинах горение, подобное отдаленному пламени бездн, он впервые увидел ужас. Никогда прежде он не наблюдал ужаса в его чистоте и неприкрытости и вот увидел в этих ярких голубых глазах. Пошел подобрал птицу. Он думал о ней в женском роде, точно так же, как в женском роде воспринимаешь луну; так и оказалось. Положил ее в сумку и двинулся прочь. Но и Лоренцо уже пустился в путь – всем телом устремленный вперед, восседал на коне, ступавшем неторопливо.
Маррелл же остался, но он радовался этому их расхождению, словно оно было делом его рук, словно он всегда знал, что три человека, просто сойдясь вместе и что-либо сделав, могут из одного лишь упрямства сбить спесь друг с друга. Нет, каждый порознь: сам ухожу один, но и они пускай идут поодиночке. Он-то нарочно обретался в самом безлюдном из пределов мира, он-то сам себе ее выискал – сиротливейшую из дорог. Удовлетворенно оглядевшись, спрятался. Путники всегда будут простодушны, в это он веровал, на это у него была вся надежда. Затаился в засаде – с верой в простодушие, с искушенностью в пагубе; и хоть что-либо в нем поколеблено? Ослабла ли в чем-либо его хватка? Клубящиеся как облака вкруг солнца, нисходили на него слоистые сонмища мыслей. Мысли состояли сплошь из козней; переплетаясь, они сливались у него в ушах, словно вещал ему темный голос, поднявшийся, чтобы перекрыть голос чащи, а может быть, звучавший с ним заодно. Однако скоро ночь, а он ведь целый день в седле.
Одюбон, весь забрызганный, промокший, свернул обратно в чащу, унося под мышкой еще теплую цаплю; в голове его все еще стоял легкий туман. Конечно же, бывало, что воскресным утром, перебирая свои рисунки, он находил их прекрасными – одни потому, что в них удалось передать жизненные борения, другие благодаря точности. И тогда нарисованное и увиденное на мгновение совпадало. Но вскоре, если не в тот же миг (как в тот же миг за выстрелом последовал ужас в глазах Лоренцо), приходило понимание того, что даже красота цапли, явно лишь им одним оцененная, принадлежит ему не всецело, и ни один образ, ни один даже простейший пейзаж не может принадлежать ни ему, ни кому-либо еще из людей. Приходило понимание того, что самое лучшее из его творений, выйдя из-под кисти, сразу становится мертвым – вещь, а не существо, сумма частей, а не живое целое; и еще: смотреть-то ведь будут вчуже, поэтому никогда изображенному не совпасть с красотой в памяти никакого другого зрителя на белом свете. Точно так же, как ярче всего увиделась ему эта птица в миг ее смерти, так тщание смотреть вовне роковым образом позволяло и свои длительные труды воочию увидеть на том пределе, который им не превзойти. Уверенной поступью (благо способность хорошо видеть в темноте была в нем отточена) он уходил дальше и дальше в лес, примечая то вид, то звук и сам при этом будучи смиреннее и тише каждого из них.
Среди лесов, все еще слыша гул в ушах, Лоренцо, отъезжая шагом, обернулся. Волосы на голове его встали дыбом, задрожали от холода: ему вдруг почудилось, что именно в тот миг Господь Бог подумал о Разобщении. Ибо, конечно же, Всевышний не помышлял о нем прежде, когда сиротливая белая цапля с намерением покормиться спускалась с небес. Лоренцо еще мог бы понять, ниспошли Господь сперва Разобщение, а следом Любовь, в чудодействии своем исцеляющую, но Господь поступил наоборот и дал сперва Любовь, а затем Разобщение, будто Ему безразлично, что за чем следует. Возможно, дело в том, что Господь не ведет счет мгновениям Времени; счет им ведет лишь Лоренцо, исполняя послушание любви. Времени Господь не наблюдает. А следовательно… Он, может, и не знает о нем? Как вернуть Господу понятие Времени и Разобщения, как объяснить их Ему – Ему, который не помышляет о них и может во мгновение ока погрузить мир в печаль?
Соединив захолодевшие ладони, Лоренцо стиснул руку рукою, продолжая глядеть вдаль, туда, где только что стояла птица, словно он все еще видел ее, словно ничто не могло его лишить драгоценного достояния – простого и прекрасного образа кормящейся птицы. Красота ее была огромнее, чем он мог вместить. Пот вдохновения оросил его чело, и крик пронесся над болотами:
– О искуситель!
Он рванулся всем телом вперед и принялся горячить коня, переводя его в галоп. Поселение, где его ждали, было еще далеко, хотя там, должно быть, в тот час уже зажигали факелы и собирались во множествах, чтобы в назначенный час он, как обещано, явился бы среди них и произнес проповедь «О дне, когда помышления всех сердец раскроются».
Потом солнце кануло за деревья, и молодая луна, тонкая и белая, робко показалась на западе.








