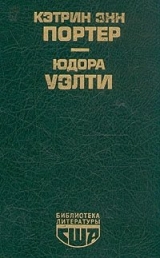
Текст книги "Библиотека литературы США"
Автор книги: Кэтрин Портер
Соавторы: Юдора Уэлти
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 59 страниц)
Тот продавец на другой месяц снова явился, но уж не с трубками, а привез кастрюлю необыкновенную, которая замечательно варит овощи безо всякой воды. «Так пища гораздо пользительней, миссис О’Тул. – Деннис слушал, как он там разливается соловьем. – Уж я вам по-дружески, как постоянной клиентке».
Вот оно как, подумал Деннис и весь вскипел.
– Это ж находка просто, при здоровье вашего супруга. Человек в возрасте к питанию должен очень ответственно подходить, а кухня – основа основ, не мне вас учить, миссис О’Тул, вам самим не хуже известно. А супруг ваш в свои года мог бы быть и покрепче. Все потому, миссис О’Тул, что какая вы ни есть кулинарка, а все витамины, самый полезный жизненный элемент, вы на помойку сливаете. Да-да, на помойку, миссис О’Тул, на помойку – и супруга здоровье, и собственное. Я и думаю – как же так, такая интересная женщина, а зря время теряет и силы, стоит над плитой, когда вам всего и делов: наложили в этот научный агрегат, чего там надумаете на ужин, и пошли в залу, книжечку себе читаете, пока оно варится, или волосы можете завивать.
– У меня волосы свои вьющие, – сказала Розалин. Деннис чуть не взвыл у себя в засаде.
– Гос-сп… ну, миссис О’Тул! Вы подумайте! Когда я в первый раз увидел ваши волосы, я решил – ну и ну, это ж надо, какие шикарные волосы, конечно, они завитые! Хотел даже способ узнать завивки, чтоб жене рассказать. Ну, уж если ваши волосы так вьются безо всякого витамина, вот недельки через две вы моей кастрюлькой попользуетесь, и тогда я на них погляжу!
Розалин сказала:
– Разве ж я о внешности о своей пекусь? Муж вот плохой стал, что правда, то правда, мистер Пендлтон! Ох! Посмотрели бы вы на него, когда он помоложе был! Силен, как бык, и уж боялись его! Сколько раз, бывало, сама видела, заедет кулаком кому следует, пошлет метров на шесть – и буквально ведь из-за безделицы! Но такой отходчивый был, тут же поможет встать человеку, пыль с него стряхнет, как брат родной, скажет: «Ну-ну, забудем». Всем все прощал, даже слишком. Это его недостаток.
– А что теперь… – печалился мистер Пендлтон.
У Денниса уши горели. Он стоял за углом и подслушивал. Никогда он не весил больше семидесяти килограммов, высокий был, тощий, даже гордился своей изящностью и с той поры, как расстался со школой в Бристоле, ни разу не поднял руку ни на одно существо, будь то животное, будь то человек.
– Чудесный мужчина был, на которого женщина может рассчитывать, – сказала Розалин, – и лютый, как тигр.
«Ее послушать, я будто давно в могиле гнию, – думал Деннис. – А деньги швыряет, словно уже веселой вдовою заделалась».
Он заковылял из-за угла, чтобы высказаться и положить конец безобразию. Продавец поворотил к нему шустрые глазки и линялую улыбку.
– A-а, вот и мы, – сказал он бодрым свойским тоном, какой приберегал для мужей, – а я, мистер О’Тул, вручил, между прочим, вашей супруге небольшой презент на ваш день рожденья.
– У меня не рожденье, – сказал Деннис, кислый, как лимон.
– Это ж просто так говорится! – вклинилась Розалин весело. – Большое-большое вам спасибо, мистер Пендлтон.
– Это вам большое спасибо, миссис О’Тул, – отвечал продавец, складывая девять долларов разлюбезных зелененьких денежек. Больше кроме «до свидания» ни звука не было сказано, и вот уже Розалин – ладони щитками – следила, как фордик грохочет прочь по ухабам.
– Серьезный, порядочный человек, и семейный, – сказала она Деннису, будто в укор за его нехорошие мысли. – В Нью-Йорк ездиет, всегда все самое-рассамое, самое новейшее возит. А уж тебя как нахваливает! Не упомнит, чтоб кто в твои годы так выглядел, говорит.
– Слышал-слышал, – сказал Деннис. – Все знаю, что говорит.
– Ну и ладно, – сказала Розалин преспокойно. – Значит, и нечего повторять.
И бросилась мыть картошку, чтобы в этой своей кастрюле варить, от которой волосы вьются.
Навалилась на них зима, закружила метелями. Деннис на холод не вылезал, сидел у печи, дроглый, ворчливый, в шарфе. Розалин в натопленной кухне норовила все с себя скинуть, от работы в хлеву то и дело простужалась. Жаловалась, что руки аж сводит от холода. Соображает Деннис или нет, или полдела ему, всю зиму так сиднем и просидит, и где малый, который обещался помочь по хозяйству?
Деннис на эти глупости отмалчивался, думал, что не так уж тут много работы для здоровой бабы, а ругает она его за то, что от него не зависимо. Он не мог взять в толк, что у ней на уме, когда она плешь ему проедала из-за выкипевшего чайника, к примеру, или из-за печи загаснувшей. Как бы в один прекрасный день не взяла бы да не объявила: «Все, это не жизнь, не могу я тут больше». И ведь потащит его обратно в Нью-Йорк на какую-нибудь квартиру, а то вовсе бросит. Бросит? Неужели на такое способна? Раньше сказали бы – не поверил. Он подглядывал за ней, как в замочную скважину. Думал, как бы ее задобрить, но все не придумывалось. Часто она посмотрит на вещь какую-нибудь безобидную, календарь скажем, и вдруг сдерет со стены и бросит в огонь. «Видеть его не могу», – объяснит, и постоянно она видеть не могла то одно, то другое, иногда и корову; и чуть ли до кошек уж дело не доходило.
Как-то утром сидела она усталая, грустная и, не успел Деннис глаза продрать, начала:
– Мне сегодня ночью Гонора приснилась, больная лежит, при смерти, и меня зовет. – Она уронила голову в ладони, задышала часто-часто и произнесла: – Само собой, я должна поехать в Бостон, своими глазами посмотреть, что и как, правда ведь?
Деннис, натягивая телогрейку, которую она ему связала на Рождество, сказал:
– Видно, так. Похоже на то.
Пока пили кофе, она рассуждала:
– Я бы поехала, если б у меня пальто было. На такую зиму меховое надо. Я уж сколько лет без пальто. Было б у меня пальто, сразу бы поехала.
– У тебя ж есть пальто с воротником меховым, – сказал Деннис.
– Рубище, а не пальто! – крикнула Розалин. – Не хочу, чтоб Гонора меня в нем увидела. Она вечно мне завидовала, Деннис, и она рада будет, что на мне такое пальто.
– Может, раз она больная и при смерти, она и не заметит, – сказал Деннис.
Розалин согласилась:
– Даже, может, и лучше там пальто купить или в Нью-Йорке присмотреть помодней.
– Где Нью-Йорк – где Бостон? – сказал Деннис. – Вовсе не по дороге.
– Нет, я через Нью-Йорк поеду, там поезда лучше, – сказала Розалин. – И потом, мне так хочется.
И было у нее такое лицо, что ясно – она и под пыткой от своего не отступится. Деннис смолчал.
Она окликнула почтальона, попросила снести записку к местным на горке, чтоб прислали малого на несколько дней подсобить: мол, условия прежние. А с ним самим, если ему завтра утром с руки, она бы вместе поехала к поезду. Весь день она металась в папильотках, укладывала вещи в холщовую сумку. Закоптила окорок, хлеба напекла, натаскала дров полную кладовку.
– Может, еще письмо подоспеет, что Гонора на поправку идет, тогда и ехать не надо, – повторила она несколько раз, но глаза у нее сверкали, и бегала она так, что плясали половицы.
Вечером постучался Гай Ричардс, ввалился, протопал сапожищами. Чуть-чуть только был навеселе, но не собирался засиживаться. Розалин сказала:
– Я получила плохие вести про сестру, она больна, при смерти лежит в Бостоне, я туда еду.
– Будем надеяться, там ничего серьезного, миссис О’Тул, – сказал Ричардс. – Не выпить ли нам за ее здоровье по такому случаю, – и вытащил бутылку, хорошенько отпитую, с каким-то мерзким на вид питьем.
Деннис сказал, что он не против. Ричардс сказал:
– А дама нам не составит компанию? – И в глазах у него, ей-богу, Розалин не ошиблась, чертики прыгали.
– Нет уж, – сказала она. – Не до того.
Пока они выпивали, она подрубала на платье подол и опять начала про то, как много она знавала народу, какой с того света являлся о себе сообщить. Деннис не даст соврать. И снова пошел рассказ про кота Билли, и голос у нее был нежный и срывался от подступающих слез.
Деннис заглотнул свое питье, нагнулся, стал возиться со шнурками на ботинках, лицо у него стало как гриб-сморчок, и он вынужден был признаться себе: «Ни слова правды, ну ни единого. И она ведь до скончания века будет выдавать это за правду истинную». Ему было совестно, будто его втягивают в какую-то гнусную аферу. Захотелось взять и сказать раз и навсегда: «Будет тебе врать, Розалин, ты же сама все выдумала, ну и будет». Но Ричардс сидел, развеся уши, и слова застряли у Денниса в глотке. Момент был упущен. Розалин с важным видом сказала:
– Мои сны все сбываются, мистер Ричардс. Так что никуда тут не денешься.
«Да ничего же подобного, – настаивал про себя Деннис. – Факт тот, что Билли попал в капкан и я его похоронил». Неужели только и всего? Его, как в страшном сне, мучило, что правда – где-то тут, вот она, но не ухватишь, и он не мог бы поклясться, но почти готов был поклясться, что да, только и всего.
Ричардс поднялся, сказал, что его ждут в Уинстоне в одну компанию.
– Я завтра подкину вас к поезду, миссис О’Тул, – сказал он. – Всегда готов угодить даме.
Очень сухо Розалин отвечала:
– Я уже с почтальоном договорилась, так что большое вам спасибо.
Она заботливо уложила Денниса и еще немножко с ним посидела, пока намазывала лицо кремом.
– Я там не задержусь, – сказала она. – А у тебя пока все есть. Может, с Божьей помощью окажется, что она поправляется.
«Может, она и не болеет совсем», – хотел сказать Деннис, но сказал вместо этого:
– Дай-то Бог.
Он не очень беспокоился. Во-первых, если честно, нечего было так колотиться из-за Гоноры, пусть умирала бы, когда хочет, Деннис и пальцем бы не двинул.
До самой последней минуты Деннис надеялся, что Розалин одумается и не поедет, но вот она в самую последнюю минуту, в шляпе, в рубище, а не в пальто, с разводами розовой пудры на подбородке, натягивала перчатки, вея нафталином, взмахивала платочком, вея «магнолией», подскакивала к окну, высматривала почтальона.
– По такому снегу как бы не запоздал, – сказала она с дрожью в голосе. – Может, и вовсе не заявится. – Она бросила последний взгляд в зеркало. – Да, Деннис, вот что не забыть бы, – сказала она совсем уже другим голосом. – Зеркало новое купить, чтоб не получалась из меня такая образина.
– Зеркало как зеркало, – сказал Деннис. – Чего зря деньги переводить.
Почтальон опоздал всего на несколько минут. Деннис поцеловал Розалин на прощанье, закрыл кухонную дверь, и, как она садится в машину, он не видел, но зато слышал, как она хохочет.
«Закоренелая врунья – вот она кто», – сказал Деннис сам себе, сидя у печи, и вдруг почувствовал, что падает вниз головой в темный колодец. Лучшая его половина оспаривала эту дурь. «И не стыдно, – говорила лучшая половина Денниса, – думать такое на собственную жену». Но худшая половина упорствовала. «Она еще не такого достойна, – упрямилась худшая половина. – Бросила меня тут одного, а чего ради, спрашивается?» В том-то и вопрос. Ясное дело, не ради Гоноры, живая она там или мертвая. А тогда чего ради? То-то и оно. И он совсем перестал думать. Тут думай не думай. В груди саднило, похоже на воспаление легких, если бы простуда была, но простуды не было. Ноги ныли, точно как от ревматизма, но не было у него никогда ревматизма. И он ни о чем не думал. Так продолжалось два дня, и недоразвитый малый с фермы на горке все делал по дому, даже посуду мыл. Ел Деннис, при таких своих страданиях, как раз неплохо.
Розалин откинулась в плюшевом кресле и думала про то, как она всегда, хлебом ее не корми, любила дорогу. В поезде она была как дома – все сидят близенько, пахнет газетами, каким-то чудесным мебельным лаком, духами от меховых воротников, пылью, чем-то еще, не поймешь, но запах дорожный – не то фруктов, не то москатели какой-то. Она купила шоколадку, хоть есть пока не хотелось, и журнал с рассказами про любовь, хоть до чтения, в общем, была не большая охотница. Просто, чтоб убедиться, что вот она снова в поезде, едет куда-то.
Она разглядывала входящих и выходящих, как они здоровались, как расставались, и – видно, это был добрый знак, – нигде не углядела ни одного расстроенного лица. Солнце сияло на снегу прохладно и ласково, вид у городских не был продрогший. И лица гладкие, не то что обветренные, шершавые деревенские лица. Большой Центральный нисколечко не изменился, так же кипела водоворотом толпа, тот же стоял гул, сильный, ровный, почти как музыка. Она вцепилась в свою поклажу, которую норовили у нее отобрать цветные мужчины, стояла на тротуаре и прикидывала, где на Бродвее кино. Пять лет она в кино не была, теперь уж сам Бог велел! Хорошо бы часок выкроить, зайти на старую квартиру по Сто шестьдесят четвертой, хоть мимо окошек пройтись, да где тут успеешь! И опять ее досада взяла на Гонору, которая вечно всем удовольствие портила, и эту бы ей поездку испортила, да ее не спросили. Она шла вперед, старалась не сбиться, и ей немножко взгрустнулось оттого, что была она городская девчонка, одни наряды да развлечения на уме, и вот пожалуйста, где какая улица, разобраться не может. В кино она зашла в первое же, соблазнилась названием. Прочитала: «Влюбленный принц». Картина была про молодую интересную парочку, у него волосы волнистые, черные, у нее золотые кудри, и они любили друг друга, и как только ни мыкались, но все потом обошлось, и то один бальный зал показывали, то другой, и все время сады, сады, а какие наряды! Она всплакнула в свой пахучий платочек, ела шоколадку и думала, что ведь эти двое и вправду живут на свете и на лицо и вправду такие, и просто невозможно представить, что люди в жизни бывают настолько красивые.
После теплых, пляшущих огней экрана улица была холодная, темная, жуткая, слякоть, шум, народу невидимо, все куда-то несутся, и никого знакомых. Она решила ехать в Бостон на пароходе, как всегда раньше ездила в гости к Гоноре. Разглядывала витрины, дивилась, какая мода пошла на белье, глазам не поверишь, интересно, что бы Деннис сказал, если бы она купила этот шелковый лифчик цвета морской волны с салатными кружавчиками. Ах, ест ли он там окорок свой, как ему велено, приходит ли малый помочь, как уговорено было?
Она съела мороженое с клубничным цукатом, купила пудреницу и поняла, что у нее осталось время еще на одно кино. Называлась картина «Король любви» – про то, как переодетый король, молодой и красивый, чудо, волосы волнистые, темные, лицо – глаз не оторвешь, женится на бедной деревенской девчонке, а она красивей всех принцесс и дам у него в королевстве. С экрана шла музыка, голоса, и Розалин плакала, потому что любовные песни, как кинжалом, надрывали ей сердце.
Потом времени осталось как раз доехать на такси до Кристофер-стрит, к самому отходу парохода. Только она оказалась на палубе – и сразу успокоилась, ах, как она любила пароходы! Она ужинала и думала: «Этот малый и подать толком не умеет. Деннис не стал бы такого в гостинице держать», а потом сидела в салоне, слушала радио и чуть не уснула прямо при посторонних. Она вытянулась на узкой койке, мотор бился внизу, по койке бежала жесткая дрожь, отдавалась во всем теле. Взвыл туманный горн, разодрал темноту и волны, а Розалин перевернулась на другой бок. «Вой себе, вой, я вот так же вою ночами в том Богом забытом краю». Да, Коннектикут отдалился на тысячу миль от нее, на сто лет. Она уснула, и ей ничего совершенно не снилось.
Утром ей показалось, что это был добрый знак. В Провиденс она снова села на поезд, и, чем ближе была встреча с Гонорой, тем больше у нее портилось настроение. «Вечно эта Гонора тебя взбаламутит», – думала она, выйдя из вокзала, стоя с сумкой в руке и удивляясь, как же она забыла, что за поганый город Бостон: ничем она добрым не могла его помянуть. Таксисты нахально гудели ей в лицо. Надо было, видно, в церковь зайти, поставить за Гонору свечку. Такси понеслось по кривым улочкам к самой ближней церкви, а Розалин сидела и думала – чего только не отдашь, чтоб так вот кататься день-деньской, а пешком совсем не ходить.
Она встала на колени у высокого алтаря, и что-то сжало ей горло, из глаз хлынули слезы. Молитвы так и просились одна за другой на язык. Уж сколько времени не видела она настоящей церкви, чтоб честь по чести убрано к празднику – цветы, свечки, пахнет воском и ладаном. Наша в Уинстоне гóре, а не церковь – кто там будет молиться как следует?
«Смилуйтесь, – взывала она сразу ко всем святым, – каюсь, грешница…» Она трижды стукнула себя в грудь, вскочила, прихватила с полу сумку и заглянула в исповедальни, нет ли там где священника. «Рано еще, или день не тот, ну да я еще ворочусь», – пообещала она сама себе, вся растроганная. Поставила за Гонору свечку и вышла, и стало на душе так тепло и отрадно. Но зато в голове была сумятица, она не знала, что дальше делать. Куда идти? Смертный грех бросать деньги на такси, когда столько народу кругом голодает, но все же она села в машину и дала адрес Гоноры. Да, дом – вот он, все как в старые времена.
Она перечла все фамилии на планках над звонками, по всем этажам вдоль и поперек, но Гоноры нигде не было. Швейцар ни про какую миссис Теренс Гогарти слыхом не слыхал и про миссис Гонору Гогарти тоже. Может, в телефонной книге отыщется? Там оказалось этих Гогарти пруд пруди, но ни Теренса, ни Гоноры. Розалин чуть не рассказала швейцару, славному ирландскому малому, как сон ее обманул, но удержалась.
– Спасибо вам большое, не стоит беспокойства, – сказала она и вышла на улицу. Ветер хлестал по плечам сквозь рубище, а не пальто, сумка была ужасно какая тяжелая. Ну что за человек Гонора – не черкнуть пару строк, что переехала, мол?
Так она шла, шла, сама не своя, и забрела в какой-то поганенький скверик – скамейки чугунные, голые деревья. Села и снова стала плакать. Один платочек весь взмок, она достала другой, и от свежего запаха магнолии ей стало полегче. Она огляделась, краем глаза поймала какую-то тень, и на другом конце скамейки оказался молоденький задохлик, весь в веснушках, воротник поднят, рыжие патлы висят из-под надвинутой шапки. Скосил на нее зеленый глаз и говорит:
– Плакать каждый причину имеет, а?
Розалин сказала:
– Я оттого плачу, что издалека притащилась, а все зазря.
А он:
– Я как глянул на вас, враз сообразил, что из Слайго она.
– Вот и спасибо тебе, – сказала Розалин. – Оттуда я, правда.
– Сам-то я тоже из Слайго, давно уж оттудова, мне бы подохнуть в тот день, как уехать надумал. – И с такой он яростью это сказал, что Розалин плакать окончательно перестала и повернулась, чтоб получше его разглядеть.
– Ну, чего это ты? – сказала она. – Тут тоже страна неплохая. Перед каждым большие возможности.
– Слыхал, тыщу раз слыхал. Одно звание, что возможности – ремень затяни потуже да подметки снашивай, за работой гонявши, всего и делов-то, иль в канаве окочурься – твоя полная воля. Прости меня, Господи, за дурь за мою!
– И давно это ты? – спросила Розалин.
– Да уж одиннадцать месяцев, пять дён, аккурат, – сказал он. Сунул руки в карманы и стал разглядывать комья грязи на своих невозможных ботинках.
– Ну а чем ты заработать умеешь? – спросила его Розалин.
– Конюх я, даже в Дублине на ипподроме работал. Коней понимаю – во! – расхвастался он. – Работа хорошая, да пойди найди.
Розалин пригляделась к нему – нос длинный, красный, отмороженный, что ли, глаза острые, цевки торчат костлявые – и даже сама удивилась, как это он ей с первого взгляда показался похожим на Кевина. Теперь-то она разглядела, но подумать – если б это был Кевин! Добра от добра захотел искать и пропал ни за что.
– Я голодная и окоченела вся, – сказала она. – Знать бы, где тут можно поесть, мы б с тобой пообедали, самое время.
Глаза у него расширились, будто он тонет.
– Вона как? Да знаю я тут место одно! – и вскочил, как бегун перед стартом. Так, почти бегом, они пересекли сквер и вышли на дальнем углу. Там была закусочная, пахло горячими пирогами.
– Перекусить везде можно, – сказала Розалин, стягивая перчатки, – но места и получше бывают.
Парень молотил одно за другим, никак остановиться не мог: ростбиф с картошкой, спагетти, кофе с эклером, и Розалин заказала еще пачку сигарет. Уж так получилось, вот – пристрастилась к табачному духу, муж курит как нанятый, не выпускает трубку изо рта.
– Чего таиться, – сказал парень. – Денег-то у меня ни шиша, вчера – сегодня, по сю пору, совсем жевать было нечего, хоть удавись, хоть сам в арестанты иди, только б приткнуться куда.
Розалин сказала:
– Я женщина обеспеченная, о деньгах и не думаю, все имею, что душа пожелает, так что ты, парень, можешь без стеснения немножко у меня одолжиться, мне ничего не составит.
Она покопалась в кошельке, вытащила десятидолларовую бумажку, скомкала и сунула ему под блюдечко, чтоб человек за стойкой не заметил.
– Это тебе на счастье в новой жизни. – И она улыбнулась. – Ты ведь как Кевин мне, как братишка, или как мой сынок, и один-одинешенек, а деньги – они ко мне так и так вернутся, если будет когда нужда.
Он сказал:
– Вот не думал не гадал, – и сунул деньги в карман.
Розалин сказала:
– А я ведь даже не знаю, кто ты есть.
– Ну фамилие мое – не особо обрадуешься. Салливан я. А звать Хью. Хью Салливан.
– Фамилия как фамилия, – сказала Розалин. – У меня в Дублине братья двоюродные Салливаны, да я их сроду не видела. Один мужчина, как раз Салливан, на материной сестре, на тете Марте, женился, и она в Дублин на жительство перебралась. Дублинские Салливаны случайно тебе не родня?
– Кто ж его знает, может, родня.
– Ты, на мой взгляд, вылитый Салливан, – сказала Розалин. – А ведь они, кое-кто, мне двоюродные.
Она заказала еще кофе, а он закурил еще сигарету, и она ему рассказала, как тому уж больше двадцати пяти лет, уехала она из дому, девчонка зеленая, вроде как он, а потом ей и всей семье счастье привалило. Рассказала про мужа, что был метрдотелем, и денежный, да теперь устарел; про ферму, где, найти бы помощника, можно отличное хозяйство наладить; про Кевина, как уехал, и умер, и прислал ей во сне насчет этого весточку; и – уж одно к одному – рассказала, как ей Гонора приснилась, да поди ж ты, в первый раз в жизни сон обманул. А потом сказала, что для здорового работящего парня, который в лошадях понимает, всегда найдется место в деревне, и чем впроголодь тротуары топтать, не терялся бы только – и все у него будет, что надо. Она налегла на стол, стиснула ему руку.
– Ты полное право имеешь жить в честном, ирландском доме, – сказала она. – Давай поедем со мной, а? И будешь у нас своим человеком как у Христа за пазухой жить.
Остроносый Хью Салливан скосил на нее застланные зеленые глазки, и лицо у него стало хитрое.
– Не-е, – сказал он. – Эта дела – того – опасная.
– Опасное? – удивилась Розалин. – Да чего же опасного в тихой-мирной деревне?
– Не-е, – сказал Хью. – Я уж было в Дублине напоролся. Ой-ёй! Женщина-то порядочная, вроде вас вот самих, да муж – всю дорогу в дырявую стенку подглядывал! Во я влип!
Вдруг до Розалин дошло, как ошпарило.
– Да ты… – начала она, и кровь кинулась ей в лицо, даже глаза застило красным. – Ты, щенок… – выговорила она и задохнулась. – Так ты вот как, а? Одно слово – из Дублина! Да я в жизни… – Она переглотнула. – Да если б я за мужиками гонялась, я б небось и нашла мужика, не тебя, недоделанного… – Она набрала воздуха и снова пошла: – И не стыдно женщину оскорблять, которая в матери тебе годится! Вот уж избави, Господи! Да ты сопли-то утри! Ах ты, рвань невоспитанная! А ну – вон отсюда! – И она встала, махнула рукой человеку за стойкой. – Вон, тебе говорят!
Он тоже встал, опасливо зашарил узкими зелеными глазками, протянул руку, как бы увещевая.
– Ну-ну, тише вы, а сами-то, да на моем бы месте каждый на вас бы подумал…
Розалин крикнула:
– Попридержи язык, пока я его у тебя из пасти не выдрала! – и деловито отвела назад руку.
Он увернулся, сиганул было мимо нее, потом опомнился и шагом прошел на безопасное расстояние.
– Счастливо вам, женщина из Слайго! – крикнул он с издевкой. – Сам-то я из Корка буду! – и вылетел за дверь.
Розалин так трясло, что она еле нашла деньги заплатить по счету и пошла не разбирая дороги, но на свежем ветру голова у нее прояснилась, и она уже снова готова была клясть Гонору за все эти неприятности.
Поезд она выбрала, чтобы только поскорей добраться до дому, дорога уж ей надоела. Домой, домой, больше ей никуда не хотелось. «Щенок бесстыжий, и что удумал! У мальчишек у этих, известно, все пакость на уме», – думала она и вся клокотала. Но ведь он сказал: «Порядочная женщина вроде вас», может, ему одни бесстыжие попадались, вот он и привык так подходить. А может, она сама чересчур с ним забылась, разжалобилась, что ирландец – и с виду бедный-несчастный такой. Факт тот, что мальчишка-то подлый и к ней бы полез, не осади она его вовремя. И тут ее осенило – ясно как день. Кевин ее все время любил, а она прогнала его к этой девке позорной, которая его мизинца не стоила! А Кевин, миленький, скромный Кевин – да он бы себе дал правую руку отсечь, а не сказал бы ей неподходящего слова. Кевин любил ее, она любила Кевина, ох, ей бы тогда догадаться! Она притулилась в углу, оперла локоть в оконную раму, подняла потертый меховой воротник и долго, горько рыдала по Кевину, который остался бы с нею, скажи она хоть словечко, а теперь вот исчез и пропал ни за что. Ей хотелось спрятаться от всего света, в жизни ни с кем больше словом не перемолвиться.
– Она жива-здорова, Деннис, – сказала Розалин. – Болела, было, да все обошлось. Глядишь, и нас переживет.
– Ну и хорошо, – сказал Деннис, без особой радости. Он снял ушанку, поддел пятерней белый пух на голове, снова надел шапку и, стоя, приготовился слушать разные чудеса про поездку. Но Розалин ничего не собиралась рассказывать, уже вся в мыслях о доме.
– Кухня у нас – прямо срам, – говорила она, убирая по местам вещи. – Но я бы ни за какие коврижки в город не переехала, Деннис. Это же ужас, там жить, куда ни глянь – злодей на злодее. Я до смерти все время боялась. Ты зажег бы лампу-то, а?
Малый с горки грел ножищи у печи и стучал зубами – видно, не только от холода. Он выпалил:
– Я чего видал. На дороге. Черное. Четыре ноги – ровно собака. А потом как встат. И рядом бегет. Я забоялся. «Кыш», – кричу. И сразу ей как и нет.
– Может, собака и была, – сказал Деннис.
– Не-е. Не она, – сказал недоразвитый.
– Может, кошка, и вытянулась, на забор чтобы скакнуть, – сказала Розалин.
– Не-е. Не она. Я ей и не видал такой. И вы не видали.
– Да ты не бойся, – сказала Розалин. – Видала я его, сколько раз видала, девчонкой еще, в Ирландии. Там уж знают про него, как он обернется клубком черным и катит впереди по дорожке, а помянешь Духа Святого да перекрестишься – он сразу и убежит. Ты теперь покушай и у нас спать оставайся, куда тебе одному, раз нечистый дожидает.
Она ему постелила у Кевина в комнате и чуть не до утра не давала Деннису спать рассказами про привидения, которые видела в Слайго. Про поездку в Бостон она, похоже, и думать забыла.
Утром истомившийся пес малого встал на пороге открытой кухни и скорбно глянул на хозяина. Кошки бросились на него все, как одна, и молча, сомкнутым строем, прогнали далеко на дорогу. Малый опять затрясся, стоя на крыльце.
– Старая к ужину велела, – сказал он тупо. – А как я теперя к ужину… Старый, он шкуру сдерет.
Розалин закутала в зеленую шаль голову и плечи.
– Давай я тебя провожу, расскажу им все, – сказала она. – Так, мол, и так, и они тебя не тронут.
Но он, бедный, весь трясся, у него даже ноги подкашивались.
«Он же совсем не в себе, – думала она жалостно. – Что ж они-то – не видят? Неужели же нельзя в покое его оставить?»
Они брели по изволоку чуть не целую милю, потом свернули на ухабистую тропу и вышли к заброшенному дому с развалющим крыльцом посреди разного мусора. Малый все больше отставал и вовсе застыл, когда тощая, зубастая женщина в сером платье вышла из дому с хворостиной. Она тоже так и застыла, узнавши Розалин, и лицо у нее стало злое и хитрое.
– С добрым утром, – сказала Розалин. – Мальчик вчера вечером привидение видел, у меня и духу не хватило в темноту его гнать. Он спал спокойно у меня в доме.
Та хохотнула – хрипло, злобно, как лисица.
– Привидение! – сказала она. – Слыхала я, какие привидения вокруг вашего дома по ночам ошиваются, миссис О’Тул. – Помотала головой, распустила свои тусклые пегие патлы. – Таких, как вы, поискать, миссис О’Тул – при старом муже молодых людей в доме держите, торговцев приезжих привечаете, с разной пьянью якшаетесь.
– Помолчали бы, хоть мальчика бы своего постыдились, – сказала Розалин, и ей сжало затылок. Удар был до того неожиданный, что она не сразу нашла достойный ответ, стояла и слушала.
– Вы полюбуйтесь только на себя, миссис О’Тул. – И она подняла свой визгливый голос, но все так же злобно тянула слова. – Куда-то от мужа ездите, платья яркие, волосы крашеные…
– Чтоб тебе за это сдохнуть на месте! – Розалин вдруг тоже перешла на визг. – А ну, скажи еще такое про мои волосы! Да пусть твой поганый язык отсохнет! Мне и слов-то на тебя жалко! Вот – бери своего несчастного малого, и хоть бы Господь над ним сжалился в твоем доме – чума на него совсем! А если мой дом со мной вместе сгорит – уж я буду знать, на кого думать! – отвернулась, бросилась прочь, оглянулась и крикнула: – Чтоб тебе ни дна ни покрышки!
– Ругайтесь и каркайте, миссис О’Тул, и так про вас все всё знают! – орала та, как копьем размахивая хворостиной.
– И на здоровье! – крикнула Розалин, не оглядываясь, изнемогая от ярости. «Крашеные, а?» Она подняла сжатый кулак, погрозила. «Ах ты, врунья!» И пошла дальше, и, как барабанный бой в такт шагам, ее оглушала ярость. И что с ней в последнее время такое – у каждого, кого ни встреть, наготове непотребные речи, непотребные мысли в голове. Ах, были бы силы, разом бы их всех удушить! Глаза ей так жгло, что она даже сморгнуть не могла. Так и шла, уставясь прямо перед собой, и сама не заметила, как вышла к своему дому, уютно, как курочка, пристроившемуся на снежном насесте. Она чуть замедлила шаг и села на камень у дороги, чтоб отдышаться и собраться с мыслями перед тем, как явиться к Деннису. Она сидела, и подумалось ей, что Нечистый, шляющийся тут ночами, – это и есть та бессовестная ложь, которую про нее распускают, а она всегда была честная женщина, хоть другая на ее месте давно бы себя потеряла. Утешение маленькое – перебирать все случаи, когда могла б согрешить, да не согрешила. Что толку-то, если слава о ней все равно дурная. И тот щенок в Бостоне – вот поганец! Она плюнула на мерзлую землю, отерла губы. Потом уперла локти в колени, подбородок в ладонь, подумала: «Надо же! До чего дожила. Я теперь женщина с дурной славой».








