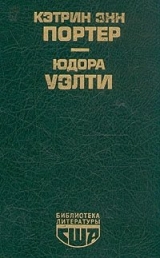
Текст книги "Библиотека литературы США"
Автор книги: Кэтрин Портер
Соавторы: Юдора Уэлти
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 59 страниц)
РАССКАЗЫ
Мария Консепсьон(Перевод Ю. Жуковой)
Мария Консепсьон шла, осторожно ступая по белой пыльной дороге и держась середины, где было меньше шипов агавы и коварно изогнутых кактусовых игл. Она бы с радостью передохнула в густой тени на обочине, да ведь сколько там колючек, сиди и вытаскивай из подошв, а времени-то нет. В сырых траншеях на раскопках древнего города ее ждут с обедом Хуан и его хозяин.
Через правое плечо у нее висела связка живых кур – птиц десять-двенадцать. Половина за спиной, остальные неловко корчились на груди. Куры все норовили выдернуть распухшие онемелые лапы, царапали ей шею, ворочали изумленными глазами, заглядывали ей вопросительно в лицо. Она их не видела, не думала о них. Ее левую руку оттягивала корзина с едой; после долгих утренних трудов хотелось есть.
Под чистым ярко-голубым ситцевым ребосо стройно вырисовывалась ее сильная спина. Первозданная ясность смягчала взгляд миндалевидных, широко расставленных, чуть раскосых черных глаз. В походке была врожденная свободная грация дикарки, оберегающей в своем чреве ребенка. Линии тела были плавные, развивающаяся жизнь не только не уродовала его, но придавала пропорциям высшую и, казалось, единственно естественную для женщины гармонию. В душе у Марии Консепсьон были мир, покой. Муж ее на работе, а она идет на базар продавать кур.
Домишко Марии Консепсьон стоял на склоне некрутого холма в тени перечных деревьев, двор отгораживала от дороги стена кактусов. Она спустилась в долину, по которой текла речушка, и стала переходить на ту сторону по ветхому каменному мостку неподалеку от хижины, где жила хозяйка пасеки Мария Роза со своей крестной матерью, знахаркой Лупе. Мария Консепсьон не верила в обугленные кости совы, в паленый заячий мех, в кошачьи внутренности, в мази и снадобья, которые старуха Лупе продавала страждущим и болящим. Она была добрая христианка и, если у нее болела голова или живот, пила настои трав или лекарства, которые покупала в городе, в аптеке возле рынка, куда ходила чуть не каждый день, хотя читать не умела и не понимала, что напечатано на этикетках пузырьков. Однако она часто покупала кувшинчик меду у Марии Розы – милой застенчивой девчушки, которой едва минуло пятнадцать.
И Марии Консепсьон, и ее мужу Хуану Виллегасу уже исполнилось по восемнадцать лет. В деревне она пользовалась уважением, ее считали набожной и деловой женщиной – любую вещь выторгует. Всем было известно, что, когда она идет покупать себе новое ребосо или рубашку Хуану, при себе у нее полный кошелек серебряных монет.
Год назад она приобрела свидетельство – драгоценный лист гербовой бумаги, позволяющий людям венчаться в церкви. Они с Хуаном пошли к алтарю в понедельник после Пасхи, но она дала деньги священнику, и три воскресенья подряд вся деревня в церкви слушала, как священник торжественно оглашает имена Хуана де Диоса Виллегаса и Марии Консепсьон Манрикес, которым предстояло сочетаться браком в самой церкви, а не на заднем дворе, как венчались все, – такая церемония обходилась дешевле, хотя связывала супругов ничуть не менее прочными узами. Однако Мария Консепсьон и всегда была горда, под стать богатой владелице гасиенды.
На мосту она остановилась и поболтала в воде ногами, обратив уставшие от солнца глаза на синие горы с наползающими клубами облаков. Ей вдруг захотелось съесть кусочек свежего сотового меда. Она даже почувствовала на языке его вкус, услышала кружащий голову запах пчел, их радостное мерное гудение.
– Если я сейчас не съем меду, у ребенка будет родимое пятно, – решила она и заглянула в щель в густой изгороди кактусов, стебли которых голо торчали вверх, точно обнаженные лезвия ножей, защищая небольшой участок вокруг дома. Было так тихо, что она засомневалась, дома ли Мария Роза и Лупе.
На жарком полуденном солнце дремал, источая ароматы трав, покосившийся, приземистый домишко, его стены были сложены из пучков сухого тростника и кукурузных стеблей, привязанных к вбитым в землю жердям, крыша крыта желтыми листьями агавы, расплющенными и перекрывающими друг друга, как дранка. Ульи, тоже из кукурузных стеблей и листьев агавы, стояли во дворе за домом, похожие на горки сухих очистков. Над каждой такой горкой вилось пыльно-золотое сияние пчел.
За хижиной раздался всплеск веселого легкого смеха, потом резко засмеялся мужчина. «Ха-ха-ха-ха!» – смеялись два голоса, низкий и высокий, точно пели песню.
– Вот оно что, у Марии Розы завелся кавалер! – Мария Консепсьон поправила ношу и, прикрыв глаза ладонью, стала всматриваться в просветы между кактусами.
Из чахлых кустов жасмина выскочила Мария Роза и побежала, огибая ульи, колени ее быстро мелькали, она оглядывалась на бегу и смеялась прерывающимся от волнения смехом. Надетый на руку тяжелый кувшин бил ее по бедру. Из-под ступней взлетали маленькие упругие облачка пыли, косы расплелись, длинные кудрявые пряди прыгали по плечам.
Ее догонял Хуан Виллегас, он тоже смеялся странным смехом, блестели сжатые белые зубы, под усами мягкая черная бородка покрывала лишь подбородок, смуглые щеки были гладкие, как у девушки. Он схватил Марию Розу и стиснул так крепко, что кофточка на плече у нее порвалась. Девушка перестала смеяться, оттолкнула его и стала молча прилаживать одной рукой оторвавшийся рукав. Ее острый подбородок и яркие губы неуверенно дрогнули, как будто она снова хотела рассмеяться; из-под длинных ресниц пробивался огонь опущенных глаз.
Мария Консепсьон застыла, не дыша. Лоб словно сжала ледяная рука, по спине, казалось, льется кипяток. Колени пронзила боль, точно их перебили. Вдруг Хуан и Мария Роза почувствуют ее взгляд, вдруг увидят, что она стоит, не в силах двинуться с места, и подсматривает за ними? Но они не вышли за ограду, даже не поглядели в сторону проема, за которым лежала дорога.
Хуан взял в руку одну из расплетшихся кос Марии Розы и игриво хлопнул ею девушку по щеке. Она нежно улыбнулась, сдаваясь. И они вместе пошли обратно к хижине мимо ульев, полных меда. Мария Роза уперла свой кувшин в бок, ее длинные пышные юбки колыхались при каждом шаге. Хуан размахивал своим сомбреро и вышагивал гордо, как петух.
Мария Консепсьон вынырнула из плотного облака, которое обволокло ей голову, не позволяя вздохнуть, и обнаружила, что она, оказывается, идет по дороге и даже тщательно выбирает, куда ступить, хотя сама того не сознает, а в ушах у нее гудит, будто вокруг роятся все до единой пчелы из ульев Марии Розы. Неусыпное чувство долга вело ее к раскопкам древнего города, где отдыхал, дожидаясь обеда, хозяин Хуана – археолог-американец.
Хуан и Мария Роза! Она вся горела, как будто под кожу ей набились тысячи мельчайших кактусовых игл, острых, как толченое стекло. Опуститься бы сейчас на землю и умереть, но сначала надо перерезать горло мужу и этой девке, которые сейчас смеялись и целовались в хижине из кукурузных стеблей. Однажды, еще девушкой, Мария Консепсьон вернулась домой с базара и увидела, что дом ее сожжен дотла, а несколько серебряных монет, которые она скопила, исчезли. Ее наполнила черная пустота, она бродила и бродила по двору, не веря глазам, и все ждала, что хижина и деньги вновь появятся. Но они не появились, и, хотя она знала, что это злодейство сотворил враг, ей не удалось доискаться, кто он, и ее угрозы и проклятья не пали на его голову. То, что случилось сейчас, еще страшнее, но враг ей известен – распутная, бесстыжая тварь Мария Роза! Она услышала свой голос, справедливо обличающий Марию Розу: «Шлюха, грязная шлюха! Таким не место на земле», – с жаром говорила она, точно кого-то убеждала.
И тут над краем свежевырытой траншеи, где Гивенс вел раскопки, появилась его седая взлохмаченная голова. Длинные, глубиной в рост человека ущелья пересекали поле вдоль и поперек, точно аккуратные разрезы, сделанные гигантским скальпелем. Почти все мужчины, живущие в округе, работали у Гивенса, помогая ему откапывать древний город предков. Работали они круглый год и жили безбедно, извлекая каждый день из земли ни на что не пригодные, все в трещинах, с въевшейся землей глиняные головки, черепки посуды и остатки расписанных стен. Сами они делали посуду куда красивее, она была новая, без единого изъяна, ее носили в город и продавали иностранцам за хорошие деньги. И чего это хозяин так радуется при виде эдакого старья? Иной раз кричит, будто невесть какое сокровище нашел, размахивает над головой разбитым горшком и во весь голос зовет фотографа, чтобы скорее шел делать снимки.
И вот сейчас Гивенс вынырнул из раскопа, и со старого, в резких складках лица, загоревшего до цвета красной глины, на Марию Консепсьон глянули молодые, горящие вдохновением глаза.
– Надеюсь, ты принесла мне хорошую, жирную курицу. – Мария Консепсьон молча нагнулась над траншеей, и он выбрал себе из связки птицу, которая висела ближе к нему. – Разделай, пожалуйста, а зажарю я сам.
Мария Консепсьон молча взяла курицу за голову, быстро полоснула ее ножом по горлу и отвернула голову точным небрежным движением, как свекольную ботву.
– Ну, женщина, сильна ты, – сказал наблюдавший за ней Гивенс. – Я бы не смог. Рука не поднимется.
– Я родилась в Гвадалахаре, – объяснила Мария Консепсьон без всякой гордости, ощипывая курицу; потом принялась ее потрошить.
Она стояла и снисходительно глядела на Гивенса, смешного белого, у которого нет жены, чтобы готовить ему еду, и который, видно, вовсе не считает зазорным стряпать себе сам. Он сидел на корточках и, сощурившись и сморщив нос от дыма, деловито поворачивал жарящуюся на вертеле тушку. Чудак, богатый, к тому же хозяин Хуана, и потому его надо почитать и угождать ему.
– Тортильи свежие, сеньор, еще горячие, – любезно проговорила она. – А теперь я с вашего позволения пойду на базар.
– Да-да, беги; завтра опять принесешь мне курицу. – Гивенс поднял голову и еще раз посмотрел на нее. Какая величественная, прямо королева в изгнании. Только что-то очень уж бледна сегодня. – Что, солнце слишком печет? – спросил он.
– Да, сеньор. Прошу прощения, а когда вы ждете Хуана?
– Ему бы уже давно пора вернуться. Оставь его обед, рабочие съедят.
Она зашагала прочь; ее яркое ребосо превратилось в голубое пятно, оно плясало в волнах зноя, который поднимался от серо-красной земли. Гивенс любил своих индейцев, ему нравилось потакать их дикарской ребячливости, она вызывала у него что-то похожее на отеческую нежность. Он рассказывал анекдоты о бесконечных проделках Хуана, которого вот уже пять лет спасает от тюрьмы, а порой и от расстрела, – чего только тот не вытворяет.
– Я появляюсь буквально в последнюю минуту и вызволяю его из очередной передряги, – говорил он. – Что поделаешь, работник он хороший, и ладить с ним я умею.
После того как Хуан женился, Гивенс начал журить его, хотя и не слишком сурово, за то, что он все норовит изменить Марии Консепсьон. «Смотри, застанет она вас, тогда помоги тебе Бог», – твердил он Хуану, а тот заливался радостным смехом.
Марии Консепсьон и в голову не пришло сказать Хуану, что она видела его с Марией Розой. За день ее гнев против мужа угас, зато она вся клокотала от ярости на Марию Розу. «Да если бы меня в ее годы обнял мужчина, я бы кувшин разбила об его голову», – повторяла и повторяла она. Она напрочь забыла, что, когда Хуан в первый раз ее обнял, она сдалась еще быстрее, чем Мария Роза. Но ведь она-то потом обвенчалась с ним в церкви, а это уже совсем другое дело.
Вечером Хуан не вернулся домой, он ушел на войну, и Мария Роза ушла вместе с ним. Он надел на плечо винтовку, заткнул за пояс два пистолета. У Марии Розы тоже была винтовка, она перекинула ее за спину вместе с одеялами, кастрюлями и сковородкой. Они вступили в первый же отряд, который встретился им на пути, и Мария Роза двинулась вперед в рядах бывалых воительниц, которые набрасывались на поля и огороды, как саранча, добывая пропитание для армии. Она стряпала вместе с ними, с ними же доедала то, что останется после мужчин. Когда кончался бой, они все спешили на поле битвы снимать с убитых одежду, собирать оружие и патроны, пока мертвецы не раздулись на жаре. Порой их опережали женщины из вражеской армии, и снова закипал бой, не менее жестокий.
В деревне обошлось без особого скандала. Люди пожимали плечами, усмехались. Ну и слава Богу, что они ушли. Лучше Марии Розе быть на войне, чем в одной деревне с Марией Консепсьон, говорили соседи, не так опасно.
Мария Консепсьон не плакала, когда Хуан ее бросил, и, когда у нее потом родился ребенок и на четвертый день умер, она тоже не пролила ни слезы. «Не женщина – кремень», – сказала старая Лупе, которая носила ей амулет, чтобы спасти ребенка.
– Гореть тебе в аду с твоим амулетом, – ответила ей Мария Консепсьон.
Лицо ее застыло в такой слепой, каменной неподвижности, что, не ходи она постоянно в церковь, где зажигала перед святыми свечи и часами стояла на коленях, раскинув руки крестом, не принимай она каждый месяц святое причастие, по деревне наверняка поползли бы слухи, что в нее вселился дьявол. Но о таком и помыслить было грех – ведь ее венчал священник. Должно быть, Господь наказывает ее за гордыню, решили соседи. Уж очень она горда, видно, гордость и виной всем ее несчастьям, рассудили они. И стали ее жалеть.
Год пропадали Хуан и Мария Роза, и все это время Мария Консепсьон продавала кур, ухаживала за садом, и ее кошелек набивался все туже. У Лупе не было удачи с пчелами, ульи захирели. Она стала осуждать Марию Розу за то, что она сбежала, и хвалить Марию Консепсьон за ее достойную жизнь. Марию Консепсьон она встречала на базаре и в церкви и всем говорила, что по виду нипочем не догадаешься, какое тяжкое горе терзает эту женщину.
– Я молю Господа, чтобы у Марии Консепсьон все наладилось, – говорила она, – довольно с нее несчастий.
Досужая кумушка передала эти слова покинутой жене, и Мария Консепсьон пришла к Лупе, встала во дворе и крикнула знахарке, которая сидела на пороге, помешивая варящееся снадобье от всех болезней:
– Молилась бы ты лучше за себя, Лупе, и за тех, кто тебя просит. Если мне будет что-то нужно в этом мире, я сама обращусь к Господу.
– И ты думаешь, Мария Консепсьон, Господь исполнит твою просьбу? – спросила Лупе, недобро усмехаясь, и понюхала деревянную ложку. – О том ли ты молилась, что тебе выпало?
Все заметили, что после этой встречи Мария Консепсьон стала ходить в церковь еще чаще и еще реже разговаривала с соседками, когда они сидели в конце базарного дня на обочине тротуара, кормили грудью детей и ели фрукты.
– Зря она нас врагами считает, – заметила как-то старуха Соледад – мудрая деревенская миротворица. – Такие несчастья – удел всех женщин. И потому мы должны страдать вместе.
Но Мария Консепсьон предпочитала страдать одна. Она вся высохла, точно от недуга, глаза ввалились, и, если бы соседи к ней не обращались, она, наверное, и вовсе бы не раскрывала рта. Она трудилась, не зная устали, и длинный острый нож все время сверкал у нее в руках.
В один прекрасный день Хуан и Мария Роза, которые до смерти устали от солдатской жизни, вернулись домой, не спросив разрешения ни у кого в отряде. Война катилась и катилась по стране, развертывая длинную карту бедствий, и наконец клин фронта оказался милях в двадцати от деревни Хуана. Тогда он и Мария Роза, на сносях, худая, как волчица, ушли домой, ни с кем не попрощавшись.
Появились они на рассвете. Прямо на дороге Хуана арестовал патруль военной полиции, которая помещалась в тесном здании казарм на окраине города, и препроводил в тюрьму, где дежурный офицер сообщил ему весело и незлобиво, что присоединит его к десятку пойманных дезертиров, которых завтра утром расстреляют.
Марию Розу, которая истошно завопила и повалилась ничком на землю, двое полицейских подняли под мышки и поспешно отвели домой, в ее хижину, за год сильно обветшавшую. Лупе встретила ее с профессиональной важностью и приняла роды.
Хромающий, с израненными ногами Хуан предстал перед капитаном; его роскошный новехонький наряд, добытый загадочным путем, был покрыт толстым слоем пыли. Капитан узнал в нем бригадира землекопов, который работал у его доброго друга Гивенса, и послал Гивенсу записку такого содержания: «У меня под стражей содержится Хуан Виллегас. Ожидаю ваших распоряжений».
Гивенс пришел, и Хуан был передан ему с настоятельнейшей просьбой не разглашать столь гуманный и разумный поступок военных властей.
Хуан вышел из довольно-таки неуютного здания военно-полевого суда с видом победителя. Расшитое серебром сомбреро немыслимых размеров на серебряном шнурке с ярко-голубыми кистями надвинуто на одну бровь. Рубашка в черно-зеленую клетку, белые хлопчатобумажные брюки подпоясаны кожаным ремнем с желто-красным узором. Босые ноги в синяках и ссадинах, ногти сбиты. Он вынул сигарету, торчащую в уголке его большого полного рта, и снял свое великолепное сомбреро. Черные пропылившиеся волосы прилипли к его лбу прядями, но на макушке встали дыбом, как пышный сноп. Он поклонился офицеру, который смотрел сквозь него, как будто перед ним никто и не стоит. Широким взмахом вскинул руку ввысь, к тюремному окну, где над подоконником торчали головы обреченных и горящими глазами глядели на освобожденного счастливца. Две-три головы кивнули, несколько рук рванулось вверх в попытке повторить порывистый небрежный жест Хуана.
Хуан продолжал разыгрывать эту омерзительную пантомиму, пока они не завернули за первую купу кактусов. Тут он схватил руку Гивенса и разразился пламенным монологом:
– Благословен тот день, сеньор, когда слуга ваш Хуан Виллегас впервые предстал перед вашим взором. Отныне и навеки моя жизнь принадлежит вам, и только вам, благодарю вас, сеньор, от всего сердца благодарю!
– Сделай милость, перестань паясничать, – с досадой прервал его Гивенс. – Вот возьму и в следующий раз опоздаю на пять минут.
– О, сеньор, расстрел – это пустяки, расстрела я не боялся, вы это, конечно, знаете, но быть расстрелянным в тот самый миг, когда ты вернулся домой, у холодной стены, вместе с толпой дезертиров, по приказу этого…
Ярчайшие эпитеты засверкали как фейерверк. Все самые нелестные сравнения, какие только можно почерпнуть в мире растений и животных, привлек Хуан, описывая красочно, вдохновенно и в высшей степени оскорбительно жизнь и любовные приключения того самого офицера, который только что вернул ему свободу, а также всех его предков до седьмого колена. Наконец поток его проклятий иссяк, нервы успокоились, и он заключил: «С вашего позволения, сеньор!»
– А что на все на это скажет Мария Консепсьон? – спросил Гивенс. – Для человека, который венчался в церкви, ты поступаешь весьма вольно.
Хуан надел сомбреро.
– Мария Консепсьон? О, пустяки! Я вам признаюсь, сеньор: быть венчанным в церкви – большое несчастье для мужчины. После венчания ты уже совсем не тот. На что эта женщина может жаловаться? Ведь я даже на праздниках и то никогда в стельку не напиваюсь. Я ее ни разу не побил – Боже упаси. Мы всегда жили дружно. Позову ее – она тут же придет. Куда ни пошлю – без слова идет. Но иной раз гляну я на нее, подумаю: «С этой женщиной я обвенчан в церкви», и так муторно станет, будто чего-то нехорошего съел. То ли дело Мария Роза! Мария Консепсьон молчунья, а эта все время тараторит. Надоест мне ее болтовня – шлепну ее, прикажу: «Молчать, дуреха!», она заплачет. С ней я волен поступать, как мне вздумается, сеньор, такая уж она девушка. Помните, как у нее все ладилось, когда она держала пчел? Знайте же, мне она слаще меда, клянусь. Я не хочу обижать Марию Консепсьон, ведь я же венчан с ней в церкви, но Марию Розу я никогда не оставлю, сеньор, потому что она мне милее всех женщин на свете.
– Позволь предупредить тебя, Хуан, что дело обстоит куда серьезней, чем ты думаешь. Будь осторожен. В один прекрасный день Мария Консепсьон просто-напросто перережет тебе горло своим мясницким ножом.
Лицо Хуана выразило торжество мужской гордости с приличествующей долей элегической грусти. Приятно видеть себя в роли героя, которого любят две столь необыкновенные женщины. Он только что спасся от смерти, которая, казалось, была неотвратима. На нем новая прекрасная одежда, которая не стоила ему ни гроша. Ее раздобыла для него Мария Роза на полях сражений. Он шел под утренним солнышком и с наслаждением вдыхал чудесные запахи поспевающих персиков, дынь, плодов кактуса и горького перца, которым были осыпаны деревья, вдыхал дым сигареты, которую курил. Он возвращался в мирную жизнь, а рядом с ним был его многотерпеливый хозяин. Хуан упивался счастьем – чего еще человеку желать?
– Знаете, сеньор, – доверительно обратился он к Гивенсу, как один умудренный опытом мужчина к другому, – женщины – это прекрасно, но мне сейчас не до них. С вашего позволения, я пойду в деревню и позавтракаю. Боже милосердный, наконец-то я наемся! А завтра утром, на рассвете, я приду на раскопки и буду работать за семерых. Бог с ними, и с Марией Розой, и с Марией Консепсьон. Пусть себе живут, как знают. Я с ними потом разберусь.
Весть о возвращении Хуана быстро разлетелась по деревне, и утро он провел в окружении друзей. Они хором восхищались, как ловко ему удалось избавиться от армии. Такой подвиг способен совершить только герой. А новоявленный герой все ел и не мог насытиться и пил пульке – ради такого события стоило выпить. Когда он наконец вернулся к Марии Розе, было уже за полдень.
Она сидела на чистой соломенной циновке и натирала жиром тельце сына, рожденного три часа тому назад. При виде этой идиллической картины на Хуана нахлынула столь бурная радость, что он отправился обратно в деревню, в пулькерию «Смерть и возрождение», и пригласил всех, кто там был, выпить вместе с ним.
Едва держась на ногах, двинулся он в обратный путь к Марии Розе, но необъяснимым образом попал в свой собственный дом, где и решил поколотить Марию Консепсьон, дабы заново утвердиться в правах законного хозяина.
Мария Консепсьон, знавшая обо всех событиях этого злосчастного дня, не проявила покорности и воспротивилась побоям. Она не стала ни кричать, ни просить пощады, но твердо держала позиции и оборонялась; мало того, она даже ударила Хуана. Ошеломленный Хуан, вряд ли соображая, что происходит, отступил и в недоумении воззрился на нее сквозь медленно колышущуюся пелену, которая застлала мир перед его глазами. Ну, ну, у него и в мыслях не было поднимать на нее руку, Боже упаси. Он ведь ее не обидел, верно? Он сдался и побрел прочь, засыпая на ходу. В уголке, в тени, он повалился наземь и мирно захрапел.
Увидев, что он спит, Мария Консепсьон начала связывать кур за лапы. Сегодня базарный день, она уже и так опоздала. Скорее, скорее! Веревка путалась в ее дрожащих руках. Наконец она собралась и пошла, но не по дороге, как всегда, а через вспаханное поле. Она бежала в смертельном ужасе, ноги подкашивались. Она останавливалась и озиралась по сторонам, пытаясь понять, где же она, пробегала еще несколько шагов и опять останавливалась. Наконец до нее дошло, что идет она совсем не на рынок.
И тут она мгновенно опомнилась, ей стало ясно, чтó же так невыносимо ее терзает, стало ясно, что она задумала. Она тихо села в тени колючего куста и отдалась не знающему утоления горю. Путы, которые так долго держали все ее существо в тугом узле немого страдания, вдруг разом лопнули. Она дернулась и невольно отпрянула, как будто ее ударили, ей стало жарко от пота, казалось, это не пот, а кровь, которая хлынула из всех ран, что нанесла ей жизнь, и нестерпимо жжет ее. Натянув на голову ребосо, она уткнулась лбом в колени и застыла. Лишь иногда она приподнимала голову, потому что пот заливал ей лицо и насквозь промочил перед кофточки, и рот ее кривился, точно она плакала, но только без слез, без единого стона. Казалось, в ней нет сейчас ничего, кроме темной, зыбкой памяти о горе, что жгло ее ночами, и о смертельном бессильном гневе, что пожирал ее днем, – гневе, от которого рот наполняется горечью, а ноги становятся тяжелыми, будто она в сезон дождей завязла в глине.
Наконец она поднялась, сбросила с лица ребосо и снова двинулась в путь.
Хуан пробуждался долго, протяжно зевал, урчал, снова задремывал, и тотчас же опять начинали мелькать сны, что-то шумело, грохотало. Он пытался разлепить веки, но глаза ослеплял оранжевый косматый свет. Откуда-то несся низкий глухой вой, кто-то плакал без слез и нескончаемо причитал. Хуан прислушался. Он попробовал вырваться из своего беспамятства, он силился понять слова, которые наводили на него ужас, хотя он и не мог их разобрать. И вдруг проснулся с пугающей неожиданностью и сел, уставившись на длинный острый луч закатного солнца, который бил сквозь сложенные из кукурузных стеблей стены.
В дверном проеме стояла Мария Консепсьон, она надвигалась на него огромной тенью. И что-то быстро говорила, повторяя его имя. И тут наконец в глазах у него прояснилось.
– Господи помилуй! – прошептал Хуан, холодея. – Вот она, моя смерть! – Ибо нож, который она обычно носила за поясом, был у нее сейчас в руке. Но вместо того, чтобы вонзить этот нож в Хуана, она швырнула его прочь, упала на колени и поползла к мужу, как много раз ползла на его глазах к раке в деревенской церкви. Он глядел на нее с таким ужасом, что волосы на его голове встали дыбом. Качнувшись вперед, она рухнула на него, беззвучно шепча что-то трясущимися губами. Но вот шепот стал явственней, и Хуан разобрал, что она говорит.
В первую минуту он не мог пошевельнуться, не мог произнести ни звука. Потом схватил ее голову руками и забормотал, захлебываясь, охваченный страстным желанием утешить ее:
– Несчастная! Безумная! О, бедная моя Мария Консепсьон! Слушай… Не бойся! Слушай меня! Я спрячу тебя, я – твой муж, я тебя защищу! Молчи! Ни звука!
Он тряс ее в сгущающихся сумерках и шептал сквозь зубы проклятья, пытаясь собраться с мыслями. Мария Консепсьон склонилась лицом чуть не к самому полу, поджала ноги под себя, точно хотела спрятаться за ним. В первый раз за всю свою жизнь Хуан почувствовал страх. То, что им грозит, и в самом деле страшно. Марию Консепсьон схватят и уведут жандармы, а он, беспомощный и безоружный, будет бежать за ними до самой тюрьмы, где ей, наверно, предстоит прожить остаток дней. Да, пришла беда! Ночь вокруг них полнилась угрозой. Он встал и поднял ее. Молча, каменно, безвластно прильнула она к нему, руки впились в него мертвой хваткой.
– Дай мне нож, – приказал он шепотом. Она двинулась за ножом, волоча ноги по жесткому земляному полу, тело словно одеревенело, руки повисли как плети. Он зажег свечу. Мария Консепсьон протянула ему нож. Он был по рукоятку в черной запекшейся крови.
Хуан сурово нахмурился, увидев такие же пятна на ее кофточке и на руках.
– Разденься и вымой руки, – приказал он. Тщательно вымыл нож и выплеснул воду подальше от крыльца. Она не спускала с него глаз и, помывшись, тоже вылила из таза далеко в сторону.
– Разведи огонь и приготовь мне ужин, – приказал он все так же сурово, собрал ее одежду и ушел. Когда он вернулся, на ней было старое, заношенное платье и она раздувала угли в жаровне. Он сел рядом скрестив ноги и стал глядеть на нее – чужое, неведомое ему существо, которое невозможно понять, невозможно объяснить. Она молчала и не поворачивала головы, не шевелилась, только сильные руки продолжали раздувать ярко разгоревшиеся угли, от них летели искры и легкий белый дым, пламя то вспыхивало, то умирало под взмахами куска картона, и лицо ее на мгновенье освещалось и вдруг тонуло в темноте.
Голос Хуана почти не нарушил тишину.
– Слушай меня внимательно. Ты должна рассказать мне все, как было, и, когда сюда придут за нами жандармы, тебе не надо будет ничего бояться. Но потом нам придется решать, как жить дальше.
Огонь в жаровне освещал ее глаза – казалось, темная радужная оболочка светится изнутри желтым светом.
– Для меня теперь все решено, – произнесла она с такой нежностью, так торжественно и горестно, что у Хуана душа перевернулась. Ему, мужчине, хотелось плакать и просить у нее прощения, как просят маленькие дети. Он не мог понять ее, не мог понять себя, не мог постичь таинственные пути судьбы, которая вмешалась в его жизнь, такую простую и веселую, и разом все поломала. Он чувствовал только, что теперь Мария Консепсьон бесконечно дорога ему, что равной ей нет среди миллионов, хотя он и сам не мог бы объяснить – почему. Он вздохнул так глубоко, что вздох отозвался в груди хрипом.
– Да-да, все решено. Я больше не уйду от тебя. Мы будем жить здесь вместе.
Он начал шепотом ее расспрашивать, и она шепотом ему отвечала, потом он несколько раз повторил ей, что нужно говорить жандармам, пока она не затвердила все наизусть. Враждебная темнота ночи подкралась к ним, перелилась через узкий порог, затопила сердце. Она принесла с собой шорохи и вздохи, шелест тайных шагов на ближней дороге, резкие сухие всхлипыванья ветра в листьях кактусов. Все эти привычные звуки, такие мирные когда-то, сейчас казались жуткими, зловещими; сердце сжимал страх, бесформенный и неподвластный разуму.
– Зажги еще одну свечу, – громко сказал Хуан, голос его прозвучал неожиданно властно и резко. – Будем ужинать.
Они сели друг против друга и начали есть из одной миски, как в былые времена. Ни он, ни она не чувствовали вкуса еды. Вдруг Хуан замер, не донеся куска до рта, и стал прислушиваться. За поворотом дороги, что шла вдоль кактусовой изгороди, звучали голоса, они приближались, надвигались, ширились. Сквозь заросли прорвался луч фонаря, властный окрик хлестнул по темноте, вдребезги разбил хрупкую скорлупу тишины вокруг хижины.
– Хуан Виллегас!
– Заходите, друзья! – радушно закричал им Хуан.
Они на всякий случай остановились в двери – простые деревенские жандармы-полукровки, симпатизирующие индейцам и хорошо известные всей округе. Чуть ли не с виноватым видом осветили они своими фонарями безмятежную счастливую картину – мужа и жену за вечерней трапезой.
– Просим прощения, брат, – проговорил старший. – Убили женщину, Марию Розу, и мы должны допросить всех соседей и друзей. – Он помолчал немного и добавил, пытаясь напустить на себя суровость: – Так положено по закону.
– Да, конечно, – подтвердил Хуан. – Я был близкий друг Марии Розы, вам это известно. Черную весть вы нам принесли.
И они пошли все вместе, мужчины шагали рядом, Мария Консепсьон чуть позади, за Хуаном. Шли и молчали.
Острое пламя двух свечей в изголовье Марии Розы неровно колебалось, по темным, в пятнах, стенам прыгали тени. Казалось, все в этой тесной, душной комнате дышит угрозой. Настороженные лица свидетелей – лица старых друзей – казались чужими: так сосредоточенно смотрели их глаза. Складки розового ребосо, накинутого на покойную, все время меняли очертания, как будто то, что под ними лежало, шевелилось. Глаза Марии Консепсьон скользнули по телу в открытом крашеном гробу, от двух свечей в изголовье к торчащим ступням ног – недавно вымытым маленьким худым ступням сплошь в незаживших ранах, исколотых шипами, сбитых об острые камни. Потом ее взгляд вернулся к пламени свечей, к предостерегающим глазам Хуана, к жандармам, которые о чем-то переговаривались меж собой. Ее глаза отказывались ей повиноваться.








