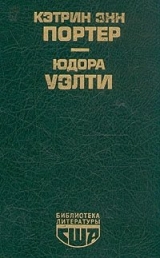
Текст книги "Библиотека литературы США"
Автор книги: Кэтрин Портер
Соавторы: Юдора Уэлти
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 59 страниц)
(Перевод В. Голышева)
Очень трудно жилось Уипплам. Трудно прокормить столько голодных душ, трудно одеть в теплое детей зимой, пусть и короткой. «Бог знает, что с нами сталось бы, живи мы на севере», – говорили они; в чистоте содержать и то трудно. «Кажется, несчастье никогда от нас не отстанет», – говорил мистер Уиппл; а миссис Уиппл считала, что долю надо принимать, какая есть, и хвалить ее, хотя бы при соседях. «Чтобы никто на свете не услышал от нас жалобы», – твердила она мужу. Она терпеть не могла, когда ее жалели. «Нет, пусть мы будем жить в фургоне и батрачить на уборке хлопка, – говорила она, – никто не посмеет смотреть на нас свысока».
Второго сына, глупого, миссис Уиппл любила больше, чем остальных двух детей, вместе взятых. Она не уставала об этом говорить, а беседуя с некоторыми соседями, даже сравнивала еще с мужем и матерью.
– Незачем об этом толковать повсюду, – говорил мистер Уиппл, – люди подумают, что, кроме тебя, до Него никому дела нет.
– Материнское сердце в детях, – напоминала ему миссис Уиппл. – Ты же сам знаешь, материнское сердце больше болит. С отцов почему-то и спрос другой.
Это не мешало соседям говорить между собой прямо: «Смилостивился бы Господь, прибрал бы Его», – говорили они. «Все – грехи отцов, – приходили они к общему мнению. – Где-то там дурная кровь и дела дурные, ясно». Все это – за спиной у Уипплов. А в лицо: «Он не так уж плох. Еще выправится. Посмотрите, как Он растет!»
Таких разговоров миссис Уиппл не выносила и мысли такие гнала от себя, но, когда кто-то заглядывал к Уипплам, эта тема возникала непременно, и, прежде чем перейти к другим делам, миссис Уиппл должна была поговорить о Нем. Поговорит, и на душе как будто легче.
– Не приведи Бог, с Ним что-то случится, но ведь проказлив – просто сладу нет. Сильный, шустрый, всюду лазит – с тех пор как начал ходить, покоя не знает. Иногда диву даешься, как у него все получается, – и смех разбирает от его проказ. Эмли чаще ушибается – то и дело перевязываю ей болячки; Адне стоит с кочки упасть – и что-нибудь уже сломал. А Он чего только не вытворяет – и хоть бы царапина. Однажды у нас был священник и сказал замечательно. Пока жива, буду помнить: «Невинный ходит с Господом – вот почему Он не ранится». – Повторяя его слова, миссис Уиппл ощущала, как разливается в груди тепло; глаза ее наполнялись слезами, и после этого она уже могла вести разговор о другом.
Он действительно рос и действительно никогда не ушибался. Оторвало ветром доску от курятника, ударило Его по голове – а Он будто и не заметил. Раньше Он знал несколько слов, а после этого все забыл. Он не просил есть – не хныкал, как другие дети, а ждал, когда дадут; ел в углу на корточках, чавкая и ворча. Жир складками покрывал его тело, как шуба, и Он мог унести вдвое больше дров или воды, чем Адна. У Эмли постоянно был насморк – «в меня пошла», – говорила миссис Уиппл, – так что в холодное время ей давали еще одно одеяло с его койки. Он как будто не замечал холода.
И все равно миссис Уиппл постоянно мучилась страхом, что с Ним произойдет несчастье. Он лазал по персиковым деревьям гораздо лучше Адны и скакал по веткам, как обезьяна, форменная обезьяна.
– Ох, миссис Уиппл, не позволяйте вы ему. Сорвется когда-нибудь. Он же сам не понимает, что делает.
Миссис Уиппл чуть не кричала на соседку:
– Он понимает, что делает! Он не глупее любого другого ребенка! Слезай оттуда, слышишь?
Когда Он спускался на землю, миссис Уиппл готова была отшлепать его за то, что проказничает перед чужими; Он только улыбался во весь рот, а она изнывала от тревоги.
– Всё соседи эти, – говорила она мужу. – Сколько же можно соваться в наши дела? Не могу допустить Его ни к какой работе – тут же начнут любопытничать. Хоть пчел возьми. Адна не может за ними ухаживать – жалят; я всюду поспеть не могу – теперь вот и Его боюсь подпускать. А Ему, когда жалят, хоть бы что.
– Не соображает, чего надо бояться, – вот и все, – отвечал мистер Уиппл.
– Как тебе не совестно? Можно ли так говорить о родном сыне? Кто же о Нем позаботится, если не мы, скажи мне. Он много чего замечает, Он все время слушает. И что я Ему велю, все делает. Никогда не говори такого при людях. Подумают, что других детей ты больше любишь.
– Неправда, сама знаешь, что неправда, и нечего тебе кипятиться. Ты все видишь с плохой стороны. Оставь ты Его в покое – проживет как-нибудь. Сыт, одет – правда ведь? – Мистера Уиппла вдруг охватывала усталость. – Все равно ничего не попишешь.
Миссис Уиппл тоже чувствовала усталость и усталым голосом жаловалась:
– Божьего дела не переделать, я это знаю не хуже людей; но Он мой ребенок, и я не желаю ничего слушать. Мне надоело, что к нам ходят и без конца говорят.
В начале осени миссис Уиппл получила письмо от брата: через воскресенье он с женой и двумя детьми собирался приехать в гости. «Бей маленькие горшки, чтобы большие боялись», – написал он в конце. Эту часть миссис Уиппл прочла вслух два раза – так ей понравилось. Брат ее был известный балагур.
– Мы ему покажем, что это не шутка, – сказала она. – Поросенка зарежем.
– Транжирство, – сказал мистер Уиппл. – Нельзя транжирить в нашем положении. К Рождеству этот поросенок денег будет стоить.
– Стыд и срам, – ответила миссис Уиппл, – раз в кои веки приезжают мои родственники, а мы не можем подать на стол. Подумать противно: вернется его жена домой и скажет, что у нас есть нечего. Ей-богу же это лучше, чем разоряться на мясо в городе. Вот куда деньги-то ухнут.
– Раз так, сама и режь, – сказал мистер Уиппл. – А потом, черт возьми, удивляемся, что нет достатка.
Трудность заключалась в том, как отнять сосунка у боевой матки – она была еще драчливей, чем их джерсейская корова. Адна и пробовать не хотел:
– Она из меня кишки выпустит.
– Ладно, трусишка, – сказала миссис Уиппл, – Он не забоится. Посмотри, как Он возьмет.
И засмеявшись, словно хорошей шутке, легонько подтолкнула Его к загону. Он шмыгнул туда, отнял поросенка прямо от соска и, еле удрав от разъяренной свиньи, перескочил загородку. Маленький черный поросенок заходился в крике, как младенец, выгибал спину и растягивал рот до ушей. Миссис Уиппл с каменным лицом взяла поросенка и одним движением перерезала ему горло. Увидев кровь, Он шумно всхлипнул и убежал. «Забудет и станет уплетать за милую душу», – подумала миссис Уиппл. Думая, она шевелила губами. «Целиком умнет, если не отнять. Ни кусочка ребятам не оставит, если позволю».
Это ее огорчило. В свои десять лет он был на треть выше Адны, которому шел четырнадцатый. «Стыд, стыд, – бормотала она, – а ведь Адна такой умный!»
Вообще огорчений было много. Во-первых, резать скот – мужское дело; от вида розового, выскобленного, голого поросенка ее затошнило. Такой он был жирный, такой мягкий, так его было жалко. Просто стыд, как все делается. К концу работы она почти жалела, что брат приедет.
В воскресенье рано утром миссис Уиппл бросила все дела, чтобы отмыть и переодеть Его. Через час Он снова перепачкался, лазая под забором за опоссумом и по балкам на сеновале в поисках яиц. «Господи, что ты с собой сделал после всех моих стараний! Адна и Эмли вон как смирно сидят. Устала я тебя отчищать. Скидывай рубашку, другую надевай – люди скажут, я тебе жалею!» И она надавала Ему оплеух. Он моргал, моргал глазами, тер голову, и ей было больно видеть Его лицо. Колени у нее подгибались, ей пришлось сесть, пока она застегивала на Нем рубашку. «День не начался, а я уже измучена».
Брат приехал с полненькой цветущей женой и двумя здоровенными, горластыми, голодными мальчишками. Обед был великолепный: жареный поросенок с хрустящей корочкой, весь в приправах, с маринованным персиком во рту, сладкий картофель с подливкой.
– Вот это, я понимаю, зажиточная жизнь, – сказал брат. – Когда я отвалюсь, меня придется катить домой, как бочку.
Все громко засмеялись; миссис Уиппл обрадовалась этому дружному смеху за столом. У нее потеплело на сердце.
– А, у нас еще шесть таких; я говорю: приезжаете раз в кои веки, как тут не расстараться?
Он не хотел идти к столу, и миссис Уиппл замяла это очень ловко.
– Он больше робеет, чем другие двое. Надо, чтобы Он к вам привык. Не сразу со всеми сходится – у детей так бывает, – даже с двоюродными братьями.
Гости не сказали в ответ ничего неуместного.
– Прямо как мой Альфи, – подхватила невестка. – Другой раз шлепнешь его, чтобы родной бабушке руку подал.
Так что никакой неловкости не вышло, и миссис Уиппл наложила Ему первому, раньше всех – и побольше.
– Я всегда говорю: Его обделять нельзя, а другим уж как достанется, – объяснила она и сама отнесла Ему тарелку.
– Он может подтянуться на притолоке, – сказала Эмли, помогавшая матери.
– Молодцом, Он у вас молодцом, – сказал брат.
Уехали они после ужина. Миссис Уиппл собрала тарелки, отправила детей спать, потом села и расшнуровала туфли.
– Видишь? – сказала она мужу. – Вот какие у меня родственники. Вежливые, понимают обхождение. Никогда не позволят себе сказать лишнее – воспитанные люди. Мне до смерти надоели эти разговоры. А поросенок разве плохо получился?
– Да, остались без ста сорока килограммов свинины, и больше ничего, – ответил мистер Уиппл. – Легко быть вежливым, когда приехал поесть. А кто знает, что они там про себя думали?
– Вот-вот, это похоже на тебя, – сказала миссис Уиппл. – Ничего другого я и не ждала. Теперь скажи еще, что брат будет сплетничать, что мы Его на кухне кормили! О Боже мой! – Схватившись за виски, она качала головой: прямо посреди лба ее расколола боль. – Так было хорошо и спокойно, а теперь все испортил. Ладно, ты их не любишь, всегда не любил… ладно, не беспокойся, теперь они долго не приедут! Но они не посмеют сказать, что Он был одет хуже, чем Адна… Честное слово, иногда сдохнуть хочу!
– А я хочу, чтобы ты замолчала, – ответил мистер Уиппл. – И без того тошно.
Зима выдалась трудная. Миссис Уиппл казалось, что и так, кроме трудностей, они ничего в жизни не видели – а теперь еще эта зима. Урожай получился вдвое меньше того, что ожидали, и, собравши хлопок, они еле-еле расплатились с бакалейщиком. Они сменяли одну лошадь – и промахнулись: новая оказалась с запалом и сдохла. В голове у миссис Уиппл засела мысль о том, что ужасно жить с человеком, от которого только и жди промашки. Они экономили на всем, но миссис Уиппл твердила, что есть вещи, на которых нельзя экономить, и они стоят денег. Адна и Эмли ходили в школу за четыре мили – им нужна была теплая одежда.
– Он все время сидит у огня, Ему столько не нужно, – сказал мистер Уиппл.
– Правильно, – согласилась она, – а когда на дворе работает, может носить твое брезентовое пальто. Нет у меня ничего больше, и все тут.
В феврале Он заболел и лежал, свернувшись калачиком, под своим одеялом; лицо у Него стало совсем синее, и Он задыхался. Два дня мистер и миссис Уиппл хлопотали возле Него, а потом, испугавшись, вызвали врача. Доктор сказал, что надо держать Его в тепле и давать побольше молока и яиц.
– Боюсь, что с виду Он крепче, чем на самом деле. Вообще, за такими нужен присмотр. И укройте Его как следует.
– Да вот взяла постирать Его большое одеяло, – устыдившись, ответила миссис Уиппл. – Не переношу грязи.
– Высохнет, сразу же укройте, – велел врач, – иначе у Него будет воспаление легких.
Мистер и миссис Уиппл сняли одеяло со своей кровати, а койку его придвинули к камину. «Не посмеют говорить, что мы не все для Него сделали, – сказала она, – если сами ради Него будем мерзнуть ночью».
Когда повернуло на весну, Он как будто окреп, но ходил так, словно у Него болели ноги. С сеялкой, однако, управлялся, когда стали сеять хлопок.
– Я с Джимом Фергюсоном договорился корову покрыть, – сказал мистер Уиппл. – Летом буду пасти его быка, а осенью еще дам корму. Это лучше, чем деньгами расплачиваться, когда их нет.
– Джиму-то хоть не сказал этого? – спросила миссис Уиппл. – Нельзя признаваться, что мы так обеднели.
– Господи, при чем тут обеднели? Надо ведь и о будущем иногда подумать. А быка завтра Он может привести. Адна мне здесь нужен.
Сперва миссис Уиппл с легкой душой согласилась отправить Его за быком. Адна нервный, на него положиться нельзя. А скотина любит ровное обхождение. Когда Он ушел, миссис Уиппл задумалась, и скоро ей стало невмоготу. Она ждала Его на дороге. День был жаркий, а ходьбы Ему – чуть не пять километров, но больно уж долго Он не возвращается. Она держала ладонь козырьком и до цветных кругов в глазах вглядывалась в даль. Вся жизнь ее так проходит – вечно в тревоге, и ни минуты покоя, чего ни коснись. Наконец она увидела, как Он, прихрамывая, свернул на их дорожку. Он приближался очень медленно, ведя громадного быка за кольцо в носу и вертя в руке легонькую палочку, не оглядывался ни назад, ни по сторонам, а шел, как лунатик, с полузакрытыми глазами.
Миссис Уиппл до смерти боялась быков; она слышала страшные рассказы о том, как бык смирно шел за человеком, а потом вдруг бросался с ревом и разрывал рогами, копытами человека в клочья. Боже мой, в любую минуту черное чудище может напасть на Него, а Он и убежать-то не догадается!
Только не шевельнуться, не проронить ни звука, не рассердить быка. Бык мотнул головой, боднул воздух – ему досаждала муха. У миссис Уиппл вырвался вопль, она закричала Ему, чтобы Он уходил, ради Бога. А Он, будто не слышал, продолжал махать прутиком, ковылял себе дальше, и бык брел за Ним кротко, как ягненок. Миссис Уиппл перестала кричать и побежала к дому, молясь про себя: «Господи, не допусти Его до беды. Ты знаешь, Господи, люди скажут, что нам нельзя было Его посылать. Ты знаешь, они скажут, что мы о Нем не заботились. Доставь Его домой, доставь невредимым, доставь невредимым, я буду лучше за Ним смотреть! Аминь».
Она увидела из окна, как Он привел быка на двор, как привязал его в хлеву. Сил у нее не осталось; пришел конец ее терпению. Она села и заплакала, раскачиваясь и накрыв голову фартуком.
Год от года Уипплы все беднели и беднели. Как ни старались они, хозяйство, будто само собой, приходило в упадок. «Хватку потеряли, – сказал мистер Уиппл. – Почему не можем жить как люди, не идет к нам в руки удача? Скоро нас белой швалью назовут».
– Как исполнится шестнадцать, уеду отсюда, – сказал Адна. – Устроюсь в бакалею Пауэлла. Вот где деньги-то. Хватит с меня этой фермы.
– Я учительницей буду, – сказала Эмли. – Но сперва надо кончить восьмой класс. Тогда можно в город переехать. Тут мне ничего не светит.
– Эмли в мою родню пошла, – сказала миссис Уиппл. – Все высоко метят, ни за кем вторыми быть не согласятся.
Осенью для Эмли нашлось место подавальщицы в вокзальной столовой соседнего городка; от хорошего жалованья, бесплатного питания грех отказываться, и миссис Уиппл решила отпустить ее в город, а со школой повременить до будущего года. «Времени у тебя много, – сказала она. – Ты молодая, и голова у тебя – дай Бог каждому».
Адна тоже уехал, и мистеру Уипплу приходилось теперь вести хозяйство только с Его помощью. Все у Него вроде бы получалось, и Он даже не замечал, что делает и свою работу, и часть Адниной. До Рождества управлялись неплохо, но однажды утром, выходя из хлева, Он поскользнулся на льду. Он не встал, а бился на земле, и, когда мистер Уиппл подбежал к Нему, оказалось, что у Него какой-то припадок.
Они внесли Его в дом, попробовали усадить, но Он ревел и катался, и тогда Его уложили в постель, а мистер Уиппл верхом поехал в город за врачом. Всю дорогу туда и обратно он ломал голову, где взять на это деньги: кажется, последнее несчастье отняло и последние силы.
А Он после этого не поднимался с кровати. Ноги распухли вдвое против прежней толщины, и припадки стали повторяться. Через четыре месяца врач сказал:
– Бесполезно, кладите Его прямо сейчас в окружной приют на лечение. Я договорюсь. Там за Ним будет уход, и вы себе руки развяжете.
– Ухаживать мы будем за Ним столько, сколько надо, – ответила миссис Уиппл, – и я Его от себя не отпущу. Никто не посмеет сказать, что я сдала больного ребенка чужим людям.
– Я понимаю ваши чувства, – сказал врач. – Не надо мне ничего объяснять. У меня у самого сын. Но все-таки послушайтесь меня. Я больше ничем не могу Ему помочь – правду вам говорю.
В ту ночь, улегшись спать, мистер и миссис Уиппл долго обсуждали это дело.
– Благотворительность, значит, – сказала миссис Уиппл, – вот до чего мы докатились – до богадельни! Да, не ожидала я такого.
– Мы платим налоги на содержание приюта, как все прочие, – ответил мистер Уиппл, – и благотворительность тут ни при чем. И очень хорошо, по-моему, что Он будет там, где Ему обеспечат все самое лучшее… А потом, мне нечем уже врачу платить.
– Может, поэтому врач и требует, чтобы мы Его сдали – боится, что денег своих не получит.
– Брось эти разговоры, – сказал мистер Уиппл с тоской в душе. – А то вообще не сможем Его отправить.
– Нет, мы Его надолго не отдадим, – сказала миссис Уиппл. – Поправится, тут же домой заберем.
– Сказал же тебе врач, сколько раз сказал: никогда Он не поправится – и хватит об этом.
– Врачи не все знают, – возразила миссис Уиппл и сама почти обрадовалась. – Притом Эмли, может, выберется сюда летом на отпуск, и Адна будет приезжать по воскресеньям: вместе возьмемся за работу, встанем на ноги, и дети будут знать, что у них есть дом.
И вдруг она увидела лето в разгаре, распустившийся сад, новые белые занавеси со шнурами на всех окнах, оживленных Адну и Эмли – снова целую, счастливую семью. Ведь может так быть – не все же им маяться.
При Нем они старались говорить поменьше, хотя до сих пор не знали, сколько Он понимает из их разговоров. Наконец врач назначил день, и сосед, у которого был шарабан с двумя скамьями, вызвался отвезти их. Больница могла бы прислать машину, но миссис Уиппл ужасалась при мысли о том, что Его сразу повезут как больного. Его закутали в одеяло, и мистер Уиппл с соседом втащили Его на заднее сиденье к миссис Уиппл, одетой в черную блузку. Не могла она ехать туда как нищая.
– Доберетесь сами, – сказал мистер Уиппл, – а я, пожалуй, останусь. Незачем, наверно, всем-то дом бросать.
– Да и не навсегда ведь Он едет, – объяснила миссис Уиппл соседу. – На время, ненадолго.
Они тронулись; миссис Уиппл держала края одеяла, чтобы Он не заваливался набок. Он сидел и моргал, моргал. Потом выпростал руки и стал тереть нос кулаками, потом – углом одеяла. Миссис Уиппл не верила своим глазам: Он стирал крупные слезы, катившиеся по лицу. Он шмыгал носом и шумно сглатывал. Миссис Уиппл только одно повторяла: «Родной мой, ведь не так тебе плохо, правда? Тебе ведь не так плохо?» Казалось, Он ее за что-то упрекал. Или вспомнил, как она надавала Ему оплеух, или испугался в тот раз быка, или мерз ночами и не умел пожаловаться; а может быть, понял, что отдают Его навсегда – от бедности, оттого что не могут Его содержать. Ей нестерпимо было думать об этом. Она горько заплакала и обняла Его изо всех сил. Его голова качалась у нее на плече; она любила Его, как могла, но были еще Адна и Эмли, и тоже нуждались в ее заботе, и никак не могла она поправить Его жизнь. Зачем только Он родился на свет?
Показалась больница; сосед погонял лошадей, не смея оглянуться назад.
Кражи(Перевод М. Лорие)
Когда она вчера пришла домой, сумочка была у нее в руке. Сейчас, стоя посреди комнаты, придерживая на груди полы купального халата и еще не повесив сушиться мокрое полотенце, она перебрала в уме вчерашний вечер и ясно все вспомнила. Да, она тогда вытерла сумку носовым платком и, раскрыв, положила на скамеечку.
Она еще собиралась ехать домой по надземной железной дороге, заглянула, конечно, в сумку, чтобы проверить, хватит ли у нее на проезд, и с удовольствием обнаружила в кармашке для мелочи сорок центов. И тогда же решила, что сама заплатит за билет, хотя Камило и взял за правило провожать ее до верха лестницы и там, опустив монету, легонько толкать турникет и с поклоном выпускать ее на перрон. С помощью кое-каких компромиссов Камило выработал действенную и вполне законченную систему мелких услуг, в обход более существенных и хлопотливых. Она дошла с ним до станции под проливным дождем, помня, что он почти так же беден, как она сама, и, когда он предложил взять такси, решительно отказалась: «Ни в коем случае, это просто глупо». На нем была новая шляпа красивого песочного оттенка, потому что он никогда бы не додумался купить что-нибудь темное, практичное; он надел ее в первый раз – и вот, попал под дождь. Она все время думала: «Ужас какой, на что же он купит новую?» Мысленно она сравнивала ее со шляпами Эдди – те всегда выглядели так, точно им по меньшей мере семь лет и их нарочно держали под дождем, а между тем Эдди носил их небрежно и естественно, как будто так и надо. Камило – тот совсем другой: если бы он надел старую, поношенную шляпу, она и выглядела бы на нем только старой и поношенной, и это безмерно огорчало бы его.
Если бы она не боялась обидеть Камило, так прилежно выполнявшего свои маленькие церемонии в тех пределах, которые сам себе поставил, она сказала бы, как только они вышли на улицу: «Ради Бога, бегите домой, я отлично дойду до станции и одна».
– Раз нам суждено сегодня стать жертвой дождя, – сказал Камило, – пусть мы подвергнемся этому вместе.
Подходя к лестнице надземки, она слегка покачнулась, – оба они на вечеринке у Торы отдали должное коктейлям, – и сказала:
– Очень прошу вас, Камило, вы хоть не поднимайтесь в таком состоянии по лестнице, ведь вам все равно сейчас же спускаться обратно, и вы обязательно сломаете себе шею.
Он быстро поклонился ей три раза подряд, он был как-никак испанец, и прыжками помчался прочь, в дождливый мрак. Она постояла, глядя ему вслед, потому что он был очень грациозный молодой человек, и представила себе, как завтра утром он будет трезвыми глазами разглядывать свою погибшую шляпу и промокшие ботинки и, возможно, обвинять ее в своем несчастье. Она еще успела увидеть, как он остановился на углу, снял шляпу и спрятал ее под пальто. И почувствовала, что этим предала его, так оскорбительна была бы для него мысль, что она могла хотя бы заподозрить его в попытке спасти свою шляпу.
Голос Роджера прозвучал у нее за спиной, перекрывая стук дождя по железной крыше над лестницей. Он желал знать, что она делает здесь под дождем в такое позднее время, уж не воображает ли она, что превратилась в утку? С его длинного невозмутимого лица ручьями стекала вода, пальто было застегнуто доверху; он похлопал себя по бугру на груди.
– Шляпа, – объяснил он. – Пошли, возьмем такси.
Роджер обнял ее за плечи, она удобно откинулась на его руку, и они обменялись взглядом, говорившим о долгой спокойной дружбе, а потом она стала смотреть сквозь стекло на дождь, как он меняет все очертания и краски тоже. Такси петляло между опорами надземки, на каждом повороте его слегка заносило, и она сказала:
– Чем больше заносит, тем спокойнее, – наверно, я и правда пьяная.
– Наверно, – согласился Роджер. – Этот тип явно решил нас угробить, я бы и сам сейчас не отказался от коктейля.
Они остановились у светофора на перекрестке Сороковой улицы и Шестой авеню, и перед самым носом такси появились трое юнцов. При свете фонарей они были как три веселых огородных пугала – все одинаково тощие, все в одинаковых плохоньких костюмах модного покроя и в ярких галстуках. Они тоже были не слишком-то трезвы и постояли, раскачиваясь, перед машиной, продолжая о чем-то спорить. Они сдвинули головы, точно собираясь запеть, и первый сказал:
– Когда я женюсь, я женюсь не для того, чтобы жениться, а женюсь по любви.
А второй возразил:
– Брось, это ты ей заливай, мы-то при чем?
А третий присвистнул и сказал:
– Видали умника? С чего это его прорвало?
А первый сказал:
– Заткни глотку, дурья башка, значит, есть с чего.
Потом все заорали и побрели через улицу, подгоняя первого тумаками в спину.
– Идиоты, – определил Роджер. – Форменные идиоты.
По лужам, подымая брызги и низко пригнув головы, прошли две девушки в прозрачных дождевиках – одна в зеленом, другая в красном. Одна говорила другой:
– Да, это мне все известно, но как же я-то? Ты всегда только его одного жалеешь… – И они пробежали дальше, перебирая пеликаньими лапками.
Неожиданно такси дало задний ход, потом рванулось вперед, и Роджер сказал:
– Я сегодня получил письмо от Стеллы, она двадцать шестого приезжает домой, это, видимо, означает, что она приняла решение и все утрясется.
– Я тоже получила сегодня письмо, – сказала она. – За меня решение уже приняли. А вам со Стеллой, по-моему, пора на чем-то успокоиться.
Когда такси остановилось на углу Западной Пятьдесят третьей улицы, Роджер сказал:
– У меня как раз хватит ему заплатить, если ты доложишь десять центов. – И она достала из сумки монету, а он сказал: – Удивительно красивая сумочка.
– Это подарок ко дню рожденья, – сказала она. – Мне тоже нравится. Как твоя пьеса?
– Да все так же, наверно. Еще не купили. Я туда больше и не хожу. Буду стоять на своем, а они пусть как хотят. Спорить я больше не намерен, надоело.
– Тут ведь главное – не уступать, верно?
– Не уступать – это и есть самое трудное.
– Спокойной ночи, Роджер.
– Спокойной ночи. Ты прими аспирин и залезь в горячую ванну, а то как бы не простудилась.
– Хорошо.
Держа сумочку под мышкой, она стала подниматься по лестнице, и на втором этаже Билл, услышав ее шаги, высунулся на площадку, растрепанный, с покрасневшими глазами, и сказал:
– Умоляю, зайди ко мне, давай выпьем, у меня ужасные новости. На тебе сухой нитки нет, – сказал Билл, глядя на ее промокшие туфли.
Они выпили по две рюмки, пока Билл рассказывал, что режиссер выкинул его пьесу, когда состав исполнителей уже был утвержден вторично и прошли три репетиции.
– Я ему говорю, я же не говорил, что это шедевр, я говорил, что спектакль может получиться отличный. А он мне: понимаете, пьеса не звучит, ей нужен допинг. В результате я влип, безнадежно влип, – сказал Билл уже опять со слезами в голосе. – Я тут плакал, – сообщил он ей, – пил и плакал. – А потом осведомился, понимает ли она, что жена губит его своей расточительностью. – Я ей каждую Божию неделю посылаю по десять долларов. А я не обязан. Она грозит, что засадит меня в тюрьму, но это ей не удастся. Пусть только попробует. Она-то как со мной обращалась! Она не имеет права на алименты и прекрасно это знает. Твердит, что деньги ей нужны для малыша, вот я и посылаю, потому что сил нет терпеть, когда кто-то страдает. И теперь я просрочил платежи и за рояль, и за радиолу…
– Ковер у тебя, во всяком случае, очень хороший, – сказала она.
Билл вперил взгляд в ковер и высморкался.
– Я купил его у Рикки за девяносто пять долларов, – сказал он. – Рикки говорил мне, что когда-то он принадлежал Мари Дресслер и стоил полторы тысячи, но в нем прожжена дыра, она сейчас под диваном. Правда, здорово?
– Правда, – сказала она. Она думала о своей пустой сумочке и о том, что чек за последнюю рецензию едва ли придет раньше чем через три дня, а в подвальном ресторане на углу ее в любую минуту откажутся дальше кормить, если она не внесет хоть сколько-нибудь в счет долга. – Этот разговор, вероятно, не ко времени, – сказала она, – но я надеялась, что ты сегодня отдашь мне те пятьдесят долларов, которые обещал за мою сцену в третьем действии. Даже если пьеса не звучит. За работу ты все равно должен был заплатить мне из аванса.
– Господи Иисусе, – сказал Билл. – И ты туда же? – Он не то всхлипнул, не то икнул, приложив к губам мокрый носовой платок. – Твой текст, между прочим, не лучше моего. Об этом ты не подумала?
– Но что-то ты все же получил, – сказала она. – Как-никак семьсот долларов.
Билл сказал:
– Очень тебя прошу, выпей еще рюмку и забудь об этом. Я не могу. Понимаешь – не могу. Мог бы, так заплатил бы, но ты же знаешь, в каком я безвыходном положении.
– Ну и не надо. – Слова вырвались у нее как бы сами собой, ведь она была твердо намерена взять с него эти деньги. Они молча выпили еще по рюмке, и она поднялась в свою квартиру этажом выше.
Теперь она отчетливо вспомнила, как, прежде чем положить сумочку сушиться, вынула из нее то письмо.
Она села и перечитала письмо еще раз; некоторые места в нем требовали, чтобы их читали еще и еще, они жили своей жизнью, отдельно от остальных слов, и, когда она пыталась перескакивать их или не замечать, они двигались вместе с движением ее взгляда, и спасенья от них не было. «Думаю о тебе больше, чем хотелось бы… да, даже говорю о тебе… почему тебе так не терпелось разрушить… даже если бы я мог сейчас с тобой увидеться, я бы не… не стоит той невыносимой… конец…»
Она аккуратно разорвала письмо на узкие полоски и подожгла их за каминной решеткой.
На следующее утро, когда она еще мылась в ванной, в квартиру постучала истопница, а потом, войдя, громко сказала, что ей нужно проверить радиаторы, перед тем как запустить отопление на зиму. Несколько минут было слышно, как она ходит по комнате, потом дверь с резким стуком захлопнулась.
Она вышла из ванной, собираясь взять в сумочке сигарету. Сумочка исчезла. Она оделась, сварила кофе и села пить его за столик у окна. Конечно же, сумочку взяла истопница, и, конечно же, получить ее обратно можно будет только ценой идиотских препирательств. Ну и Бот с ней. Но одновременно с этим решением в крови у нее загорелась отчаянная, чуть ли не бешеная ярость. Она аккуратно поставила чашку на самую середину столика и твердыми шагами пошла вниз – три длинных марша, потом короткий коридор и еще крутая короткая лестница в подвал, где истопница, с лицом, перемазанным угольной пылью, шуровала под котлом отопления.
– Верните мне, пожалуйста, мою сумочку. Денег в ней нет. Это подарок, и я ею дорожу.
Истопница повернулась, не разгибая спины, и посмотрела на нее горячими помаргивающими глазами, в которых отражался красный огонь из топки.
– Вы о чем, какая там еще сумочка?
– Парчовая сумка, которую вы взяли с деревянной скамеечки у меня в комнате, – сказала она. – Верните ее мне.
– Богом клянусь, не видала я вашей сумки, провалиться мне на этом месте, – сказала истопница.
– Ну, что ж, оставьте ее себе, – сказала она, но сказала очень язвительно. – Оставьте ее себе, если уж так хочется. – И ушла.
Она вспомнила, что никогда в жизни не запирала ни одной двери – из какого-то внутреннего протеста, оттого, что ей было неприятно владеть вещами, – вспомнила, как в ответ на предостережения друзей даже хвасталась, что у нее ни разу не украли ни цента; и черпала отраду в невеселом смирении, приводя этот наглядный пример, призванный показать и оправдать некую упрямую, ни на чем ином не основанную веру, направлявшую ее поступки независимо от рассудка и воли.








