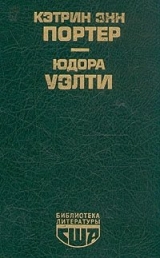
Текст книги "Библиотека литературы США"
Автор книги: Кэтрин Портер
Соавторы: Юдора Уэлти
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 59 страниц)
– Так то десять лет назад. Теперь он почти ничего не делает. Он больше не возглавляет Великолепный театр, его давным-давно сместили!
Я пригляделась к неудачнику. Вид у него был вполне неунывающий. Отбивая ритм рукояткой ложки, он напевал Андрееву песню – тот слушал, склонив к нему голову.
– Вот вам первые два такта, – сказал Карлос по-французски, – а дальше вот так, – напевал он, отбивая ритм. – Ну а это для танца…
Андреев напел мелодию, помахивая правой рукой и указательным пальцем левой пристукивая по столу. Бетанкур минуту-другую смотрел на них.
– Теперь-то, когда я достал ему эту работу, бедолага, конечно, воспрянул, – сказал он. – Как знать, вдруг ему удастся начать все сначала. Но он, бывает, утомляется, горазд выпить, словом, уже не тот, что раньше.
Карлос весь обмяк, голова его ушла в плечи, глаза почти скрылись за набрякшими веками, он недовольно тыкал вилкой в enchiladas[28]28
Перченый пирог (исп.).
[Закрыть] со сметаной.
– Вот увидишь, – сказал он Андрееву по-французски, – Бетанкур нам и это завернет. Выищет какой-нибудь изъян… – сказал не злобно и не затравленно, а с какой-то печальной убежденностью. – Заявит, что не чувствуется современность, нет связи с традициями, отсутствует мексиканский дух… Да что говорить, сам увидишь…
Бетанкур пожертвовал свои юные годы разгадке неподатливых тайн вселенской гармонии, разгадывал он их, применяя астрономию, астрологию, кабалистику чисел, формулу передачи мыслей на расстояние, глубокое дыхание и тренировку воли к победе, все это он подкреплял изучением новейших американских теорий личного самоусовершенствования, кое-какими замысловатыми магическими ритуалами и тщательным подбором доктрин самых разных школ восточной философии, увлечение которыми время от времени охватывает всю Калифорнию. И так вымостил Истинный Путь – на путь этот можно было наставить любого, а уж дальше всякий неофит уверенными стопами невозбранно шел прямо к Успеху; Успех, можно сказать, плыл в руки, давался сам собой без всяких усилий, кроме разве что приятных; Успех этот вмещал в себя высочайшие духовные и эстетические достижения, не говоря о материальном вознаграждении, и немалом. Богатство, разумеется, не было пределом стремлений; само по себе оно вовсе не означало Успеха, но, конечно же, неназойливо сопутствовало всякому подлинному Успеху… Во всеоружии этих теорий Бетанкур лихо понес Карлоса. Карлос никогда не считался с вечными законами. Свои мелодии он сочинял, не давая себе труда вдуматься в глубиннейший смысл музыки, а ведь в основе ее лежит гармония сфер… Не счесть, сколько раз он, Бетанкур, предостерегал Карлоса. И все без толку. Карлос сам навлек на себя погибель.
– И вас я тоже предостерегал, – сказал он озабоченно. – Не счесть, сколько раз я задавался вопросом, почему вы не хотите или не можете причаститься этих тайн подумайте только, какая сокровищница открылась бы вам… Когда обладаешь научной интуицией, тебе нет преград. Руководствуясь одним интеллектом, вы обречены терпеть неудачи.
«Ты обречен терпеть неудачи», – без конца твердил он недалекому бедолаге Карлосу. «Карлос стал законченным неудачником», – сообщал он всем.
Теперь он чуть ли не любовно взирал на дело рук своих, но по Карлосу, пусть он выглядел и опустившимся и поникшим, видно было, что в свое время он славно поработал и не собирается ставить на себе крест. Сидевшая бок о бок со мной аккуратная щуплая фигурка с узенькой спинкой принимала изящные позы, чересчур красивые узенькие ручки мерно мотались на бестелесных запястьях. Я припомнила, скольким Бетанкур был обязан Карлосу в прошлом: отчаянный добряк нерасчетливо взвалил на хрупкие плечи Бетанкура непосильный груз благодарности. Бетанкур запустил в действие весь механизм законов вселенской гармонии, имеющийся в его распоряжении, дабы с их помощью отомстить Карлосу. Работа подвигалась медленно, но он не сдавался.
– Успех, неудача – я, признаться, не понимаю, что вы обозначаете этими словами, и никогда не могла понять, – наконец не стерпела я.
– Конечно, не могли, – сказал он. – И в этом ваша беда.
– Вам бы надо простить Карлоса… – сказала я.
– Вы же знаете, что я никого ни в чем не виню, – совершенно искренне сказал Бетанкур.
Все поднялись из-за стола, через разные двери потекли из комнаты, Карлос подошел ко мне поздороваться. Он говорил о Хустино и его невзгодах с насмешливой жалостью.
– Чего еще ожидать, когда заводят шашни в кругу семьи?
– Не будем об этом сейчас, – оборвал его Бетанкур. И гнусаво, дребезжаще хихикнул.
– Если не сейчас, так когда же? – сказал Карлос, он вышел вместе со мной. – Я сложу corrido[29]29
Народную балладу (исп.).
[Закрыть] о Хустино и его сестренке. – И он чуть не шепотом запел, подражая уличным певцам, сочиняющим баллады на заказ, – точь-в-точь тем же голосом, с теми же жестами:
Ах, бедняжка Розалита
Ветрена и потому
Сердце пылкое разбила
Ты братишке своему.
Ах, бедняжка Розалита,
Вот лежит она, прошита
Сразу пулями двумя…
Так что, юные сестрицы.
Не давайте братцам злиться.
Не сводите их с ума.
– Одной пулей, – Бетанкур погрозил Карлосу длинным тонким пальцем, – одной!
– Хорошо, пусть одной! – засмеялся Карлос. – Какой придира, однако! Спокойной ночи!
Кеннерли и Карлос рано ушли к себе. Дон Хенаро весь вечер играл в бильярд со Степановым и неизменно оказывался в проигрыше. Дон Хенаро отлично играл на бильярде, но Степанов был чемпион, неоднократно брал всевозможные призы, так что потерпеть от него поражение было не постыдно.
В продуваемом сквозняками зале верхнего этажа, переоборудованном в гостиную, Андреев, отключив от фортепиано приставку, пел русские песни, а в перерывах, припоминая, какие еще песни он знает, пробегал руками по клавишам. Мы с доньей Хулией слушали его. Он пел для нас, но в основном для себя, с той же намеренной отключенностью от окружающего, с той же нарочитой отрешенностью, с какой все утро напролет рассказывал нам о России.
Мы засиделись допоздна. Встретившись глазами со мной или с Андреевым, донья Хулия не забывала улыбнуться, частенько прикрыв рот рукой, зевала, китайский мопс посапывал, развалясь на ее коленях.
– Вы не устали? – спросила я ее. – Мы не слишком поздно засиделись?
– Нет-нет, пусть поет. Терпеть не могу ложиться рано. Если можно посидеть попозже, я никогда не иду спать. И вы не уходите!
В половине первого Успенский призвал к себе Андреева, призвал и Степанова. Он не находил себе места, его лихорадило, тянуло разговаривать.
Андреев сказал:
– Я уже послал за доктором Волком. Лучше захватить болезнь в самом начале.
Мы с доньей Хулией заглянули в бильярдную на первом этаже – там дон Хенаро пытался уравнять счет со Степановым. В окнах торчали головы индейцев; перегнувшись через подоконники, они молча наблюдали за игрой, их громадные соломенные шляпы сползали им на нос.
– Значит, ты сегодня не едешь в Мехико? – спросила мужа донья Хулия.
– С какой стати мне туда ехать? – не поднимая на нее глаз, ни с того ни с сего ответил он вопросом на вопрос.
– Да так, мне подумалось – вдруг ты поедешь, – сказала донья Хулия. – Спокойной ночи, Степанов, – сказала она, черные глаза ее мерцали из-под удлиненных серебристо-голубыми тенями век.
– Спокойной ночи, Хулита, – сказал Степанов, его открытая улыбка северянина могла означать что угодно и не означать решительно ничего. Когда Степанов не улыбался, его выразительное, энергичное лицо суровело. Улыбался он с обманчивой наивностью, как мальчишка. Но кем-кем, а наивным он никак не был; и сейчас он веселился над нелепой фигуркой, будто забредшей сюда из кукольного театра, необидно, как веселятся только в добрых книжках. Уходя, донья Хулия искоса метнула на него сверкающий взор, заимствованный из арсенала голливудских femmes fatales. Степанов не отрывал глаз от своего кия, словно изучал его в микроскоп. Дон Хенаро, в злобе бросив: «Спокойной ночи», выскочил вон из комнаты на скотный двор.
Мы с доньей Хулией прошли через ее спальню, вытянутую, узкую комнату, между бильярдной и бродильней. Здесь пенились шелк и пух, сверкали нестерпимым блеском свежеполированное дерево и огромные зеркала, рябило в глазах от всяческих безделушек – коробок конфет, французских кукол в кринолинах и пудреных париках. В нос шибал запах духов, его перебивал другой запах, еще тяжелее первого. Из бродильни непрестанно доносились глухие крики, грохот бочек, скатывающихся с деревянных помостов на запряженную мулом тележку, установленную на бегущих вдоль дверного проема рельсах. Этот запах преследовал меня с самого приезда, но здесь он плотным туманом поднимался над басовитым жужжанием мух – кислый и затхлый, как от заплесневевшего молока или протухшего мяса; шум и запах сплелись в моем сознании воедино, и оба переплелись с прерывистым грохотом бочек и протяжными, певучими криками индейцев. Поднявшись по узкой лесенке, я оглянулась на донью Хулию. Сморщив носик, она смотрела мне вслед, прижав к лицу китайского мопса, его нос, как всегда, брюзгливо морщился.
– Какая гадость это пульке! – сказала она. – Надеюсь, шум не помешает вам спать.
На моем балконе гулял резкий свежий ветер с гор, здесь к нему не примешивались ни парфюмерные ароматы, ни бродильный дух.
– Двадцать одна! – тягуче, мелодично выводил хор индейцев усталыми взбудораженными голосами, и двадцать первая бочка свежего пульке летела по каткам вниз, где двое индейцев подхватывали ее и загружали на тележку прямо под моим окном.
Из окон по соседству слышалось негромкое бормотание троих русских. Свиньи, похрюкивая, копошились в вязкой грязи около источника; хотя уже сгустились сумерки, там вовсю шла стирка. Женщины, стоя на коленях, хлестали мокрым бельем по камням, болтая и пересмеиваясь. Похоже, этой ночью все женщины смеялись: далеко за полночь от хижин пеонов, тянувшихся вдоль скотного двора, доносились переливы громкого, заразительного смеха. Ослики взревывали, плакались друг другу; повсюду царила неспокойная дрема, животные били копытами, сопели, хрипели. Внизу, в бродильне, чей-то голос вдруг пропел отрывок непотребной песни, прачки было замолкли, но тут же между ними вновь пошли пересмешки. У арки ворот, ведущих во внутренний двор перед гасиендой, поднялась суматоха: один из породистых, вышколенных псов (куда только подевалась его важность), не на шутку взъярясь, гнал задастого солдатика – чтобы не шатался, где не положено, – назад к казармам, размещенным у крепостной стены, напротив индейских хижин. Солдатик послушно улепетывал, ковыляя и спотыкаясь, но не издавая ни звука; его тусклый фонарь мотало из стороны в сторону. Посреди двора, словно тут пролегала невидимая граница, пес застыл, проводил солдата взглядом и вернулся на свой пост под аркой. Солдаты, присланные правительством охранять гасиенду от партизанских отрядов, били баклуши, наталкивая животы бобами за счет дона Хенаро. Он, как и собаки, терпел их скрепя сердце.
Меня усыпили протяжные, певучие голоса индейцев, ведущих подсчет бочкам в бродильне, а на рассвете, летнем рассвете, разбудила их заунывная утренняя песня, лязг железа, скрип кожи, топот мулов, которых впрягали в телеги… Кучера щелкали кнутами, покрикивали, и груженые телеги, грохоча, уезжали одна за другой навстречу поезду, который отвозил пульке в Мехико. Работники отправлялись в поле, гнали перед собой осликов. Они тоже покрикивали и поколачивали осликов палками, но не спеша, не суетясь. Да и зачем спешить: впереди их ждала работа, усталость, словом, день как день. Трехлетний мальчонка, семеня рядом с отцом, погонял ослика-отъемыша, на мохнатой спинке которого громоздились два бочонка. Два маленьких существа, каждое на свой манер, подражали старшим. Мальчонка покрикивал на ослика и поколачивал его, ослик плелся ползком и при каждом ударе прядал ушами.
– Господи ты Боже мой, – часом позже сказал за кофе Кеннерли, отогнал тучу мух и нетвердой рукой налил себе кофе. – Разве вы не помните… Я всю ночь глаз не мог сомкнуть, у меня никак не выходило из головы, да вспомните же, – упрашивал он Степанова – тот, прикрыв рукой кофе от мух, докуривал сигарету, – эпизод, что мы снимали две недели назад, там еще Хустино играл парня, который нечаянно застрелил девушку, пытался бежать, за ним послали погоню, и Висенте в ней участвовал. Точь-в-точь то же самое повторилось с теми же людьми на самом деле. И представьте, какая нелепость, – обратился он ко мне, – нам придется переснимать этот эпизод: он неважно получился, а тут он повторился на самом деле, и никто даже не позаботился его снять! О чем они только думают! Представьте, как было бы здорово – девушка крупным планом, мертвая по-настоящему, и по лицу Хустино, когда Висенте двинул его прикладом, течет самая настоящая кровь, и хоть бы кто, Господи ты Боже мой!.. хоть бы кто позаботился это снять! Как с приезда сюда у нас не заладилось, так и пошло-поехало – то одно, то другое… А теперь объясните мне, что вам помешало?
Он впился в Степанова злобным взглядом. Степанов отнял руку от чашки, разогнал мух, тучей вившихся над ней, и выпил кофе.
– Свет, наверно, был плохой, – сказал он. Широко раскрыл глаза, кинул взгляд на Кеннерли, и тут же их закрыл, так, будто запечатлел его на пленке, а запечатлев, счел, что сюжет исчерпан.
– Дело ваше, конечно, – обиделся Кеннерли, – а только история эта повторилась, повторилась не по нашей вине, так почему бы вам ее не снять – зачем ей пропадать впустую?
– Снять мы всегда успеем, – сказал Степанов, – вот вернется Хустино, будет подходящий свет, тогда и снимем. Свет, – обратился он ко мне, – наш злейший враг. Здесь хороший свет бывает раз в пять дней, а то и реже.
– А вы представьте, нет, представьте-ка, – накинулся на него Кеннерли, – бедный парень вернется, и ему снова-здорово придется проделывать все, что он уже дважды проделал, первый раз на съемочной площадке, второй – на самом деле. – Он со смаком повторил последнее слово. – Подумайте, каково-то ему будет. Тут и рехнуться недолго.
– Вот вернется, тогда и будем решать, – сказал Степанов.
Во дворе пяток мальчишек-индейцев в рваных белых балахонах, сквозь прорехи которых проглядывали их глянцево-смуглые тела, седлали лошадей, набрасывали на их спины роскошные замшевые седла, расшитые серебром и перламутром. К источнику снова тянулись женщины. Свиньи копошились в дорогих их сердцу лужах, в бродильне дневная смена в полном молчании заливала обтянутые сыромятной кожей чаны свежим соком. Карлос Монтанья тоже вышел спозаранку подышать свежим утренним воздухом и сейчас вовсю потешался, глядя, как трое псов, подняв из лужи долговязую свинью, гонят ее к сараю. Свинья враскачку, наподобие игрушечной лошадки, неслась к загону, зная, что там ее не достать, собаки делали вид, что вот-вот тяпнут ее за ногу, чтобы не сбавляла темп. Карлос, держась за бока, покатывался от хохота, мальчишки вторили ему.
Испанец-надсмотрщик – в картине он играл роль злодея (их там было немало) – вышел в тугих новых бриджах из такой же, как седла, расшитой серебром замши, сел, ссутулясь, на скамье неподалеку от выходящей на главный скотный двор арки. И просидел так весь день напролет – он сидел здесь не один год, и одному Богу известно, сколько еще просидит. На его вытянутом ехидном лице типичного испанца с севера была написана убийственная скука. Низко натянув козырек английской кепки на близко посаженные глаза, он сидел, ссутулясь, и так ни разу и не полюбопытствовал, что развеселило Карлоса. Мы с Андреевым помахали Карлосу, и он поспешил к нам. Его все еще разбирал смех. Теперь он смеялся не над свиньей, а над надсмотрщиком – у того было сорок пар фасонистых брюк, какие носит charros[30]30
Помещичья полиция (исп.).
[Закрыть], но, по его мнению, для съемок ни одни из них не годились, и он за большие деньги заказал портному новые брюки, но тот сшил такие тугие, что он еле-еле в них влез, – те самые, в которые вырядился сегодня. Он рассчитывал, что, если носить их каждый день, они растянутся. Горю его не было предела – похоже, он одними брюками и жил.
– Он не знает, что с собой делать, кроме как нацеплять каждый день новые брюки пофасонистей и просиживать с утра до вечера на скамейке в надежде – вдруг что-нибудь, хоть что-нибудь произойдет.
– Мне-то казалось, – сказала я, – что за последние недели и так слишком много всего произошло… Ну, если не за последние недели, так уж за последние дни, во всяком случае.
– Ну нет, – сказал Карлос, – этого им надолго не хватит. Им подавай настоящую заваруху, вроде последнего налета партизан. Тогда на башни втащили пулеметы, мужчинам выдали по винтовке и пистолету – погуляли всласть. Налет отбили, а пули, что остались, выпустили в воздух – знай наших! Так и то назавтра они уже заскучали. Всё надеялись, что налет повторится. Никак нельзя было им втолковать: хорошего, мол, понемножку.
– Они что, и впрямь так не любят партизан? – спросила я.
– Да нет, просто они не любят скучать, – сказал Карлос.
Осторожно ступая, мы прошли через бродильню – на глинобитном полу здесь стояли лужи сока; с праздным любопытством, молча, будто проглотили язык, смотрели, как тонут в вонючей жидкости, переливающейся через края провисших мохнатых шкур, натянутых на деревянные рамы, мухи. María Santísima[31]31
Святая Мария (исп.).
[Закрыть] чинно стояла в крашенной синей масляной краской нише, увитой засиженными мухами гирляндами бумажных цветов; негасимая лампада теплилась у ее ног. Стены покрывала выцветшая фресковая роспись, она рассказывала, откуда взялось пульке; легенда гласит, что юная индеанка нашла божественный напиток и принесла его правителю, за что правитель наградил ее по-царски, а боги после смерти приблизили к себе. Древняя легенда, возможно древнейшая, явно связанная и с поклонением плодородию, женскому и земному, и с ужасом перед ним же.
Бетанкур, остановившись на пороге, храбро втянул носом воздух. Взглядом знатока окинул стены.
– Отличный образчик, – сказал он, с улыбкой оглядывая фреску, – просто замечательный… Чем они старее, тем они, естественно, лучше. Достоверно известно, – сказал он, – что испанцы нашли в пулькериях, построенных еще до завоевания, настенные росписи… И всегда на них изображается один сюжет: история пульке. Так с тех пор оно и продолжается. Ничего никогда не кончается, – сказал он, помахивая красивой узкой рукой, – все продолжается, а продолжаясь, мало-помалу теряет свой прежний облик.
– По-моему, это тоже своего рода конец, – сказал Карлос.
– Разве что по-твоему, – с высоты своего величия Бетанкур снисходительно улыбнулся старому другу, который тоже постепенно терял свой прежний облик.
В одиннадцатом часу появился дон Хенаро, он ехал в деревню, хотел еще раз повидать судью. Свет нас сегодня не баловал: солнце то ярко светило, то пряталось за облаками, и донья Хулия, Андреев, Степанов, Карлос и я отправились гулять по крышам гасиенды, откуда открывался вид на гору и необозримые пространства пестрых, как лоскутное одеяло, полей. Степанов – у него был с собой портативный фотоаппарат – снял нас здесь вместе с собаками. Где только он нас не снимал: и на ступеньках лестницы с осленком, и с индейскими ребятишками, и у источника, и на самой дальней, длинным уступом огибающей гору площадке старого сада, той самой, куда удалился дед дона Хенаро, и перед закрытой часовней (Карлос изображал там набожного толстяка священника), и в патио в самом конце той площадки, где сохранились развалины каменной купальни, оставшиеся еще от старых монастырских построек, и в пулькерии.
Всем нам порядком надоело сниматься, и мы перегнулись через парапет и стали смотреть, как дон Хенаро собирается в путь… Он вмиг скатился с лестницы – индейские мальчишки, пропуская его, посыпались в разные стороны, – вскочил на арабскую кобылу, слуга, державший ее под уздцы, тут же их отпустил, сел на коня, и дон Хенаро вихрем понесся со скотного двора, а за ним, метрах в пяти, тяжело скакал его слуга. Псы, свиньи, ослы, женщины, младенцы, ребятишки, цыплята – все бросились перед ним врассыпную; солдатики распахнули тяжелые ворота, и хозяин и слуга на бешеной скорости вылетели со двора и скрылись в ложбине – тут дорога резко шла вниз.
– Без денег судья не отпустит Хустино, я это знаю, и все это знают. И Хенаро это знает не хуже меня. Но он все равно не отступается, – журчала донья Хулия, в ее ровном голоске слышалось безразличие.
– Все-таки небольшая вероятность есть, – сказал Карлос. – Если Веларде даст распоряжение, вы сами убедитесь, Хустино вылетит из тюрьмы вот так! – и, щелкнув пальцами, выстрелил воображаемой горошиной.
– Правда ваша, но какой куш придется отвалить Веларде! – сказала донья Хулия. – Ужасная досада, съемки так хорошо пошли, и нá тебе… – Она скосила глаза на Степанова.
– Момент, еще момент, не двигайтесь! – попросил он, навел аппарат, нажал кнопку и тут же отвернулся и наставил объектив на какого-то человека в нижнем патио. Висенте – сверху его грязная белесо-серая фигура на фоне грязной изжелта-серой стены казалась приплюснутой к земле, – нахлобучив на глаза шляпу и скрестив руки на груди, стоял, не двигаясь с места. Простоял так довольно долго, уставившись перед собой в одну точку, потом решительно направился к воротам, но, не дойдя до них, остановился и снова уставился в одну точку, арка ворот, как рама, окаймляла его фигуру. Степанов сфотографировал его еще раз.
– Не понимаю, почему он помешал Хустино убежать, пусть бы тот хотя бы попытался… как-никак они дружили… Чего я не понимаю, так это почему он погнался за ним? – спросила я Андреева – он шел поодаль от всех.
– В отместку, – сказал Андреев. – Посудите сами, друг так коварно предал тебя, да еще с женщиной, да еще с сестрой – легко ли! Не мудрено, что Висенте остервенился. Наверно, не помнил себя… Теперь, я думаю, он и сам раскаивается.
Через два часа дон Хенаро со слугой вернулись; они ехали шагом, но перед самой гасиендой подхлестнули лошадей и промчались на скотный двор таким же бешеным галопом, как и умчались отсюда. Прислуга, пробудившись от спячки, засуетилась, забегала взад-вперед, вверх-вниз по лестницам; живность, как и прежде, пустилась от них наутек. Трое индейских мальчишек кинулись ловить кобылу за уздцы, но Висенте опередил всех. Кобыла мотала головой, норовя вырваться, и Висенте плясал и скакал вместе с ней, не сводя глаз с дона Хенаро, но тот легко, как акробат, спрыгнул на землю и ушел в дом – лицо его было совершенно непроницаемо.
Ничего не изменилось. Судья, как и прежде, требовал две тысячи песо, иначе он не соглашался выпустить Хустино. Наверняка именно такого ответа и ждал Висенте. Весь день он просидел у стены, безвольно уронив голову на колени и нахлобучив шляпу на глаза. Полчаса не пройдет, как дурные вести дойдут до последнего работника на самом дальнем поле. За столом дон Хенаро не проронил ни слова – он ел и пил в такой спешке, будто боялся упустить последний поезд и сорвать путешествие, от которого зависит вся его жизнь.
– Этого я не потерплю, – вырвалось у него, и он стукнул кулаком по столу, едва не разбив тарелку. – Знаете, что этот дурак судья мне сказал? Спросил, чего ради я так хлопочу из-за какого-то пеона. Не учите меня, о чем мне хлопотать, сказал я ему. А он мне: «Я слыхал, у вас снимают картину, где люди убивают друг друга». Так вот, мол, у него в тюрьме полным-полно людей, которых давно пора расстрелять, и он только рад, если мы перестреляем их на съемках. Он, мол, никак не возьмет в толк, зачем убивать людей понарошку, когда сколько нам нужно, столько он нам и пришлет, – убивай не хочу по-настоящему. И Хустино, он считает, тоже надо расстрелять. Пусть только попробует! Но и двух тысяч песо ему от меня не дождаться!
На закате, гоня перед собой ослов, возвратились работники с полей. В бродильне индейцы наполняли готовым пульке бочки, заливали в вонючие чаны свежий сок. И снова певучие, протяжные голоса считали бочки, и снова бочки с грохотом летели вниз по каткам – наступала ночь. Белое пульке лилось рекой – по всей Мексике индейцы будут глотать это мертвенно-бледное пойло, будут пить из реки, чьи воды несут забвение и покой, деньги серебристо-белым потоком потекут в правительственную казну, дон Хенаро и другие владельцы гасиенд будут бушевать и чертыхаться, партизаны будут совершать налеты, а властолюбивые политики в столице будут воровать что ни попадет под руку, чтобы купить себе такие же гасиенды. Все было предопределено.
Мы провели вечер в бильярдной. Приехал доктор Волк, просидел целый час у постели Успенского – у него воспалилось горло, мог начаться тонзиллит. Доктор Волк обещал его вылечить. А пока он играл на бильярде со Степановым и с доном Хенаро. Доктор он был замечательный, самозабвенный, безотказный; сам русский, он откровенно радовался тому, что может опять побыть с русскими, что ему достался не слишком тяжелый пациент и что он может еще и поиграть в бильярд, а он это очень любил. Когда подошла его очередь, он с широкой улыбкой навис над столом, чуть не лег на зеленое сукно, закрыл один глаз, повертел кий, прицелился и снова повертел кий. И, так и не ударив, распрямился, улыбаясь, зашел с другого боку, прицелился, чуть не распластавшись на зеленом сукне, стукнул по шару, промахнулся – и все это не переставая улыбаться. Потом бил Степанов.
– Уму непостижимо, – сказал доктор Волк, в восторге тряся головой. Он так сосредоточенно следил за Степановым, что у него даже слезы выступили на глазах. Андреев, сидя на низком табурете, бренчал на гитаре и тихо напевал одну русскую песню за другой. Донья Хулия свернулась рядом с ним клубочком на диване в своей черной пижаме, китайский мопс обвил ее шею, как шарф. Ожиревшая собака сопела, стенала и вращала глазами, млея от наслаждения. Огромные псы, недоуменно наморщив лбы, обнюхивали ее. Мопс подвывал, скулил и норовил их цапнуть.
– Они думают, он игрушечный, – радовалась донья Хулия.
Карлос и Бетанкур устроились за небольшим столиком, разложили перед собой ноты и эскизы костюмов. Они разговаривали так, словно далеко не в первый раз обсуждают давно наскучившую обоим тему.
Я разучивала новую карточную игру со смуглым худым юнцом, каким-то помощником Бетанкура. Лощеный, с невероятно тонкой талией, он, по его словам, занимался фресковой живописью, только «на современный лад, как Ривера[32]32
Ривера, Диего (1886–1957) – мексиканский художник. Один из создателей национальной школы монументальной живописи.
[Закрыть], но не в таком допотопном стиле, как тот. Я сейчас расписываю дом в Гернаваке, приезжайте посмотреть. Вы поймете, что я имею в виду. Зря вы пошли с этой карты, – добавил он, – теперь я пойду вот так, и вы окажетесь в проигрыше. – Он собрал карты и перетасовал. – Раньше режиссер маялся с Хустино, – сказал он, – серьезные сцены играют, а Хустино все смешки, в сцене смерти он улыбался во весь рот, уйму пленки из-за него извели. Все говорят: вот вернется он, тогда ему уж не придется напоминать: “Не смейся, Хустино, смерть дело нешуточное”».
Донья Хулия стянула мопса на колени, перевернула на спину, принялась тормошить.
– Как только Хустино выпустят, он и думать позабудет и о сестре, и обо всем прочем, – лопотала она, глядя на меня ласковыми пустыми глазами. – Это скоты. Они ничего не чувствуют. И потом, – добавила она, – как знать, вдруг он и вовсе не вернется.
Этим людям – их свел лишь случай, разговаривать друг с другом им было не о чем – пришлось коротать время вместе, и они погрузились в глубокое молчание, чуть ли не в транс. Они попали в переплет, обычно они забывались за каким-то делом, а сейчас делать было нечего. Тревога достигла крайнего напряжения, когда чуть ли не на цыпочках, будто в церковь, вошел Кеннерли. Все обратились к нему так, словно в его лице им явилось спасение. Он трубно возвестил:
– Мне придется сегодня же вечером отправиться в Мехико. Куча неприятностей. Из-за картины. Надо съездить и выяснить все на месте с цензорами. Я только что туда звонил, и мне сказали, что поговаривают, будто они хотят вырезать целую часть… ту самую, где нищие на празднике.
Дон Хенаро отложил кий.
– Я уезжаю сегодня вечером, присоединяйтесь ко мне! – сказал он.
– Сегодня? – Донья Хулия обратила лицо к мужу, глаза опустила долу. – А зачем?
– За Лолитой! – в сердцах бросил он. – Надо привезти ее. Три-четыре сцены придется переснять.
– Как я рада! – воскликнула донья Хулия и зарылась лицом в пушистую шерсть мопсика. – Ой, как рада! Лолита приедет! Поезжай за ней поскорей! Сил нет ждать.
– На вашем месте, – не оборачиваясь, бросил Кеннерли Степанов, даже не пытаясь скрыть своего раздражения, – я бы не беспокоился из-за цензоров – пусть их делают что хотят.
У Кеннерли даже челюсть отвалилась, дрожащим голосом он сказал:
– Вот так так! Кому и беспокоиться, как не мне. Что же у нас получится, если никто ни о чем не будет заботиться?
Десятью минутами позже мощный автомобиль дона Хенаро, с ревом промчавшись мимо бильярдной, понесся по темной безлюдной дороге к столице.
Поутру началось бегство в город, уезжали по одному – кто на поезде, кто на автомобиле.
– Оставайтесь, – говорили мне все по очереди, – мы завтра вернемся. Успенский поправится, съемки возобновятся.
Донья Хулия нежилась в постели. Днем я зашла к ней проститься. Сонная и томная, она свернулась клубочком, мопс прикорнул у нее на плече.
– Завтра вернется Лолита, значит, скучище конец, – сказала она. – Будут заново снимать самые хорошие сцены.
Но остаться в этом мертвящем воздухе хотя бы до завтра было свыше моих сил.
– Дней через десять наших мест не узнать, – сказал индеец, отвозивший меня на станцию, – вот бы вам когда приехать. Сейчас тут невесело. А тогда поспеет молодая кукуруза – то-то наедимся вдосталь!








