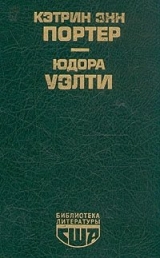
Текст книги "Библиотека литературы США"
Автор книги: Кэтрин Портер
Соавторы: Юдора Уэлти
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 59 страниц)
Сейчас она чувствовала, что у нее украли целую груду сокровищ, и материальных и неосязаемых: вещи, которые она сама потеряла или разбила; вещи, забытые или нарочно брошенные при переездах; книги, которые у нее взяли почитать и не вернули; путешествия, которые были задуманы и не состоялись; слова, которых она ждала и так и не услышала, и те слова, что она хотела сказать в ответ; горькие компромиссы и невыносимые замены, которые хуже чем ничего, однако же неизбежны; долгая терпеливая мука, когда отмирает дружба, и темное, необъяснимое умирание любви – все, что она имела и чего ей не досталось, – все это она сейчас теряла разом, и теряла вдвойне в этих воспоминаниях о неисчислимых потерях.
Истопница шла следом за ней по лестнице с сумкой в руке, не сводя с нее глаз, в которых по-прежнему перебегали красные огни. Когда их еще разделяло ступенек пять, женщина выбросила вперед руку, державшую сумку, и сказала:
– Вы только на меня не жалуйтесь, сама не знаю, что на меня нашло. На меня иногда такое находит, даю честное слово. Спросите хоть моего сына, он скажет.
Поколебавшись, она взяла сумку, а истопница продолжала:
– У меня племянница есть, ей семнадцатый год, хорошая девушка, вот я и подумала – подарю ей сумочку. Ей красивая сумочка нужна. Не знаю, что на меня нашло, я подумала, может, вам не жалко, вы всегда все раскидываете, как будто и не замечаете ничего.
Она сказала:
– Сумочки я хватилась, потому что это подарок от одного человека.
Истопница сказала:
– Он бы вам другую подарил, если б вы эту потеряли. Племянница моя молоденькая, ей красивые вещи нужны, молодым надо помогать. У нее и кавалеры есть, может, какой захочет на ней жениться. Ей красивые вещи очень даже нужны. Вы-то взрослая женщина, вы свое отгуляли, сами должны понимать, как оно бывает.
Она протянула сумку истопнице со словами:
– Вы сами не знаете, что говорите. Вот, пожалуйста, я передумала. Сумка мне не нужна.
Истопница подняла на нее ненавидящий взгляд.
– Мне она теперь тоже не нужна. Племянница моя молоденькая, хорошенькая, ей разные побрякушки ни к чему, она в любом наряде будет молоденькая да хорошенькая. Вам вещи небось нужнее, чем ей.
– Вещь-то все-таки моя, – сказала она, отворачиваясь. – Вас послушать, так выходит, точно я у вас ее украла.
– Вы не у меня, вы у моей племянницы ее украли, – сказала истопница и ушла вниз по лестнице.
Она положила сумку на стол, пила остывший кофе и думала: ну и правильно, что я никогда не боялась никаких воров, кроме себя самой, а уж этот-то вор оберет меня дочиста.
То дерево(Перевод М. Зинде)
Ему хотелось бездельничать, валяться под деревом в стране с теплым климатом и сочинять стихи. Он сочинил целую кучу стихов, понимая, что они никуда не годятся, уже в те минуты, когда их сочинял. Не годятся – и не надо, удовольствию это не мешало. Ему и правда подошла бы такая жизнь: никаких условностей, никакой ответственности, никаких денег – валяйся себе под деревом в стоптанных сандалиях, в заношенной синей рубахе и сочиняй стихи. Потому-то он и выбрал Мексику. Душой чувствовал, что страна создана для него. Много позже, уже став известным журналистом, авторитетом в области латиноамериканских переворотов, он признавался друзьям и знакомым, которые соглашались слушать, что день, когда Мириам выгнала его из дома, был самым счастливым в его жизни, – и, кстати, делал эти признания не без радости, поскольку мог вволю порассуждать о беспечной, вольной, романтической жизни поэта. На самом деле внезапно, с холодным бешенством собрав вещи, отталкивая его локтями всякий раз, как он пытался ее обнять, цедя сквозь стиснутые зубы колкие слова, ранившие самолюбие, Мириам ушла от него сама. Тем не менее ему всегда казалось, будто прогнали именно его. Она его прогнала, и поделом ему.
Встряска привела его в чувство, словно пробудила от долгого сна. Опустив лицо в ладони, он почти всю ночь оцепенело просидел в непривычной тишине пустой комнаты, среди соломенных циновок и раскрашенных индейских стульев, которые Мириам ненавидела. Ему и в голову не пришло лечь. Было почти светло, когда с затекшим от долгого сидения телом он поднялся наконец на ноги и вдруг понял, что пришел к решению, хотя, признаться, всю ночь ни о чем не думал. Фактически с этого дня и началась его карьера журналиста. Он не смог бы ответить, что толкнуло его на этот путь, ну разве что слово «журналист» произвело бы впечатление на жену, да и ему самому работа представлялась и достаточно интеллектуальной – поднимала его в собственных глазах, – и вполне достойной для человека, каким он неожиданно стал, а именно для делового человека. Конечно, ничто не происходит внезапно, замечал он таким тоном, словно это открытие только что осенило его, – решение, по всей видимости, зрело уже давно, потихоньку и незаметно вкрадываясь в душу. Уходя, жена бросила: «Лентяй!» «Никчемный человек», – сказала она, как выяснилось, в последний раз, и он сообразил, что она произносила эти обвинения часто, только он пропускал их мимо ушей – глубоко они его не задевали. Он тут же перевел относительно безобидные слова на нормальный язык: «лоботряс» и «паразит». Ведь Мириам, по профессии школьная учительница, как бы ни огорчалась, как ни досадовала, контроля над собой не теряла. Чопорность стала ее второй натурой, кроме того, ее достаточно воспитали… нет, она вовсе не была жеманной занудой, нет, она просто была хорошо воспитанной девицей со Среднего Запада, относившейся к жизни очень серьезно. Тут уж ничего не поделаешь. Милая, веселая, с кучей забавных странностей, которые она глубоко прятала, не давала им выхода, особенно в нужные моменты. Ей не было дано видеть комическую сторону напряженных ситуаций, а ведь серьезностью можно разрушить что угодно. Другими словами, ее чувство юмора никогда не выручало их в беде, хотя и расцвечивало жизнь, когда все и так было безоблачно.
Интересно, кто-нибудь понимает – да что там, само собой, каждый понимает, и незачем изобретать велосипед! – как невозможно объяснить другому, как трудно заставить другого увидеть особую прелесть в том, кого любишь. Мириам, бывало, так и лучилась этой особой прелестью. Стоило ему в определенном настроении глянуть на нее, и у него перехватывало в горле. Такое могло произойти в любое время дня, при самых прозаических обстоятельствах. Нет, жить с человеком бок о бок круглый год даже интересно. В нем, в человеке, раскрывается не только самое худшее, но и самое лучшее, а в Мириам это лучшее было чертовски привлекательным. Это не объяснишь. Говорить же о ее недостатках легко. Он их помнит все вместе и каждый в отдельности, мог бы предъявить, словно стопку неоплаченных векселей. Они прожили вместе четыре года, и даже сейчас он иногда просыпается ночью в холодной ярости и спрашивает себя: как его вообще угораздило обратить на нее внимание? Мириам ведь совсем не в его вкусе. У него слабость ко всему яркому, бросающемуся в глаза, а она днем ходила в блузке с круглым воротничком под строгим костюмчиком и в надвинутой на глаза фетровой шляпке, похожей на согнутую лопату. К ужину облачалась в черное вечернее платье, практически утопала в нем. Правда, прически делала изящные и, как никто, умела подбирать ночные рубашки. Ума у нее было – кот наплакал, и совсем не тот темперамент, что у мексиканок, к которым он привык. Кстати, этого слова она не выносила. Считала темперамент профессиональной болезнью художников, даже просто уловкой, болтовней, чтобы казаться интереснее. В общем, и к темпераменту, и к художникам она относилась с подозрением. В ней всякое уживалось. Сам-то он мог оценить ее, но стоило кому-то другому малость покритиковать Мириам, как он выходил из себя. Например, его вторая жена взяла себе моду проезжаться по ее адресу. В конце концов, признавался он, это и привело к разводу. Не мог он слышать, как Мириам называли серостью, уж кто бы говорил…
И он и его слушатель нервно вздрогнули, когда на улице грохнул автомобильный выхлоп.
– Еще одна революция, – сказал за соседним столиком толстый, багровый парень в тесном, лиловатого оттенка костюме. Выглядел он как вареная сарделька, которая вот-вот лопнет. Шутка была старая, времен Войны за независимость, но парень делал вид, будто только что ее сочинил. Журналист оглянулся на него через плечо.
– Нá тебе, еще один остряк-газетчик объявился, – сказал он злым, нарочито громким голосом. – День-деньской сидят в вестибюле отеля «Реджис» да воюют с плевательницами.
Остряк прямо на глазах раздулся еще больше и еще гуще побагровел.
– О ком это ты говоришь, пустоглазый недоносок? – резко спросил он, наваливаясь грудью на стол.
– Роскошный мужчина! – продолжал журналист уже нормальным тоном. – И, верно, на хорошем счету у правительства.
– Нарываешься на драку? – спросил газетчик, пытаясь подняться, но застрял между столом и стулом, который стоял вплотную к стене.
– Хоть сейчас, – сказал журналист. – Если не струсишь.
Друзья газетчика не давали ему встать и успокаивали:
– Не связывайся с этим куском дохлятины, – сказал один из них, стараясь придать своим набрякшим кроличьим глазам трезвое и осмысленное выражение. – Господи! Этот слизняк тебе до пупка, Джо! Ты что, не видишь? Ты же не будешь о такого марать руки, а?
– По стенке размажу, – сказал газетчик, не больно-то вырываясь.
– Señores’n, señores’n[24]24
Сеньоры (исп.).
[Закрыть], – урезонивал компанию маленький мексиканец-официант. – Кругом приличные дамы и господа. Пожалуйста, потише. Пожалуйста, ведите себя пристойно.
– Да кто ты такой? – спросил газетчик журналиста из-за сплетения рук и щуплой спины официанта.
– Да никто он, Джо, никто, – сказал его друг. – Угомонись, пока эти мексикашки не развели вонь. Ты же знаешь, они могут полезть в бутылку, когда меньше всего ждешь. Угомонись, Джо. Ты что, не помнишь, что произошло в последний раз? Да плевать тебе на него.
– Señores’n, – маленький официант по очереди всплескивал тонкими, цвета красного дерева руками, словно они были на шарнирах, – необходимо прекратить скандал, или Señores’n придется уйти.
Скандал прекратился. Он, казалось, выдохся сам. Четыре газетчика за соседним столиком снова уселись, склонили друг к другу головы и что-то забормотали над высокими стаканами. Журналист тоже отвернулся, заказал еще два виски и тихим голосом продолжал рассказ.
Ему давно не нравится это кафе. Что-то обязательно случится и испортит вечер. На свете много бездельников, но кого он по-настоящему презирает, так это газетчиков, особенно пьяных недоучек, которые, по мнению «Юнайтед пресс» и «Ассошиэйтед пресс», только и годятся, что для работы в Мексике и Южной Америке. Знай суют нос не в свое дело, постоянно устраивают какие-нибудь провокации, лишь бы наскрести себе материал. Прямо напрашиваются, чтобы правительство гнало их отсюда в три шеи. Он случайно знает, что толстого кретина за соседним столиком вот-вот выдворят из страны. Так что теперь ему один черт, какие шуточки отпускать… Кстати, этот эпизод кое-что ему напомнил…
Однажды вечером он с Мириам пришел сюда поужинать и потанцевать, а за соседним столиком сидела четверка толстых генералов с Севера – очень пузатых, с большими подкрученными усами и широкими поясами, нашпигованными патронами и пистолетами. В те дни Альваро Обрегон как раз захватил город, и генералов в нем кишмя кишело. Они расползлись по баням, где сдирали пропотевшую во время кампании амуницию и выпаривали из себя остатки алкоголя и блуда, они набились во все кафе, чтобы снова налакаться шампанским и подцепить французских шлюх, которых выписали на праздник введения президента в должность. В общем, эта четверка тихо грызлась, сверля друг друга маленькими злыми глазками. Он с Мириам танцевал за шаг от их стола, когда один из них вдруг вскочил и схватился за пистолет, но пока он возился с кобурой, остальные трое встали и без слов скрутили его. Зал сразу отреагировал. Обычная по тем временам картина. А главное, все нормальные мексиканские девушки тут же покрепче схватили партнеров за талию и, повернув их спиной к генералам, загородились словно щитами. Музыка оборвалась, публика замерла. Но тут Мириам выскользнула у него из рук и залезла под стол. Пришлось на глазах у всех вытаскивать ее оттуда.
– Давайте выпьем еще, – сказал он и замолчал, уставившись в зал, словно видел его таким, как в тот вечер около десяти лет назад. Потом поморгал глазами и продолжал.
Большего унижения он не испытывал за всю свою жизнь. Готов был провалиться сквозь землю, пока собирал со стола вещи и уводил жену. Генералы тем временем снова расселись, и публика продолжала танцевать, будто ничего не случилось… Ни с кем действительно ничего и не случилось, если не считать его самого.
В ту ночь, а потом и еще целый год он пытался объяснить ей, каково ему тогда было. Она ничего не желала понимать. Иногда говорила, что все это чушь собачья. Иногда самодовольно заявляла, что ей бы и в голову не пришло спасать свою шкуру за его счет. Такие фокусы, мол, на руку лишь мексиканкам, у которых одно на уме – как бы, не нарушая приличий, потеснее прижаться к мужчине, тут для них любой повод хорош, но ей-то с какой радости подражать? Кроме того, под столом безопаснее. Первая и единственная ее мысль была о безопасности. Он убеждал Мириам, что пуля с легкостью прошивает дерево, доска – не защита, а человеческое тело держит ее не хуже пуховой подушки. Однако она продолжала твердить, что ничего другого не пришло ей тогда в голову и он тут ни при чем. Он, конечно, был при чем, но никак не мог заставить ее понять. Мексиканки с рождения знают, что надо делать, и реагируют молниеносно, у них это в крови, а вот Мириам раз и навсегда доказала, что инстинкты у нее не срабатывают. Кстати, когда она, поджимая или закусывая губы, повторяла слово «инстинкт», оно получалось каким-то ругательным, грязнее не сыщешь. Но это еще цветочки. Ее совершенно не волнует, в конце концов заявила она, что там у мексиканок с рождения, но тешить всю жизнь мужское тщеславие она не желает. «А потом, разве я могу положиться на тебя? – спросила она. – Какие у меня основания на тебя полагаться?»
Удивительно, до чего Мириам изменилась со времени их первой встречи в Миннеаполисе. Перемены эти он связывал с ее работой в школе и сказал как-то, что страшней профессии не сыщешь, надо издать закон, запрещающий хорошеньким женщинам учительствовать до тридцати пяти лет. Но живут-то они, напомнила Мириам, на деньги, заработанные ею учительством. Их помолвка длилась целых три года – этакая целомудренная, междугородная помолвка, нездоровая, по его мнению даже противоестественная. А пока она копила в Миннеаполисе деньги и набивала сундук всяким постельным и прочим барахлом, он, понятное дело, коротал в Мехико время с индейской девицей, которая позировала знакомым художникам. Работал он тогда преподавателем английского в техническом колледже – чертовски странно, но раньше ему и в голову не приходило, что он тоже был учителем! – и прекрасно жил на свою зарплату с индеанкой, поскольку ей за позирование никто и не думал платить. Индеанка беззаботно крутилась между художниками, кухонными кастрюльками и его постелью и, не прерывая ни одного из этих занятий больше чем на пару дней, еще успела родить ребенка. Позже ее взял к себе художник поизвестней и поудачливей, и она сразу обрела утонченность, «характерность», хотя с ним по-прежнему была простой и милой. Еще позже, нацепив на себя традиционные местные украшения, она в традиционных нарядах танцевала традиционные танцы и даже научилась рисовать, не хуже семилетнего ребенка.
– Ну, вы знаете, – сказал он. – Примитивизм.
А на него навалились собственные проблемы. И когда для Мириам настало время приехать и выйти за него – отсрочка, как он понял позже, объяснялась ее дурацким отношением к приданому, – индеанка беззаботно, даже слишком беззаботно, перебралась к другому. Правда, через три дня она явилась назад, сказала, что собирается замуж, на этот раз по-настоящему, и не подарит ли он ей кое-какую мебель. Он помог погрузить скарб на спины двух индейцев-носильщиков, и она окончательно ушла вместе с младенцем, чья головка свешивалась из шали. Увидев маленькое личико, он почувствовал, как в нем шевельнулось странное чувство. «Мой, – сказал он себе, но тут же добавил: – Может быть». Поручиться никогда нельзя, да и ребенок был обычным черноволосым индейским ребенком. Замуж девица, само собой, не вышла, даже и не собиралась.
Когда Мириам приехала, жилье оказалось почти пустым – за все время он не скопил ни песо. У него была кровать, плита, раскрашенные тыквы, резные деревянные фигурки, прекрасной расцветки керамика да на стенах висели рисунки и картины его мексиканских друзей. Ему казалось, что все вполне пристойно, но посмотрели бы вы на лицо Мириам! Сказать она ничего не сказала, но стала совсем несчастной, и первые несколько недель только и делала, что плакала, при этом по каким-то неясным, высосанным из пальца поводам. Проснется он ночью, а она лежит и горько плачет. Сядут они утром за кофе, а она уронит голову на руки и опять в слезы. «Не обращай внимания, – говорила она. – Сама не знаю, в чем дело. Просто хочется поплакать». Теперь-то он понял, в чем дело. Три года она строила радужные планы, приехала черт знает из какой дали – и не представляла, как заявится назад домой. Настроение это длилось у нее не особенно долго, но медовый месяц был испорчен вконец. Об индеанке она и понятия не имела, веря, если, конечно, не притворялась, что до свадьбы он тоже был девственником. Любопытство Мириам не мучило, нравственные принципы были строгие, и он никак не мог решиться посвятить ее в свое прошлое. Она, черт ее дери, и мысли не допускала, что у него вообще было какое-то прошлое, кроме, конечно же, трех лет их помолвки. Ему всегда казалось, что девственницы, как бы холодно они себя ни держали, страстно, до дрожи в коленях желают узнать тайну, пока им ее благополучно не открывают в безопасной свободе освященного браком ложа. Но Мириам опровергла его теорию, как со временем опровергла и многие другие. Его намерение сыграть роль умудренного опытом мужчины, обучающего невинную, но с интересом внимающую новобрачную, было задушено в зародыше. Она не хотела ничему обучаться, и ее не волновало, интересно ему с ней или нет. Стоило ему разнежничаться, как мысли Мириам уносились куда-то далеко, в собственные темные глубины, словно предшествующая и более мучительная травма познания не отпускала ее от себя. По каким-то причинам, о которых она не хотела или не умела говорить, ее было невозможно приручить. Не пришлось ему, кстати, сыграть и роль поэта. Его стихи Мириам не трогали. Она предпочитала Мильтона. Так и заявила. И еще заявила, что главным событием в их браке считает обоюдное принесение в жертву девственности, а раз этот священный обряд уже свершился, то все последующее, куда более вульгарное, ее уже не интересует. Наготове у нее всегда была роскошная, применимая ко множеству ситуаций фразочка: «не переступать черту». И «черта» эта становилась особенно жирной, когда они ложились в постель…
Но пуще всего его добивала дьявольская непоследовательность Мириам. Три долгих года невеста писала ему, до чего скучно, тоскливо и буднично ей живется, как ее тошнит от мелочных предрассудков и дешевых увеселений обывателей, до чего тупы окружающие, как она мечтает о прекрасной, интересной жизни среди художников и поэтов, а его письма для нее как глоток свежего горного воздуха и тому подобное.
– Давайте выпьем еще, – сказал он своему гостю.
Ну так вот, ему казалось, что он выпускает из клетки симпатичную птичку, которая в благодарность станет клевать у него с ладони. Он посвятил и послал Мириам стихи о такой птичке. А она… она даже не упомянула о них в ответном письме. Затем прикатила с неподъемным сундуком простыней и шелкового белья – до конца жизни хватит – и в уверенности, что поселится в квартире со всеми удобствами, а по средам будет приглашать к обеду милых молодых супругов из американской колонии. Немудрено, что от первого же взгляда на новое жилье у нее вытянулось лицо. Его мексиканские друзья повсюду раскидали цветы, привязали охапки гвоздик к дверным ручкам, чуть ли не устлали весь пол красными розами, прикололи яркие букетики к обвисшим хлопчатобумажным занавескам, забросали продавленную кровать гардениями, а потом, понаписав всюду, даже на белых стенах, веселые ободряющие приветствия, скромно удалились… Отбрасывая носком вянущие розы, Мириам прошла в комнату и, с плохо скрытым ужасом в глазах сдвинув гардении, молча села на край кровати. Привет тебе, о Гименей! Что дальше?
Работу он почти сразу же потерял. Дело в том, что министр образования, покровительствовавший директору его колледжа, слетел со своего поста и потянул за собой всю гвардию, включая сторожей. Со временем учишься принимать такие удары спокойно. Ждешь, пока твой шеф снова окажется в седле, или идешь на поклон к его преемнику… Тут уж как придется… Но сами пертурбации настолько захватывают, что в первое время начисто забываешь про их влияние на семейный бюджет. Но Мириам ни политика, ни повороты местной истории не занимали. Она понимала одно: он потерял работу. Жить они стали на ее сбережения да на переводы ко дню рождения и к Рождеству от ее отца, который постоянно грозился приехать в гости, несмотря на отчаянные письма Мириам, что страна ужасная, а климат вконец подорвет его здоровье. С гордо поднятой головой она ходила по рынкам, старалась приготовить на жаровне с древесным углем здоровую американскую еду и стирала во дворе холодной водой в каменном корыте. Все, что казалось таким веселым, ненатужным и недорогим при индеанке, с Мириам становилось чертовски трудным и дорогостоящим. Ее деньги таяли, и больше ничего не происходило.
От служанки она отказывалась: во-первых, индеанки – грязнули, во-вторых, откуда взять денег. Он не мог понять, почему она так презирает и ненавидит домашнее хозяйство, тем более что он предложил ей свою помощь. Вымыть кучу ярко раскрашенной индейской посуды в увитом плющом дворе, на солнышке, под цветущей яблоней – да это же одно удовольствие! Может быть, и удовольствие, но только не для Мириам. Она и его презирала за легковесное отношение к домашним делам. Ему вспомнилось, как вела хозяйство мать, когда он был ребенком. Полдюжины детей, мал мала меньше, невпроворот тяжелой работы, но мать все делала спокойно, с отрешенно-счастливым лицом и как-то машинально, словно ее мысли бродили где-то далеко. «Ну, понятное дело, ведь это твоя мать», – сказала Мириам без всякого выражения. Но он ужасно обиделся, словно она оскорбила мать, обрушила проклятия на ее голову за то, что та родила на свет такого сына. В чем, в чем, а в напористости Мириам трудно было отказать. Ее индивидуальность, как к ней ни относись, могла проявиться самым зловещим образом. Тут чувствовались и твердая почва под ногами, и воспитание, и своя точка зрения, и крепкий хребет – даже когда они танцевали, он ощущал ее твердо напружиненные бедра и колени, что придавало всем ее движениям силу, привлекательную легкость, но никакой уступчивости. Нет, своя стать, как у хорошей лошади, в ней была, не было только обаяния. Чего нет, того нет. Его начинало трясти, когда она утверждала, что, будь он калекой, она бы с радостью заботилась о нем и работала на него, но он ведь вполне здоровый, однако службы не ищет и все кропает свои стишки, а это уже совсем ни в какие ворота не лезет. Она называла его неудачником. Называла никчемным, ленивым, пустым, ненадежным. Совала ему под нос свои огрубевшие руки, спрашивая, чего ей ждать от жизни, и еще без конца повторяла, что не может привыкнуть к ужасно невоспитанным, диким людям, которые не переводятся в их доме. Не может привыкнуть и не хочет привыкать. Он пытался объяснить, что эти дикари – лучшие художники и поэты Мексики и надо отдать им должное, тем более что как раз о них он писал ей в письмах. Но почему Карлос никогда не меняет рубашку, хотела бы она знать. «Я объяснил ей, – вел рассказ журналист, – что, вероятно, у него нет другой». А почему Хайме так жадно ест, спрашивала она, уткнется в тарелку и прямо за ушами трещит? Потому что живет впроголодь. Нет, невозможно понять, говорила она. Чего же он не устроится на работу? Ну как ей было втолковать францисканскую идею святой Нищеты как непременной спутницы художника. «Так ты думаешь, что они бедняки по убеждениям? Не будь идиотом!» Ничего себе разговорчики. А он-то считал ее молчаливой! Не без иронии пытался он заразить ее своей непоколебимой верой в этих людей, которые голодали и ходили в обносках, оттого что раз и навсегда сделали выбор между духовными ценностями и окружающим миром. Мириам не желала слушать. Просто ждут, когда им повезет, говорила она.
– И оказалась права, чертовски, до тошноты права. Как же я ненавижу эту особу, ненавижу больше всех на свете! Она уверяла, что я ошибаюсь, что не такие уж они дураки, и в конце концов, Хайме действительно спутался с богатой старухой, Рикардо ушел сниматься в кино, а Карлос спелся с правительством и стал малевать на заказ революционные фрески. Но разве у человека нет прав на выживание любым способом? – спрашивал я себя.
Однако какая-то упрямая частица его души сопротивлялась очевидности, не желала расставаться с романтическими иллюзиями о художниках и их предназначении. Мириам же раскусила их с первого взгляда, и он мечтал сыграть с ней за это какую-нибудь злую шутку, чтобы она уже не очухалась до конца жизни, но так ничего и не придумал. Да, все они по очереди продались, и он сам в конце концов пошел по их стопам.
– Понимаете, я вовсе не стал счастливее, но зато доказал, что я нормальный человек, как все. Разве нет? И все равно гнусно, что Мириам оказалась права. Я действительно никакой не поэт, стихи мои – дрянь, а представления о художниках вычитаны из книг… Ну, а там о людях из особого теста, людях просвещенных, поднявшихся над обычными человеческими заботами и страстями… Я хочу сказать, я считал искусство религией… Понимаете ли, когда Мириам твердила…
Он хотел сказать, что противоречия давили ему на психику. Мириам превратилась в мстящую фурию, а он даже не мог ее осуждать. Ненавидеть – пожалуйста, сколько угодно, но не осуждать. На сторону жены вставало все его воспитание, образование, все его предки – респектабельные американцы старой закалки, трудяги из среднего класса. Он ногти обломал, чтобы вырваться из-под их влияния, но они все же настигли его и, вопреки его пристрастиям и убеждениям, заставили смириться. Заглушить голос крови он был не в силах. Но и стать мелким служащим с протертыми от сидения брюками и локтями – а по-другому он себе работу не представлял – казалось ему чем-то вроде преждевременной смерти, которая все равно не даст забытья. Поэтому он ничего не искал, перебиваясь случайными, незначительными заработками. Нет, позицию Мириам он понимал, во всяком случае хотел понять, и, когда дошло до разговора начистоту, не смог выдвинуть в защиту своего способа существования ни одного веского аргумента. Да, он старался жить и мыслить так, чтобы в конце концов стать поэтом, но ничего не вышло. Короче говоря, его дела могли кончиться совсем печально, однако после четырех лет совместной жизни – Господи, только представьте, через целых четыре года, один месяц и одиннадцать дней! – Мириам написала домой, чтобы ей выслали деньги, собрала остатки приданого и уехала, сказав ему на прощанье пару ласковых слов. Она так долго ходила перед его глазами, худая, жалкая, нервная, что другой он жену и не помнил, но ее профиль в дверях показался ему незнакомым.
В общем, она уехала и тем самым, не сознавая того, оказала ему добрую услугу. Он ведь уже малодушно примирился с жизнью и не помышлял о разрыве – пусть брак чертовски неудачен, пусть в их отношениях много жестокости, но они все равно любят друг друга. Поэтому и стал пропускать слова жены мимо ушей. В последние месяцы он действительно научился не видеть и не слышать их. Правда, осознал он это только потом, когда память о некоторых из ее словечек, о выражении глаз и губ стала мучить его. Да, он ей очень благодарен. Не брось она его, он бы продолжал бездельничать, убивать время на стихи, ошиваться по грязным забегаловкам с новой компанией остроумных, разговорчивых и нищенствующих молодых мексиканцев, которые рисовали, писали или болтали, что вот-вот начнут рисовать и писать. Его вера возродилась: ребята казались ему истинными художниками, уж эти-то никогда не продадутся. И уж никак не бездельники! До чего самозабвенно трудятся на искусство!
– Святое Искусство, – сказал он. – Наши бокалы опять пусты.
Но попробовали бы вы сказать об этом Мириам. В общем, он так и не добрался до того дерева, под которым ему хотелось валяться. А если бы и добрался, кто-нибудь обязательно пришел бы требовать арендную плату. Зато он частенько валялся под столом в заведении Динти Мура или в «Черной кошке», валялся с такими же, как он, вольными американцами, изучающими местные обычаи. Это он репетирует, как бы готовится к своему дереву, объяснял он когда-то Мириам, надеясь, что хоть раз она оценит его юмор. Как бы не так. Она бы скорее удавилась, чем ответила улыбкой на такую шутку. В общем, тогда… тогда он с головой ушел в карьеру. Дело оказалось несложным. Первых своих шагов ему сейчас уже не припомнить, но дались они легко. Так что, если бы не Мириам, он бы так и остался паршивым неудачником и до сих пор валялся бы под столами у Динти Мура вместе с лоботрясами, изучающими местные обычаи. Но он решил сделать карьеру в журналистике и добился успеха. Теперь он признанный авторитет по переворотам в двадцати с лишним странах Латинской Америки; его пристрастия и взгляды удачно совпадают с пристрастиями и взглядами дорогих журналов либерально-гуманистического толка, которые хорошо платят за то, что он повествует миру об угнетенных народах. И пишет он вполне пристойно, у него, надо сказать, есть свой стиль. А успех очень зримый, вполне материальный – этот успех можно вырезать из газеты и вклеить в альбом, можно сосчитать и положить в банк, можно пропивать, проедать и надевать на себя, можно уловить в глазах публики на вечеринках и приемах. Прекрасно, но что дальше? А дальше он снова женился. Честно говоря, даже дважды женился и оба раза развелся. Значит, в целом выходит три брака. Недурно. Да, он отдал массу времени и сил на занятие, которое ему совершенно не по душе, и все для того, чтобы доказать своей первой жене, двадцатитрехлетней учительнице из Миннеаполиса, штат Миннесота, что он совсем не такой уж никчемный бездельник, способный лишь сочинять стихи… под деревом… если, конечно, ему удалось бы отыскать то самое идеальное дерево.








