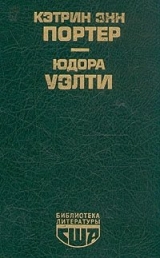
Текст книги "Библиотека литературы США"
Автор книги: Кэтрин Портер
Соавторы: Юдора Уэлти
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 38 (всего у книги 59 страниц)
Знакомая «общая тетрадь» в черном клеенчатом переплете лежала на коленях у Лоурел, открытая на рецепте «Самый удачный мой хлеб», записанном двадцать или тридцать лет назад тонким, четким почерком матери; там были все указания, кроме порядка замеса («Кухарка не такая уж тупица»). Под этой тетрадью лежала другая, еще более потрепанная. Бекки тогда сдавала экзамены в учительский институт, все в той же домотканой, прочной краски кофточке. В тетрадке были ее конспекты мильтоновского «Потерянного рая», чертежи мильтоновского мироздания, это было так на нее похоже – беречь старые записи, словно они ей могут еще когда-нибудь понадобиться. Лоурел рассматривала тщательно записанные расходы их скромного хозяйства, просмотрела разлинованные странички (записи помещались в старой конторской книге маунт-салюсского банка) и наконец дошла до садовых дневников – меж записей по планировке розариев и многолетних бордюров: «Только что пришла домой, Клинтон все еще трудится. Из окна кухни вижу, как он воюет с моей розой «Русалкой». Фиговое дерево опять раньше времени распустило листья. Вот глупое, пора бы ему набраться ума».
В последнем ящичке мать хранила письма от своей матери «из дому».
И теперь Лоурел вынимала их из тонких конвертов и читала про себя. Тогда бабушка уже давно овдовела, ее здоровье все ухудшалось, жила она совсем одна, часто была прикована к постели и писала своей молодой, решительной, бесстрашной и очень счастливой в замужестве дочке так, словно та жила в изгнании, хотя прямо упоминать об этом она себе никогда не позволяла. Просто непостижимо, сколько мужества и душевной ясности было вложено в эти короткие строки, поспешно набросанные карандашом, чтобы успеть сунуть письмо в карман одному из «мальчиков», прежде чем он снова ускачет галопом, потому что бабушка тогда зависела – так же как сейчас Лоурел – от того, не забудут ли бросить письмо в ящик у «здания суда». Читая письма, Лоурел вдруг наткнулась на свое имя: «Постараюсь послать Лоурел ко дню рождения немного сластей. Но если бы удалось найти оказию, мне хотелось бы прислать ей одного из моих голубков. Он станет клевать у нее из рук, если она разрешит».
Горе обрушилось на Лоурел, как прибой. Она выпустила листок из пальцев, дала книгам соскользнуть с колен, уронила голову на открытую доску секретера и горько разрыдалась, оплакивая любовь и всех умерших. Она не поднимала головы, и все, что было в ней твердого, непреклонного, – все отступало перед этой ночью, окончательно сдавалось перед ней. Все, что она нашла, теперь настигло ее. Глубочайший, скрытый родник в ее сердце вырвался из-под спуда и пробился к жизни.
Если бы Фил остался в живых…
Но Фил погиб. Ничего не осталось от их жизни вдвоем, кроме ее воспоминаний; любовь во всем своем совершенстве была запечатлена там навсегда.
Если бы Фил был жив…
Все, что было таким совершенным, по-прежнему жило в ней, нерушимо и ничего не нарушая. Но вот теперь она своими руками разворошила прошлое, и он смотрел на нее, он, Фил, всегда ожидавший воскрешения как Лазарь. Он смотрел на нее с дикой тоской в глазах, тоской по непрожитой жизни, и губы у него были чуть приоткрыты, словно рупор.
Какой же конец ожидал их? Что, если бы их брак кончился так же, как брак ее родителей? Или как у отца и матери ее матери? Или…
– Лоурел! Лоурел! Лоурел! – послышался ей голос Фила.
Она плакала и над тем, что сталось с жизнью.
– Я так хотел жить! – кричал Фил. Его голос взывал вместе с ветром в ночи, отдаваясь в доме, во всем доме. Он стал громче грома: – Я так хотел жить!
Она уснула в кресле, как пассажир, срочно выехавший поездом по делу. Но отдохнула она вполне.
Снилось ей, что она и на самом деле куда-то едет – и едет вместе с Филом.
И они проезжают по длинному мосту.
Проснувшись, она все поняла: это был сон, но она узнала в нем то, что произошло в действительности. Когда они с Филом поехали из Чикаго в Маунт-Салюс, чтобы обвенчаться в тамошней пресвитерианской церкви, они поехали поездом. Обычно Лоурел ездила из Чикаго в Маунт-Салюс ночным – тем самым экспрессом, которым она приехала и на этот раз из Нового Орлеана. Но с Филом они ехали дневным поездом, и тогда она впервые увидела мост.
Поезд шел по длинному откосу к мосту, после Кайро подымаясь все выше и выше, пока голые верхушки деревьев не остались далеко внизу. Лоурел глянула вниз и увидала, как ширится бледный отсвет и как открывается плес и начинается вода, отражая низкое раннее солнце. Шли два потока, и здесь они встречались друг с другом. Это было слияние рек Огайо и Миссисипи.
Они смотрели с большой высоты и видели только, как у слияния рек обнаженные деревья сбегаются от горизонта, две реки становятся одной, и тут Фил тронул ее руку, и она подняла глаза к небу и увидала в прозрачности неба длинную, неровную, словно прочерченную тушью стаю птиц, летящих тоже треугольником, туда же, куда и поезд, к соединению рек. И видно было только небо. Только вода, птицы, свет, слитые воедино, – весь утренний мир в полной нераздельности.
И они оба тоже были частью этого слияния мира. Их объединяла вера друг в друга, она привела их сюда. Именно в тот миг, когда все становилось единым, они тоже входили в эту слитность, растворяясь в ней. Даже само движение становилось прекрасным, значительным. Они участвовали в нем, они ехали впереди, первыми. «Пришло наше время! – радостно думала Лоурел. – И жить мы будем вечно».
Ни мертвого тела, ни могилы не оставила его смерть в огне и воде в тот давно прошедший год. Фил до сих пор мог бы рассказать ей самой все о ее жизни. Ибо жизнь ее, любая жизнь – и в это она должна была верить – только вечно длящаяся любовь.
И она верила этому, как верила, что до сих пор две реки сливаются у Кайро. Они и сейчас будут там, когда она сегодня пролетит над ними, возвращаясь домой, и хотя на этот раз с огромной высоты она ничего не увидит, но отделять их от нее будет только пустой воздух.
Филипп Хэнд был родом из деревни в Огайо. У него был мягкий говор сельского жителя, бескорыстная напористость и далеко идущие планы. Он сам пробил себе дорогу, учился на архитектурном факультете в политехникуме штата Джорджия, в ее краях, потому что жизнь там была дешевле и климат теплее; потом встретился с Лоурел, когда она приехала на Север, в его края, и поступила в Художественный институт в Чикаго. С давних пор, во множестве поколений, у них накопились одни и те же воспоминания. Штат Огайо лежал по другую сторону реки, напротив Западной Виргинии, а Огайо была его рекой.
Но пока они учились, их мало что роднило. И в жизни, и в работе, и в чувствах. Один бывал робок там, где другой был смел, и смел, где тот был робок. Она выросла в той застенчивости, которая ищет защиты, защищая другого. До встречи с Филом она представляла себе, что любовь – это убежище, и раскрывала объятия в бесхитростном желании приютить, уберечь. Он доказал ей, что этого вовсе не нужно. И стремление защитить другого или себя спало с нее, как одежда из одного куска, как анахронизм, нелепо оберегаемый с детских лет.
У Филиппа были хорошие крупные руки и необыкновенные пальцы – большой палец отходил от ладони почти под прямым углом, а его удлиненный округлый конец сильно загибался наружу. Когда она видела, как он работает правой рукой, ей казалось, что именно от нее пошла его фамилия – Хэнд[42]42
Hand – рука (англ.).
[Закрыть].
У нее тоже был свой талант. И Филипп своим примером показал ей, как этот талант развивать. Работая рядом с ним, она научилась работать. Он объяснил ей, как делать рисунок, разрабатывая композицию, не отвлекаясь от нее, не углубляясь в ненужные подробности.
При его энергии ему было мало проектировать дома. В их квартире на Южной стороне он оборудовал для себя мастерскую, отгородив половину кухни. «Для меня моральное удовлетворение – делать вещи. Люблю смотреть на законченную вещь». Он делал простые, расхожие вещи с бесконечной тщательностью. Он был из тех, кто во всем старается добиться совершенства.
Но оптимистом он не был, и она это знала. Фил научился всему, чему только было можно, и делал столько, на сколько хватало времени. Он проектировал дома прочные, устойчивые, чтобы в них можно было долго жить, но он знал, что при всей его одержимости и неутомимом старании эти дома все равно что карточные домики.
Когда Америка вступила в войну, Фил сказал: «Только не в пехоту и не в инженерные войска. Слышал я, что там делают с архитекторами. Сажают их на камуфляжи. А эту войну надо кончать как можно быстрей, некогда расписывать всякую рухлядь». Он пошел на фронт и стал офицером связи на борту минного заградителя в Тихом океане.
Отец Лоурел впервые за много лет приехал поездом в Чикаго – повидать Фила в его последний отпуск. (Мать уже никуда не ездила – только «туда, домой».)
– Близко они подбирались к вам, эти камикадзе, сынок? – полюбопытствовал судья.
– Ближе некуда, хоть здоровайся с ними за руку! – сказал Фил.
Но через месяц они подобрались еще ближе…
Лоурел не помнила, чтобы в их короткой совместной жизни была хоть одна ошибка. «Ощущение вины за то, что ты пережил своих любимых, надо терпеть, и это справедливо, – подумала она. – Пережив их, мы чем-то их обижаем. Смерть – странное явление, хотя и ничуть не страннее жизни. Но остаться в живых после смерти любимых – самое странное из всего на свете».
В доме было светло и тихо – как на корабле, словно его всю ночь трепало бурей, а теперь он пришел в гавань. Лоурел не забыла, чтó ей предстоит в этот день. Выключая по дороге все лампы, зажженные ночным страхом, она прошла через большую спальню и открыла дверь на площадку.
Птицу она увидала тут же, сразу – высоко в складке портьеры, на лестничном окошке, она притихла, тесно прижав крылышки к узкому тельцу.
Ступеньки скрипнули под ногами у Лоурел, и птица затрепетала крыльями, не двигаясь с места. Лоурел сбежала по лестнице и заперлась на кухне, обдумывая свои планы за завтраком. Потом она снова поднялась наверх, оделась, вышла на площадку и увидела, что птица по-прежнему на том же месте.
Вдруг громко, словно запоздалый отзвук странного хлопанья крыльев, у парадной двери раздался настойчивый стук. Тут не понадобилось напрягать память: Лоурел знала, что так стучать может только один человек в Маунт-Салюсе – хромоногий плотник, который неукоснительно появлялся каждую весну менять шнуры на шторах, точить косилку, подгонять кухонные двери, осевшие за зиму. Он, без сомнения, все так же помогал вдовам, незамужним дамам и женам, у которых мужья ничего по дому делать не умели.
– Ну вот, и вашему папаше пришел черед. Старая-то мисс уж больше десяти лет как померла. Скучаю по ней. Как прохожу мимо дома, каждый раз ее вспоминаю, – сказал мистер Чик. – Выдумщица была.
Может, он зашел, хоть с запозданием, выразить сочувствие?
– Вы ко мне, мистер Чик? – спросила Лоурел.
– Замки держатся? – спросил он. – Не пора ли сменить шнурки на шторах? А мебель передвинуть не надо?
Нет, он все такой же. Тяжело ступая, он взошел по ступенькам прямо на террасу, выворачивая коленки и позвякивая инструментами в сумке.
Мать всегда осуждала его фамильярность, его скверную работу, ловила его на жульничестве и, наверно, выгнала бы его без разговоров, посмей он только назвать ее «старая мисс». Должно быть, теперь он решил, что путь для него открыт.
– А крыша ночью не протекла? – спросил он.
– Нет. Только вот птица влетела через каминную трубу, – сказала Лоурел. – Если хотите помочь, попробуйте ее выгнать.
– Птица в доме? – переспросил он. – Плохая примета, к несчастью! – Он поднимался по лестнице враскачку, по пятам за Лоурел. – Значит, можно приступать?
Птица не шелохнулась. Отяжелевшая от сажи, забившейся в перья, она все еще жалась к той же складке портьеры.
– Вон она, вижу! – заорал мистер Чик. Он топнул ногой, потом, как циркач, заплясал на месте, стуча башмаками. Птица шарахнулась вниз, заметалась и, чуть не разбившись о стенку, влетела в комнату Лоурел – двери в ее спальню открылись сами собой. Мистер Чик с воплем захлопнул за птицей дверь.
– Мистер Чик!
– Видали – прогнал с площадки!
Двери в комнату Лоурел снова приоткрылись сами по себе, словно подтверждая, что за ними никого нет – только порыв утреннего ветерка.
– Мне сегодня не до шуток, – сказала Лоурел. – Сейчас же уберите птицу из моей комнаты!
Мистер Чик протопал в спальню. Он поглядел на прозрачные занавески, мокрые от дождя, смывшего с них крахмал, – Лоурел поняла, что окно у нее всю ночь было открыто. В занавеске бешено билась потускневшими крыльями птица; но Лоурел видела – мистер Чик только прикидывает, насколько потрепались шнуры на шторе.
– Она будет летать по всем комнатам, если ее не поймать, – сказала Лоурел, с трудом удерживаясь, чтобы не схватиться за голову.
– Никуда она не полетит, она выбраться хочет, – сказал мистер Чик и звонко хмыкнул.
Топая по комнате, он заглянул в открытый чемодан Лоурел, лежавший на кровати, где ничего не увидел, кроме этюдника, который она так и не успела вынуть, осмотрел туалетный столик, полюбовался на себя в зеркало, а птица все путалась в занавесках и вдруг метнулась из комнаты перед ним, когда он открыл двери. От нее на всем остались следы сажи, как пыльца от крыльев бабочки.
– А молодая мисс где же? – спросил мистер Чик, открывая двери спальни. Птица стрелой метнулась туда.
– Мистер Чик!
– Самая моя любимая комната в этом доме. – Он ухмыльнулся Лоурел, обнажив черный провал беззубого рта.
– Мистер Чик, я вам, кажется, ясно сказала: мне не до шуток. Вы только все окончательно испортили. Да вы и прежде всегда все только портили, – сказала Лоурел.
– Но я же с вас ничего не возьму, – сказал он, сходя вниз по лестнице следом за ней. – А вы все такая же, – добавил он. – Почему бы вам опять замуж не выйти, хоть за кого?
Она подошла к дверям, ожидая, пока он уйдет. Он добродушно засмеялся:
– Да, вот и я остался один-одинешенек, ни живой души у меня нет. Почему бы нам с вами не сговориться, а?
– Мистер Чик, сделайте милость, уходите.
– До чего ж похожа на старую мисс! – сказал он восхищенно, – А сердиться понапрасну не надо! – крикнул он, спускаясь вприпрыжку по ступенькам террасы. – У вас и голос точь-в-точь как у нее.
Появилась Миссури. Она вышла с метлой на крыльцо.
– Чего тут у вас стряслось?
– Там стриж! Стриж вылетел из камина, летает по всему дому, – сказала Лоурел. – Он до сих пор там, наверху.
– Это все оттого, что рано прибираться начали да хвастаться, – сказала Миссури. – Почему вы этого мистера Чика не попросили? Честное слово, ему бы только крутиться по дому да все разглядывать.
– Ничего он не умеет. Давайте сами ее выгоним.
– Вот это верно. У нас оно лучше пойдет.
Миссури появилась на кухне; она снова напялила шляпку и дождевик, крепко перетянув его поясом. Медленным шагом она поднялась по лестнице, держа перед собой кухонную щетку щетиной кверху.
– Видите ее? – спросила Лоурел. Она заметила пятно на занавесках у лестничной площадки, где птица ночью угнездилась поспать. Слышно было, как она где-то вздрагивает.
– Вот она там, на телефоне.
– Только не бейте ее…
– А как же мне ее поймать? Нечего ей тут делать, в вашей комнате, понятно? – сказала Миссури.
– Вы только подойдите сзади. Птицы летят на свет – помню, мне говорили. Погодите, я открою двери пошире. – Слышно было, как Миссури уронила щетку на пол. – Ей теперь дорога открыта! – крикнула Лоурел снизу. – Почему же она не вылетит?
– Да разве у нее ума хватает? Она же не человек!
Лоурел открыла двери и взбежала по лестнице с двумя соломенными корзинками. Она заставит ее улететь!
Вдруг сердце у нее упало: птица лежала на полу, под телефонным столиком. Она казалась маленькой, такой мучительно жалкой, плоской, как пустой башмачок, упавший с ноги ребенка.
– Знаете, Миссури, я всегда боялась: вдруг птица ко мне прикоснется, – сказала Лоурел. – Правда, правда!
Ей казалось, что птица слепая, неживая, в таком оцепенении она лежала.
– Вот погань, – сказала Миссури.
Лоурел накрыла птицу одной корзинкой, подвела сбоку другую, и птица оказалась взаперти. Все произошло бесшумно и быстро.
– А вдруг я ее придавила?
– Кошка съест – всего и делов.
Лоурел сбежала вниз, в сад, по ступенькам террасы, чувствуя на каждом шагу свою ношу, слыша, как там, под корзиной, что-то бьется – не то трепыхаются крылья, не то колотится птичье сердце в слепой борьбе против спасения.
На дорожке у ворот она остановилась.
– Что это вы затеяли? – крикнула старая миссис Пийз, высунувшись из-под занавески. – А я думала, вы уже уехали!
– Скоро уезжаю! – крикнула Лоурел и раздвинула корзинки.
Что-то задело ее по лицу – не перья, а лишь порыв ветра. Птица улетела. В воздухе она казалась только парой крыльев, больше ничего не было видно – ни тельца, ни хвоста, только косая дуга, врезанная в небо.
– Каждой птице летать охота, даже такой пачкунье никудышной, – сказала Миссури. – А мне теперь опять занавески стирать да выкручивать.
Целый час после этого Лоурел стояла в аллее и жгла письма отца к матери, письма бабушки и все сохранившиеся записные книжки и всякие бумаги, – жгла в заржавленной проволочной корзинке, где обычно осенью сжигали ветки пекана. («Слишком в них много кислоты, моим розам вредно».) Она сожгла фолиант Мильтона. На листке увидела почерк матери: «В это утро?» – и характерный вопросительный знак – крючком. Листок медленно морщился в огне. Лоурел поймала себя на ребяческом желании схватить листок, как прохожий подымает монетку с тротуара и законно присваивает ее, но листок уже сгорел. Лоурел одного хотела бы для матери – в это утро вернуть то утро, прожить его заново или заменить другим. Она стояла, покорно держа кочергу. И думала об отце.
Дым стлался по дереву, затеняя его, как вуаль затеняет лицо, сияющее слишком откровенной невозмутимостью. Мисс Адель Кортленд прошла под деревом быстрым учительским шагом – она торопилась попрощаться с Лоурел, пока не начались уроки в школе. Она увидела, что делает Лоурел, и лицо ее застыло, она постаралась ничем не выразить свое отношение.
– Тут вот одна вещица – я бы хотела отдать ее вам, – сказала Лоурел и сунула руку в карман передника.
– Нет, Полли. Эту вещь нельзя отдавать! Я тебе не разрешаю, пойми! Ты должна беречь, хранить ее. – И она быстро вложила в руку Лоурел маленькую каменную лодочку, попрощалась и торопливо побежала к себе в школу.
Лоурел так и знала. Нет, все равно никому не удастся утешить мисс Адель Кортленд – она сама утешит утешителя.
Наверху Лоурел положила в чемодан свои брюки и мятое шелковое платье, которое она надевала накануне, бросила на них еще какие-то мелочи и заперла его. Потом она приняла ванну и снова надела костюм от Сибил Конноли, в котором она прилетела. Она тщательно подмазала губы, заколола волосы, как носила в Чикаго, снова надела городские туфли на каблуках и в последний раз обошла весь дом. В окна, с которых Миссури сняла занавески, чтобы их выстирать, широко вливался весенний свет. В этом сверкающем и тихом доме ничто не напоминало о жизни ее матери, от ее счастья и страданий не осталось ничего, что могла бы испортить Фэй. И от того, как отец метался между ними, хватаясь за них обеих, как он вдруг отпустил их и ушел от всего, тоже никаких следов не осталось.
Из окна на лестничной площадке ей была видна дикая яблоня – она вся заиграла зеленью, только одна ветка еще была сплошь покрыта цветами, как кружевной рукав.
После похорон все цветы вынесли из гостиной – тюльпаны долго красовались, пока не опал последний лепесток. Над белой каминной доской висели полукружием над часами все те же журавли на лунном диске, нищий с фонарем и поэт у водопада. Стрелки на часах показывали половину двенадцатого.
Лоурел ждала – сейчас должны приехать подружки.
И тут она услыхала легкий стук – словно пустую катушку бросили в ящик и она катилась вглубь. Лоурел прошла на кухню, сквозь приоткрытую дверь она видела, как Миссури вывешивает выстиранные занавески. В кухне еще тепло пахло мыльной пеной.
Посреди дощатого пола все еще стоял памятный с детства огромный, как старинный рояль, кухонный стол. Из двух шкафов только новый, металлический, был в употреблении. Лоурел позабыла осмотреть старый деревянный шкаф, как забыла с вечера закрыть окно в своей комнате. Она подошла к нему и подергала деревянные дверцы, пока они не подались. Шкаф открылся, оттуда пахнуло резким, стойким мышиным духом. В темной глубине она разглядела формы для пирогов с вареньем, мешочек грубой соли для мороженицы, железные вафельницы и чашу для пунша с висящими на ней кружечками, которые от долгого неупотребления переливались маслянистыми радужными пятнами. И за всеми этими бесполезными вещами было задвинуто как можно дальше то, что все же почти выпирало из шкафа, то, что ей суждено было найти, – она и была тут для того, чтобы найти эту вещь. Она опустилась на колени и, торопливо раздвинув все остальное, обеими руками вытащила эту вещь и взглянула на нее в дневном свете, падавшем из незанавешенных окон. Да, это было именно то, что она предполагала. И в ту же минуту она скорее почувствовала, чем услышала из кухни, стук каблуков сначала в гостиной, библиотеке, в столовой, потом вверх по лестнице, по спальням и снова вниз – повторяя путь самой Лоурел, умолкнув на пороге кухни.
– А-а, значит, вы до сих пор тут? – сказала Фэй.
– Во что вы превратили мамину хлебную доску? – спросила Лоурел.
– Какую доску?
Лоурел встала и, выйдя на середину кухни, положила доску на стол. Она ткнула в нее пальцем:
– Смотрите! Смотрите, вот трещина, смотрите, какие вмятины. Будто вы ее ломом били!
– Подумаешь, какое преступление!
– Вся грязная, избитая! Гвозди вы ею заколачивали, что ли?
– Ничего я не заколачивала – просто колола на ней прошлогодние орехи. Молотком.
– И прожгли сигаретами.
– Да кому она нужна, старая доска, век ей жить, что ли? Не нужна она никому на свете.
– А тут, с краю! – Лоурел провела пальцем по краю доски, руки у нее уже дрожали.
– Да в этом старом доме, наверно, и крысы расплодились. – сказала Фэй.
– Вся изгрызена, испакощена, грязь в нее так и въелась. У моей матери она была гладкая, как шелк, чистая, как блюдо.
– Да чего вы пристали с этой дурацкой доской? – закричала Фэй.
Мама выпекала самый лучший хлеб во всем Маунт-Салюсе!
– Ну и что? Начхать мне на ее хлеб. Теперь уж она его не печет.
– Вы осквернили этот дом!
– Я таких слов не понимаю, и слава Богу. А вас прошу запомнить: дом теперь мой и что захочу, то с ним и сделаю, – сказала Фэй. – И со всем барахлом, да и с этой вашей доской тоже.
Но все, что Лоурел перечувствовала и передумала за эту ночь, все, что она вспомнила и поняла за это утро, за эту неделю дома, за весь этот месяц ее жизни, не могло ей подсказать сейчас, как ей выдержать столкновение с этим существом, которое за всю свою жизнь не научилось чувствовать по-человечески. Лоурел даже не знала, как с ней попрощаться.
– Фэй, моя мать знала, что вы заберетесь в ее дом. Ей и говорить не надо было. Она вас предсказала.
– Предсказала? Это только дурную погоду предсказывают, бросила Фэй.
Ты и есть дурная погода, подумала Лоурел. И все еще впереди: много таких, как ты, еще появится в нашей жизни.
– Да, она вас предсказала.
Жизненный опыт матери сейчас помогал ей, хотя он и расходился во времени с ее опытом. Мать всю жизнь страдала от ощущения чьего-то предательства, но только после ее смерти, когда лишь память продолжала протестовать, Фэй из Мадрида, штат Техас, ворвалась в эту жизнь. Возможно, что до последней минуты отец и не помышлял о встрече с такой Фэй. Ибо Фэй была порождением страха самой Бекки. То, что чувствовала Бекки, то, чего она всегда боялась, для нее могло уже тогда существовать тут, в доме. Прошлое и будущее могли переместиться в путанице ее мыслей, но ничто не могло опровергнуть правоту ее сердца. Фэй могла прийти и раньше, и позже. Она могла явиться когда угодно. Но она должна была явиться – и явилась.
– Да ваша мать свихнулась перед смертью! – крикнула Фэй.
– Это ложь, Фэй! Никто никогда не смел так говорить про нее!
– В Маунт-Салюсе? Да я сама слышала, вот тут, в этом доме. Мне мистер Чик все объяснил. Говорит, зашел к ней в мою теперешнюю спальню – она тогда еще была жива, – и она как швырнет в него чем-то.
– Замолчите, – сказала Лоурел.
– Да, швырнула колокольчиком с ночного столика. И сказала, что нарочно целилась ему в протез, потому что она никогда не обидит живое существо. Она была психованная, и вы тоже скоро спятите, если не поостережетесь!
– Моя мать никогда в жизни никого не обижала!
– А я психов не боюсь. Меня на испуг не возьмешь и отсюда не выставишь. А вот вам пора убираться, – сказала Фэй.
– Пугать, брать на испуг – ах, Фэй, неужто вы до сих пор ничего не понимаете? – Лоурел вся дрожала. – А отца вы зачем пугали – зачем вы его ударили?
– Я от него смерть отпугивала! – крикнула Фэй.
– Что, что?
– Хотела, чтоб он встал, ушел оттуда, чтоб он наконец подумал обо мне!
– Он умирал, – сказала Лоурел, – он только о смерти и думал.
– Вот я и пыталась выбить из него эту стариковскую дурь. Хотела заставить его жить, хоть силком. И ничуть не жалею! – закричала Фэй. – Для него никто ни черта не делал!
– Вы сделали ему больно!
– Я была ему женой! – крикнула Фэй. – Да вы небось уже начисто забыли, что значит быть женой.
– Нет, не забыла, – сказала Лоурел. – Хотите знать, почему эта доска для хлеба так прекрасно сработана? Я вам скажу. Потому что ее сделал мой муж.
– Зачем это?
– А вы знаете, что значит работать с любовью? Мой муж делал эту доску для мамы, чтобы ей было приятно. У Фила был талант, золотые руки… Он эту доску отстрогал, отполировал, подклеил, все сделано на совесть, поглядите: до сих пор она ровная, как его ватерпас, все пригнано, слажено накрепко, ни зазоринки.
– Да плевала я на это! – сказала Фэй.
– Я видела, как он работал. Он один в нашей семье все умел. Наша семья была довольно беспомощная, это-то нас и связывало. Моя мать так его благодарила, когда он ей принес доску. Сказала: как красиво, как крепко сделано, именно то, что надо, просто украшение для кухни.
– А теперь она моя, – сказала Фэй.
– Нет, теперь она принадлежит мне. Я ее заберу, почищу.
– Вы что, выпрашиваете эту доску?
– Я возьму ее в Чикаго.
– А кто вам сказал, что я ее отдам? С чего это вы так обнаглели?
– Я нашла ее! – крикнула Лоурел и обеими руками уперлась в доску, всем телом налегая на стол.
– Ишь какая воспитанная мисс Лоурел! Посмотрели бы они сейчас на вас! Так и понесете эту гадость из дому, да? Да она грязная как не знаю что.
– Грязь можно отчистить.
– Хотите себе руки стереть до костей?
– Конечно, она вся исцарапана. Ничего, я ее приведу в порядок.
– А потом что с ней будете делать? – с издевкой спросила Фэй.
– Попробую печь хлеб. Слава Богу, вчера вечером нашелся мамин рецепт, ее рукой написан, сразу попался мне на глаза.
– Да хлеб-то весь одинаковый на вкус.
– Не пробовали вы мамин хлеб! Может быть, и мне удастся испечь – постараюсь.
– А кого станете угощать? – сказала Фэй.
– Фил любил хлеб. Особенно вкусный хлеб. Отломит от теплого каравая, прямо из печки, и ест, – сказала Лоурел.
Призраки. И с некоторой иронией Лоурел взглянула на себя со стороны: она обошла весь дом, словно совершая обряд, как Фэй на похоронах. Да, конечно, они должны были столкнуться – нелепо было предполагать, что они больше не встретятся здесь, хотя бы под самый конец. У Лоурел еще оставалось время до отъезда, это Фэй успела приехать раньше – и вовремя. Ведь и ненависть, как и любовь, сталкивает нас, влияет на течение нашей жизни. Она подумала о Филе, о камикадзе и о рукопожатии.
– Ваш муж? А он тут при чем? – спросила Фэй. – Он же умер!
Лоурел схватила доску обеими руками и подняла ее, чтобы Фэй не достала.
– Ах вот вы чем деретесь? Ничего лучше старой, червивой доски не нашли?
Лоурел крепко держала доску. Держа ее на весу, она подумала, что не она ее несет, а сама доска, как плот на волнах, держит ее, не дает утонуть, исчезнуть в глубине, как исчезали другие, до нее.
Из гостиной послышалось мягкое жужжанье, и часы пробили полдень. Лоурел медленно опустила доску, держа ее горизонтально между собой и Фэй.
– Ну, знаете ли, – заговорила Фэй, – вы сейчас чуть такого дурака не сваляли! Доской собирались меня стукнуть! Нет, ничего у вас не выйдет. Драться вы не умеете, вот что. – Она прищурила один глаз. – А меня все мое семейство учило – я-то умею!
Нет, подумала Лоурел, именно она, Фэй, драться не умеет. В ней ни страсти, ни воображения, не чувствует она их и в других людях, ей это недоступно. Другие люди, другие жизни для нее просто невидимки. И ей пришлось бы наугад махать своими кулачками, плевать во все стороны узким ротиком, чтобы в кого-то попасть. С человеком что-то чувствующим она ни бороться не может, ни любить его не умеет.
– Видно, вы считаете всех на свете хуже себя, Фэй, – сказала Лоурел.
Да, она едва не ударила Фэй. Она хотела сделать ей больно, чувствовала, что она на это способна. Но по странной причуде души ей помешало воспоминание о маленьком Венделле.
– Не пойму, из-за чего вы подняли такую бучу? – спросила Фэй. – Что вы в ней нашли, в этой штуке?
– Все былое, Фэй. Все прошлое целиком, – сказала Лоурел.
– Чье это прошлое? Только не мое! – сказала Фэй. – Для меня прошлое – пыль. Мне важно только будущее. Ясно вам или нет?
И вдруг Лоурел подумала, что Фэй, может быть, уже успела изменить памяти отца.
– Знаю, что и вы для прошлого – ничто, – сказала она. – Но у вас нет и власти над прошлым.
«И у меня тоже, – подумала она, – хотя для меня оно было всем на свете, оно меня создало, оно мне дало все. Прошлое ничем нельзя оскорбить, но и помочь ему ничем нельзя. Прошлое так же недоступно, как отец в гробу, – ни помочь, ни оскорбить его уже нельзя, прошлое, как и он, неуязвимо и никогда не восстанет ото сна. Это память лунатиком бродит во сне. Она приходит, вся израненная, с другого конца света, как Фил, она окликает нас по имени и предъявляет свои права на наши слезы. Она никогда не станет неуязвимой. Память можно ранить вновь и вновь, но в этом, быть может, и таится ее глубокое милосердие. Пока память отзывается болью на то, что случается в жизни, она остается живой, а пока она жива и пока мы в силах, мы можем воздать ей должное».
У дома остановилась машина – подружки отрывистыми гудками звали Лоурел.
– Забирайте доску, – сказала Фэй. – Меньше придется выкидывать.
– Не стоит, – сказала Лоурел, кладя доску на место. – Думаю, что смогу обойтись и без этого тоже.
Память живет не во власти над вещами, но в опустевших руках, опустевших и прощенных, и в сердце, которое тоже может опустошиться, но вдруг снова наполняется образами, воскрешенными воображением. Лоурел прошла мимо Фэй в прихожую, взяла пальто и сумку. Миссури уже бежала из кухни и успела подхватить чемодан. Лоурел торопливо прижала ее к себе, сбежала по ступенькам к машине – там в нетерпении, открыв дверцу, ждали ее подружки.








