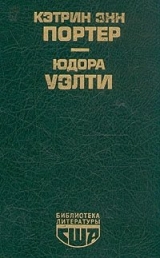
Текст книги "Библиотека литературы США"
Автор книги: Кэтрин Портер
Соавторы: Юдора Уэлти
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 59 страниц)
Оттилия сидела на своем сломанном табурете, сунув ноги в топку погасшей печки. Руки со скрюченными пальцами беспомощно повисли, голова втянута в плечи; она выла без слез, выворачивая шею, и все тело ее судорожно дергалось. Увидев меня, она ринулась ко мне, прижалась головой к моей груди, и руки ее метнулись вперед. Она дрожала, что-то лопотала, выла и неистово размахивала руками, указывая на открытое окно, где за ободранными ветвями сада по проулку в строгом порядке двигалась похоронная процессия. Я взяла ее руку – под грубой тканью рукава мышцы были неестественно сведены, напряжены, – вывела на крыльцо и посадила на ступеньки; она сидела и мотала головой.
Во дворе у сарая стояли только сломанный рессорный фургон да косматая лошаденка, которая привезла меня со станции. Упряжь по-прежнему была для меня тайной, но кое-как я ухитрилась соединить ее с лошадью и фургоном, не слишком надежно, но соединила; потом я тянула, толкала Оттилию, кричала на нее, пока наконец не взгромоздила на сиденье и не взялась за вожжи. Лошадка бежала ленивой рысцой, и ее мотало из стороны в сторону, точно маслобойку, колеса вращались по эллипсу, и так, враскачку, чванливым шутовским ходом, кренясь на один бок, мы все же двигались по дороге. Я неотрывно следила за веселым кривляньем колес, уповая на лучшее. Мы скатывались в выбоины, где застоялась зеленая тина, проваливались в канавы, потому что от мостков не осталось и следа. Вот бывший тракт; я встала, чтобы посмотреть, удастся ли нагнать похоронную процессию; да, вон она, еле тащится вверх по взгорку – гудящая вереница черных жуков, беспорядочно ползущих по комьям глины.
Оттилия смолкла, согнулась в три погибели и соскользнула на край сиденья. Свободной рукой я обхватила ее широкое туловище, пальцы мои попали между одеждой и худым телом и ощутили высохшую корявую плоть. Этот обломок живого существа был женщиной! Я на ощупь почувствовала, что она реальна, она тоже принадлежит к роду человеческому, и это так потрясло меня, что собачий вой, столь же отчаянный, каким исходила она, поднялся во мне, но не вырвался наружу, а замер, остался внутри – он будет преследовать меня всегда. Оттилия скосила глаза, вглядываясь в меня, и я тоже внимательно посмотрела на нее. Узлы морщин на ее лице как-то нелепо переместились, она приглушенно взвизгнула и вдруг засмеялась – будто залаяла, – но это был явный смех: она радостно хлопала в ладоши, растягивала в улыбке рот и подняла свои страдальческие глаза к небу. Голова ее кивала и моталась из стороны в сторону под стать шутовскому вихлянию нашего шаткого фургона. Жаркое ли солнце, согревшее ей спину, или ясный воздух, или веселое бессмысленное приплясывание колес, или яркая, с зеленоватым отливом синева неба – не знаю что, но что-то развеселило ее. И она была счастлива, и радовалась, и гукала, и раскачивалась из стороны в сторону, наклонялась ко мне, неистово размахивала руками, точно хотела показать, какие видит чудеса.
Я остановила лошадку, вгляделась в лицо Оттилии и задумалась: в чем же моя ошибка? Ирония судьбы заключалась в том, что я ничего не могла сделать для Оттилии и потому не могла – как мне эгоистически хотелось – освободиться от нее; Оттилия была для меня недосягаема, как, впрочем, для любого человека; и все же разве я не подошла к ней ближе, чем к кому бы то ни было, не попыталась перекинуть мост, отвергнуть расстояние, нас разделявшее, или, вернее, расстояние, отделявшее ее от меня? Ну что ж, вот мы и сравнялись, жизнь обеих нас одурачила, мы вместе бежали от смерти. И вместе ускользнули от нее – по крайней мере еще на один день. Нам повезло – смерть дала нам еще вздохнуть, и мы отпразднуем эту передышку глотком весеннего воздуха и свободы в этот славный солнечный день.
Почувствовав остановку, Оттилия беспокойно заерзала. Я натянула вожжи, лошадка тронулась, и мы пересекли канавку там, где от большой дороги отделялся узкий проселок. Солнце плавно клонилось к закату; я прикинула: мы успеем проехаться по тутовой аллейке до реки и вернуться домой раньше, чем все возвратятся с похорон. У Оттилии вполне хватит времени, чтобы приготовить ужин. Им не надо и знать, что она отлучалась.
Юдора Уэлти
~~~~~~~~~~~~~~~
EUDORA WELTY
~~~~~~~~~~~~~~~
• The Optimist’s Daughter
ДОЧЬ ОПТИМИСТА
Роман
(Перевод Р. Райт-Ковалевой и М. Ковалевой)
Часть перваяСестра распахнула перед ними двери. Первым вошел судья Мак-Келва, за ним его дочь Лоурел, потом его жена Фэй. Они прошли в кабинет без окон, где был назначен врачебный осмотр. Обычно судья Мак-Келва, высокий грузный старик – ему было за семьдесят, – носил очки на черном шнурке. Сейчас он, держа их в руке, поднялся на возвышение – там, словно трон, над табуретом врача стояло кресло. Лоурел встала с одной стороны, Фэй – с другой.
Лоурел Мак-Келва Хэнд – стройная, со спокойным лицом – в свои сорок с лишним лет сохранила совершенно темные волосы. На ней был оригинальный костюм – необычного покроя и материала, но не по сезону теплый для Нового Орлеана, да и на юбке замялась складка. Темно-синие глаза выдавали ночную бессонницу.
Фэй, маленькая, бледная, в платье с золотыми пуговками, нетерпеливо постукивала ногой в босоножке.
Это было в начале марта, утром, в понедельник. Все они в чужом городе – в Новом Орлеане.
Точно, минута в минуту, вошел доктор Кортленд, широкими шагами пересек комнату и пожал руки судье и Лоурел. Его пришлось знакомить с Фэй – всего полтора года, как она вышла замуж за судью. Доктор уселся на свой табурет, поставив ноги на перекладину внизу, и посмотрел на судью с выражением радостного ожидания, как будто долго предвкушал его приезд в Новый Орлеан и то ли он сам сейчас вручит судье подарок, то ли судья ему что-то преподнесет.
– Нэйт, – сказал отец Лоурел, – может, вся беда в том, что я старею. Я уж не тот, что прежде. Но я не удивлюсь, если и в самом деле у меня с глазами не все в порядке.
У доктора Кортленда – знаменитого окулиста – был такой вид, словно времени у него сколько угодно: он сидел, сложа свои большие деревенские руки, с такими чуткими пальцами, что Лоурел всегда казалось: стоит ему только прикоснуться к часовому стеклу, и он сразу на ощупь почувствует, который час.
– Заметил я эти мелкие неполадки как раз в день рождения Джорджа Вашингтона, – продолжал судья Мак-Келва.
Доктор Кортленд кивнул, как будто подтвердил, что день был вполне подходящий.
– Ну, расскажите, что там за мелкие неполадки, – сказал он.
– Пришел я домой из сада. Возился с розами, вы ведь знаете, я теперь ушел на покой. Стою на крыльце, посматриваю на улицу – Фэй куда-то исчезла, – сказал судья Мак-Келва и одарил ее милостивой улыбкой, сильно смахивающей на хмурую усмешку.
– Да я только забежала в парикмахерскую, на завивку, к Миртис, – сказала Фэй.
– И вдруг увидел фиговое дерево, – сказал судья Мак-Келва. – Да, фиговое дерево! А с него пускали зайчики те штуки, которые Бекки когда-то понавешала – птиц отпугивать.
Оба улыбнулись: они родились в одном городе, эти люди разных поколений. Бекки – так звали мать Лоурел. А ее маленькие самодельные зеркальца – кружочки из жести – ничуть не мешали птицам лакомиться фигами в июле.
– Вы, конечно, помните не хуже меня, Нэйт, что дерево стоит у нас во дворе, неподалеку от хлева, где ваша матушка держала корову. И вдруг оно мне засверкало прямо в глаза, хотя смотрел я в другую сторону, где здание суда. Только и оставалось вообразить, что я теперь вижу, что делается у меня за спиной.
Фэй коротко рассмеялась – визгливо, отрывисто, будто сорока застрекотала.
– Да, это что-то странное, – сказал доктор Кортленд, пододвигая табурет. – Ну-ка поглядим хорошенько.
– А я уже смотрела. И ничего у него там нету, – сказала Фэй, – может, ты шипом покарябался, милок, только занозы-то не видать.
– Конечно, тут и память меня подвела. Бекки обязательно сказала бы: так тебе и надо! Кто же подрезает вьющиеся розы до цветения! – Судья говорил все так же, по-домашнему доверительно и спокойно. Доктор совсем близко придвинул к нему лицо. – Ну да розам Бекки это все равно не повредит.
– Нет, – согласился доктор. – Кажется, у моей сестры до сих пор цветет такая роза. Мисс Бекки ей дала черенок.
Лицо у доктора застыло, как маска, когда он потянулся к выключателю, чтобы погасить свет.
– Ой, темнотища какая! – пискнула Фэй. – И чего его понесло к этим колючкам! Прямо ни на минутку нельзя из дому выйти!
– В наших краях так уж повелось – обрезать розы в день рождения Джорджа Вашингтона. – Голос доктора звучал все так же дружелюбно. – Надо было вам попросить Адель, она зашла бы и все сделала.
– Да она сама предлагала, – сказал судья Мак-Келва, коротким взмахом руки отводя этот вопрос, как будто он в суде. – Пора уж и мне чему-то научиться.
Лоурел видела, как он подстригает розы.
Держа садовые ножницы обеими руками, он тяжело выплясывал что-то вроде старинной сарабанды и, отхватывая побеги, делал выпады то в одну, то в другую сторону, словно отвешивая поклоны невидимой даме, пока куст не начинал смахивать на что-то совершенно несообразное.
– Скажите, судья Мак, а потом еще были какие-нибудь неприятности?
– Да так, туман какой-то в глазах, но я уж не обращал внимания на мелочи, после первого раза.
– Вот и надо дать природе самой справиться! – вмешалась Фэй. – Я и то ему все время твержу.
Лоурел только что приехала с аэродрома – она прилетела ночным рейсом из Чикаго. Встречу назначили неожиданно, договорившись накануне по междугородному телефону; отцу всегда доставляло удовольствие беседовать по телефону из их родного Маунт-Салюса в Миссисипи, писать он не любил, но на этот раз ей почудилось, что он что-то недоговаривает. И только под конец он сказал: «Между прочим, Лоурел, что-то у меня в последнее время неладно со зрением. Надо бы показаться Нэйту Кортленду – пусть поглядит, нет ли там чего. – И добавил: – Фэй тоже хочет со мной поехать, кое-что купить».
То, что он сам заговорил о своем здоровье, было настолько неожиданно, да и то, что у него не все в порядке, так странно, что Лоурел тут же вылетела в Новый Орлеан.
Крошечный, мучительно яркий глазок аппарата все еще висел между напряженным лицом судьи и невидимым лицом врача.
Потом сразу вспыхнули лампы на потолке, и доктор Кортленд встал, вглядываясь в судью Мак-Келва, который пристально смотрел на него.
– Так и думал, что дам вам работенку, – сочувственно сказал судья – таким тоном он обычно, до ухода на пенсию, выносил приговор.
– У вас сетчатка отслоилась в правом глазу, судья Мак, – сказал доктор Кортленд.
– Ладно, с этим вы справитесь, – сказал судья.
– Нужно немедленное вмешательство, нельзя терять драгоценное время.
– Хорошо, когда будете оперировать?
– Из-за какой-то царапинки? – закричала Фэй – Чтоб они засохли, эти проклятые розы!
– Но на глазу никакой царапины нет. Повреждена не поверхность глаза, а сетчатка, внутри. Оттого и появляются эти вспышки света. Повреждено то, чем он видит, миссис Мак-Келва. – И доктор Кортленд, отвернувшись от судьи и его дочери, подозвал Фэй к таблице, висевшей на стене. Распространяя запах духов, она прошла через комнату. – Вот поверхность нашего глаза, а вот его разрез, – сказал он. И показал на таблице, в чем будет заключаться операция.
Судья Мак-Келва тяжело повернулся к Лоурел, сидевшей на стуле ниже его.
– А глаз-то не обманул, – сказал он.
– Не понимаю, и за что же это на меня такая напасть свалилась! – сказала Фэй.
Доктор Кортленд проводил судью до двери, вывел в коридор.
– Отдохните у меня в кабинете, сэр, там сестра заполнит вашу карточку, хорошо?
Вернувшись в кабинет, доктор уселся в кресло для пациентов.
– Лоурел, – сказал он, – не хочу я сам его оперировать. До сих пор горюю из-за вашей мамы, – торопливо добавил он. Затем обернулся и впервые пристально посмотрел на Фэй. – Наши семьи так давно знакомы, – сказал он ей; такие слова обычно говорятся, когда о другом говорить невозможно.
– Где именно отслоилась сетчатка? – спросила Лоурел.
– Ближе к центру, – объяснил он и, встретив ее пристальный взгляд, добавил: – Опухоли нет.
– А я вас к нему и не подпущу, пока вы мне вперед не объясните, будет он хорошо видеть или нет, – сказала Фэй.
– Понимаете, это зависит в первую очередь от характера отслойки, – сказал доктор Кортленд. – Затем – от искусства хирурга, а дальше – от того, насколько судья Мак будет подчиняться нашим указаниям, ну и, наконец, от Божьей воли. Вот она помнит. – И он кивком показал на Лоурел.
– Одно я твердо знаю, – сказала Фэй. – Зря на операцию лезть ни к чему.
– Неужели вы хотите, чтобы он ждал, пока совсем не ослепнет на этот глаз? – сказал доктор. – Ведь на другом глазу у него начинается катаракта.
Лоурел переспросила:
– У отца катаракта?
– Я об этом знал еще до того, как уехал из Маунт-Салюса. Развивалась она медленно, постепенно. Я его предупреждал. Но он думает, что времени пока хватит. – Доктор улыбнулся.
– Так было и с мамой. Так у нее все и началось.
– Вот что, Лоурел, я человек без особого воображения, – протестующе заявил доктор Кортленд, – потому и действую осторожно. Ведь я был очень близок с ними – и с судьей Маком, и с мисс Бекки. Я не отходил от постели вашей мамы.
– Я тоже была тогда дома. Вы отлично знаете, что никто вас ни в чем винить не станет, никто и не думает, что вы могли чем-то помочь…
– Если бы мы тогда знали то, что знаем теперь. Не в глазах было дело, у вашей мамы это была только часть заболевания.
Лоурел посмотрела в его лицо – такое умудренное и такое бесхитростное. В нем словно сосредоточился характер всего их края – штата Миссисипи, где он вырос.
Доктор встал.
– Конечно, если вы захотите, я сам буду оперировать, – сказал он. – Но лучше бы вы меня не просили.
– Отец вас от себя не отпустит, – тихо сказала Лоурел.
– А мой голос уже не в счет? – бросила Фэй, выходя за ними. – А я голосую вот за что: забудем про это дело, и все. Мать-природа лучше любых докторов.
– Ладно, Нэйт, – сказал судья Мак-Келва, когда они все собрались в кабинете доктора Кортленда. – Когда?
Доктор Кортленд заговорил:
– Слушайте, судья Мак, мне только что удалось перед отлетом буквально за полу поймать доктора Каномото в Хьюстоне. Вы знаете, он мой учитель. Теперь он применяет более радикальный метод и может прилететь сюда послезавтра…
– А зачем? – сказал судья Мак-Келва. – Слушайте, Нэйт, я бросил дом, спокойную жизнь, прикатил сюда, отдался в ваши руки по одной простой причине: потому что я в вас верю. Вот и докажите, что я еще не слишком стар, чтобы правильно судить о людях.
– Хорошо, сэр, пусть будет по-вашему, – сказал доктор и, вставая, добавил: – Но вы знаете, сэр, что самый опытный хирург за стопроцентный успех этой операции поручиться не может?
– Ничего, я оптимист.
– Не знал, что у нас еще водятся такие звери, – сказал доктор Кортленд.
– Никогда не думайте, что с чем-то покончено навсегда, – насмешливо буркнул судья и в ответ на улыбку доктора рассмеялся коротким смешком, похожим на торжествующий рык старого ворчуна медведя, и Кортленд, взяв с колен судьи его очки, осторожно нацепил их ему на нос.
Вразвалку, как ходят дородные пахари, доктор прошел вместе с ними через переполненную приемную.
– Я записал вас в клинику, там мне забронировали операционную, я и время назначил, – сказал он.
– Да он небо и землю перевернет, только попросите, – ворчливо сказала сестра, когда они выходили из приемной.
– Поезжайте прямо в клинику и устраивайтесь там. – Двери лифта открылись, доктор слегка тронул плечо Лоурел. – Я заказал для вас санитарную машину, сэр, – сказал он судье, – доедете спокойней.
– И с чего это он такой вежливый? – спросила Фэй, когда они спускались в лифте. – Вот увидите, как дело дойдет до счета, тут уж он нежничать не будет.
– Я в хороших руках, Фэй, – сказал судья Мак-Келва. – Мы с ним семьями знакомы.
Резкий холодный ветер подымал пыль по Кэнал-стрит. Там, дома, судья Мак-Келва первым подавал пример всему городу, меняя теплую шляпу в День Соломенных Шляп, – теперь на нем уже была светлая панама. И хотя он раздался в поясе, но лицо исхудало, и вообще вид был не такой бодрый, как в день его свадьбы, подумала Лоурел. Она видела его с тех пор впервые. Все в нем осталось прежним – и темно-коричневые впадины под глазами, наследственные в его семье, как и черные нависшие брови, почти сходившиеся на переносице, – но что он сейчас видит? Она себя спросила: видит ли этот благосклонный взгляд расширенных глаз ее, или Фэй, или вообще хоть что-нибудь вокруг?..
Судья стоял в резком, как огни рампы, свете новоорлеанской улицы в ожидании санитарной машины – он даже не возразил против вызова кареты «Скорой помощи», – и Лоурел впервые в жизни показалось, что он немного растерялся в непривычной обстановке – и не скрывает этого.
– Если ваш Кортленд и вправду знаменитость, пусть бы и сказал сразу, что все сойдет хорошо, – сказала Фэй. – Да и не такой уж он святой: я сама видела, как он шлепнул сестру пониже спины. Тоже мне святой.
Фэй сидела у окна, Лоурел стояла в дверях – они ждали в палате, когда судью Мак-Келва привезут из операционной.
– Да, сдержал он свое обещание, как бы не так, – сказала Фэй. – Обещал как-нибудь свезти меня в Новый Орлеан посмотреть карнавал. – Она поглядела в окно, – Вон он, карнавал этот, собирается. Только нам-то его не видать, отсюда и на парад не выберешься!
Лоурел снова взглянула на часы.
– Все отлично! Держался молодцом! – крикнул доктор Кортленд. Он вошел широким шагом, в халате, пот ручьями тек по лицу, сиявшему улыбкой. – Даст Бог, мы в этом глазу сохраним зрение.
В комнату вдвинули каталку, похожую на стол, к ней был привязан судья. Его провезли мимо обеих женщин. Глаза у него были забинтованы. Голову подпирали мешочки с песком, огромное, недвижное, как гора, его тело было туго спеленато простынями, чтобы он не мог пошевельнуться.
– Зачем вы мне не сказали, какой он будет? – выпалила Фэй.
– Все в порядке, он просто молодчина! – сказал доктор. – Сделали ему самый лучший глаз! – Он открыл рот и громко захохотал. Говорил он с таким возбуждением, с таким явным облегчением, как будто только что пришел с веселой вечеринки.
– Да тут и не разберешь, кто у вас запрятан под этими тряпками. Наворотили кучу с целый дом! – сказала Фэй, глядя на судью.
– Он еще всем нам покажет! Если только там все приживется, он еще увидит побольше, чем ожидал. Исключительный глаз!
– Да вы поглядите-ка на него получше! – сказала Фэй. – Когда же он опомнится-то?
– Ну, времени у него предостаточно, – сказал доктор Кортленд и вышел из палаты.
Под головой судьи Мак-Келва не было подушки, от этого старческая голая шея казалась еще длинней. Не только его большие темные глаза, но и нависшие брови и густые тени под глазами были закрыты непроницаемой марлей. И оттого что с его лица убрали все темное и все яркое, оттого что его губы от наркоза стали бесцветными, как и щеки, он казался неживым.
Палата была на двоих, но пока что судья Мак-Келва занимал ее один. Фэй уже успела улечься на второй кровати. Первая смена пришла на дежурство – сестра сидела у окна и вязала детский башмачок, машинально двигая крючком, так что казалось, она вяжет во сне. Лоурел ходила по палате, словно проверяя, все ли в порядке, но убирать пока было нечего. Казалось, они нигде. Даже то, что было видно из окна, походило на крыши любого города – тусклые, чем-то закапанные, и только кое-где поблескивали, как зеркальца, лужицы от дождя. Лоурел не сразу поняла, что отсюда виден мост, он смутно вырисовывался вдали, и движение по нему было почти незаметным, можно было принять этот мост за какое-то здание. Реки видно не было. Лоурел опустила штору, закрыв широкое белесое небо, отраженное в стекле. Ей показалось, что и сама затопленная сумерками безликая ничья палата – отражение всяких болезненных явлений в глазах судьи, из-за которых он попал сюда.
И тут судья заскрежетал и заскрипел зубами.
– Отец! – Лоурел подошла к постели.
– Да это он всегда так просыпается, – сказала Фэй, не открывая глаз. – Наслушалась я, каждое утро то же самое.
Лоурел стояла у кровати и ждала.
– Какой приговор? – спросил вдруг судья глухим голосом. – А, Полли? – Он назвал Лоурел ее детским именем. – Ну, что бы твоя мама про меня сказала?
– А ну-ка постой! – крикнула Фэй. Она вскочила и подбежала к кровати, шлепая пятками, в одних чулках. – А это кто, по-вашему? – И она ткнула в золотую пуговицу на своей груди.
Продолжая вязать, сестра сказала:
– Не подходите близко к его глазу, милочка. И пусть никто ничего не трогает, а к глазу и не прикасайтесь, даже кровать не троньте, пока доктор Кортленд не разрешит, не то сами пожалеете. А уж с меня доктор Кортленд с живой кожу сдерет.
– А как же, – сказал доктор Кортленд, входя в палату. Он наклонился над больным и бодро заговорил прямо в изможденное лицо: – Ну, я свое дело сделал, сэр! Теперь подошла ваша очередь! И вам будет потруднее, чем мне. Лежать совершенно спокойно! Не двигаться. Не ворочаться. Ни слезинки. – Он улыбнулся: – Вообще ничего! Пусть время идет – и все. Надо ждать и беречь глаз.
Доктор выпрямился, и сестра сказала:
– Хоть бы он подождал, не засыпал бы сразу. Я бы ему попить дала.
– Да он не спит, дайте ему промочить горло, – сказал доктор Кортленд и пошел к выходу. – Он просто прикинулся, как опоссум.
Он поманил пальцем Лоурел и Фэй, чтобы они вышли в коридор.
– Ну вот что: вам теперь придется глаз с него не спускать, вот с этой самой минуты. Дежурьте по очереди. Не думайте, что так просто заставить человека лежать не шевелясь. Я уговорю миссис Мартелло взять ночное дежурство, вы ей отдельно заплатите. Хорошо, что у вас есть время, Лоурел. За ним нужен специальный уход, рисковать тут никак нельзя.
Когда доктор ушел, Лоурел подошла к автомату в коридоре. Она вызвала свою мастерскую в Чикаго, где работала художником по тканям.
– И вовсе вам не надо тут сидеть, мало чего доктор наговорит, – сказала Фэй, когда Лоурел повесила трубку, весь разговор она слушала с детским любопытством.
– Но мне самой хочется остаться, – сказала Лоурел. Все другие деловые звонки она решила отложить. – Отцу понадобимся мы обе, при нем надо быть все время. Не очень-то он привык быть связанным по рукам и по ногам.
– Ну ладно, ладно, можно подумать, что речь идет о жизни и смерти, – сказала Фэй злым голосом. Когда они вошли в палату, она наклонилась над кроватью судьи. – Счастье, что ты сам себя не видишь, миленький! – сказала она.
Судья Мак-Келва жутко и отрывисто всхрапнул, будто задохнулся, потом сжал губы.
– Который час, Фэй? – спросил он, помедлив.
– Вот теперь ты заговорил по-старому, – сказала Фэй, не отвечая на вопрос. – А то он стал заговариваться от этого дурацкого эфира, когда пришел в себя, – сказала она, обращаясь к Лоурел. – Да он и думать позабыл про Бекки, пока вы с этим Кортлендом его не подначили!
До гостиницы «Мальва» надо было ехать полчаса по единственной, последней в городе трамвайной линии, но только там с помощью одной из палатных сестер Лоурел и Фэй удалось найти комнаты на неделю. Это был ветхий особняк на застраивающейся улице. Точно такое же здание рядом служило наглядным примером того, что ждет гостиницу: оно уже было наполовину разрушено.
Лоурел не видела почти никого из жильцов, хотя парадная дверь никогда не запиралась, а ванная всегда была занята. В те часы, когда она уходила и приходила, ей казалось, что единственным обитателем «Мальвы» был кот, ходивший на цепочке по растрескавшимся плиткам вестибюля. Лоурел привыкла вставать рано и сказала, что с семи утра будет около отца. В три часа ее сменяла Фэй, дежурила до одиннадцати вечера и в гостиницу возвращалась спокойно – с ней ехала палатная сестра, которой было по пути. А миссис Мартелло сказала, что она возьмет на себя ночное дежурство исключительно ради доктора Кортленда. Так установилось какое-то постоянное расписание.
Выходило, что Лоурел и Фэй почти нигде не сталкивались в одно и то же время, кроме ночных часов, когда они спали в гостинице. Жили они в смежных комнатах – в сущности, это была одна большая комната, которую хозяин разделил фанерной перегородкой. Лоурел всегда держалась подальше от чуждых ей людей и тут тоже сторонилась тонкой перегородки в смутном предчувствии, что вдруг ночью она услышит, как чужой голос Фэй заплачет или засмеется из-за чего-нибудь такого, о чем Лоурел и знать не хотелось.
По утрам судья Мак-Келва скрежетал со сна зубами, Лоурел его окликала, он просыпался и спрашивал у Лоурел, как она себя чувствует и который теперь час. Она кормила его завтраком и, пока он ел, читала ему газету. Потом, пока его умывали и брили, она спускалась позавтракать вниз, в кафе. Надо было ухитриться не пропустить молниеносный обход доктора Кортленда. Иногда ей везло, и они вместе поднимались в лифте.
– Есть просвет, – говорил доктор Кортленд. – Главное – спешить тут нельзя.
Теперь был забинтован только оперированный глаз. Над ним возвышалась круглая, как муравейник, повязка. Судья Мак-Келва все еще часто прикрывал веком здоровый глаз. Может быть, когда он открывал этот глаз, ему была видна повязка на втором глазу. Лежал он, как требовалось, совершенно неподвижно. Он никогда не спрашивал про больной глаз. Он никогда даже не упоминал о нем. И Лоурел следовала его примеру.
О ней самой он тоже никогда не спрашивал. Раньше он непременно полюбопытствовал бы, как ей удалось выбраться сюда надолго, что там делается в Чикаго, от кого она получила последний заказ, когда ей надо уезжать, – словом, задавал бы десятки четких вопросов. А она уехала, бросив важный заказ – эскиз занавеса для театра. Отец никаких вопросов не задавал. Но оба одинаково понимали, что в тяжкие дни лучше ни о чем не расспрашивать.
Когда-то он очень любил, чтобы ему читали вслух. Надеясь его развлечь, Лоурел принесла стопку книжек и стала читать новый детективный роман его любимого автора. Он слушал безучастно. Тогда она взяла один из старых романов, которым они когда-то вместе упивались, и он слушал еще более равнодушно. Жалость обожгла ее. Неужели он теперь не может уследить за сменой событий?
Молчание отца Лоурел объясняла отчасти его деликатностью во всем, что касалось близких ему людей. (Они ведь всегда жили только втроем: отец, мать и дочь.) И вот она, его дочь, приехала помогать, но ничем помочь не могла – она была обречена на бездействие. Фэй права: любой посторонний человек мог бы ответить ему на вопрос, который час. Лоурел в конце концов почувствовала, что отец принимает как должное и ее присутствие, и ее неприкаянность. Его мысли целиком поглотило одно: само время, течение времени, вот на чем он старался сконцентрировать все свое внимание.
Поняв это, она отчетливее стала ощущать те усилия, которые делал человек в этой палате, неподвижно лежа на постели, и она вместе с ним ощущала время, внутренне стараясь подключиться к нему, словно им предстояло пройти бок о бок весь путь, лежавший перед ними. Шторы на окне были постоянно спущены, и только узкая полоска весеннего света пробивалась снизу, у подоконника. Лоурел сидела так, чтобы свет падал ей на колени, на книгу, и судья Мак-Келва, распростертый, блюдя свою неподвижность, слушал, как она ему читала, как переворачивала страницу, и как будто молча вел счет прочитанным страницам и знал каждую из них по порядковому номеру.
Настал день, когда у судьи попросили разрешения поместить в палату другого пациента. Когда Лоурел вошла утром, она увидела старика – старше ее отца – в новой полосатой бумажной пижаме и очень старой широкополой шляпе из черного фетра. Он сидел, раскачиваясь на качалке, у второй кровати. Лоурел увидела рыжую дорожную пыль на полях шляпы, затенявших круглые голубые глаза старика.
– Боюсь, что света слишком много, сэр, отцу это вредно, – сказала Лоурел.
– Мистер Далзел ночью сорвал штору, – сказала миссис Мартелл чревовещательным голосом профессиональной сиделки. – Сорвали, верно? – громко крикнула она.
Судья Мак-Келва ничем не выдал, что он уже проснулся, да и старик все раскачивался и раскачивался, как будто и он ничего не слышал.
– Он ведь слепой, да еще и глуховат в придачу, – с гордостью объявила миссис Мартелло. – Пойдет на операцию, как только его приготовят. У него злокачественная.
– Пришлось всю лозу поломать, но этого опоссума я уж не упустил, – вдруг пропищал мистер Далзел, когда Лоурел с сиделкой тщетно пытались исправить и опустить штору. Вошел доктор Кортленд и сразу все привел в порядок.
Оказалось, что мистер Далзел – их земляк, тоже с Миссисипи, из Фокс-Хилла. Он сразу же решил, что судья Мак-Келва – его без вести пропавший сын Арчи Ли.
– Эх, Арчи Ли, – сказал он. – Так я и знал: уж если ты и явишься домой, так пьяным в стельку.
Раньше судья Мак-Келва непременно улыбнулся бы. А теперь он лежал все так же неподвижно, то прикрывая зрячий глаз, то уставившись в потолок, и ни слова не проронил.
– Вы из-за мистера Далзела не волнуйтесь, – сказала как-то миссис Мартелло, когда Лоурел утром сменила ее. – Ваш папаша и внимания не обращает на его бредни. Лежит себе тихо, как ему положено. Он у нас чистое золото. Из-за мистера Далзела вы не волнуйтесь, он не мешает.








