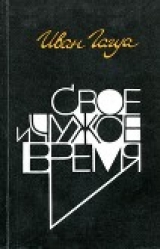
Текст книги "Свое и чужое время"
Автор книги: Иван Гагуа
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 24 страниц)
Прыгая на одной ноге, а рукой опираясь на Гришку, дядя Ваня поскакал к своей одежде.
Изувеченное войной тело дяди Вани и непомерно большая кила, нажитая в беспокойной жизни, делали его похожим на чудовище из сказки, и теперь, пробуждая в памяти ребят страх, навеянный сказкой, застолбило их в воде в ожидании развязки, которая оказалась проще простого.
Доскакав до своей одежды, дядя Ваня шлепнулся голым задом на застиранную майку и стал не спеша одеваться. Сперва просунул в трусы здоровую ногу, потом, пропихнув культю, подтянул до пупа и застенчиво, как фокусник в цирке, осклабился, всем своим видом говоря, что номер окончен и дальше ничего интересного не ожидается.
– Дядь Вань, – сказал Кононов, когда тот уже стоял на своих двоих, то есть на здоровой и протезной ногах, и с сопением просовывал голову в рубашку. – Ты весь ушел в глобус…
Близнецы, только и ждавшие какой-нибудь разрядки, бросились в воду, весело пытаясь утопить друг друга, разделяя с Кононовым его шутку.
Гришка Распутин обмыл на бережку ноги и, сунув в карман носки, обулся на босу ногу, ловя глазами близнецов, барахтающихся в воде, и, поймав-таки одного, спросил:
– Нравится вам в деревне?
– Н-не… – последовал короткий ответ, а затем и жалоба на то, что рыбы на речке не стало из-за постоянного смыва с фермы навоза.
– И родников уже нету, – частили ребята, перебивая друг друга. – И люди все нездешние, и дети к нам не ходят…
– Где им взяться-то, здешним? – проговорил Гришка Распутин и, заметно погрустнев от объяснений, простился с близнецами.
– Дяденька, а вы завтра придете? – в один голос спрашивали его близнецы, отгоняя от себя комаров. – Приходите, мы вам старую деревню покажем. Там уже не живут, один только Фадран и остался…
– Шут его знает, придем или нет, – задумчиво отвечал Гришка Распутин, выбираясь на тропу, чтоб идти в Федюнино.
Дорогой Гришка Распутин достал бутылку водки и краюху хлеба, но ни пить, ни есть почему-то не стал.
– Надо съездить домой! – сказал он, пряча снедь. – Хоть какую копейку своей поднести…
Когда же под вечер приблизились к полустанку, глянул на часы и замедлил шаг:
– Скоро поезд пройдет… Поеду домой…
Кононов, пребывавший в своем привычном, как он сам выражался, состоянии «между слезами и смехом», напомнил о Лизавете, не то всерьез, не то в шутку.
– Бог с ней, с Лизаветой! – махнул рукой Гришка Распутин и, делая шаг в сторону полустанка, прибавил: – Все одно всех вдов не пережалеешь…
Остаток пути мы шли за нашим поводырем – дядей Ваней, умышленно отставая от него, чтоб не сразу запереться в избе, где, возможно, все еще продолжал гостить Колькин друг из Буя, уже отставной хахаль мужней жены. А пока мы шли, Кононов – в который уж раз – пересказывал какую-то смешную историю из жизни, поминая Дальний Восток, на котором он кайлил то ли тресковую, то ли из какой другой рыбы гору, чем-то знаменитую, как Арарат, где тьма-тьмущая всякого зверя, изъедающего живое, плохо защищенное от него.
Касаясь его плечом, я слушал рокочущий говорок и думал о своем, мысленно вознося молитву единственному, кому надлежит следить за человеком, чтобы не пропадали его дороги по бесконечной шири души…
«Мирозритель ты мой справедливый! Не дай угаснуть дорогам моим понапрасну! Подари мне на своем отрезке жизни веру в себя и в своего ближнего, чтобы украсить пройденные версты светлыми страницами чести и любви! Яви озарение свое, чтобы завершить земное отрадою бескорыстья…»
Прохладный ветерок, дохнувший дыханием предвечерья, трепал русые с проседью волосы Кононова и, залепив ими безумные глаза, вернувшиеся к нему из прошлого, уходил вдаль, чтобы, пройдясь по гребню травы, длиться в ней и дальше, потом, когда он затихнет на другом конце земли.
– Гуга, – вдруг прервал мою молитву Кононов и, словно получив облегчение от упоминания Дальнего Востока, тронул меня за локоть. – Когда кончится вся эта наша чехарда, ты обязательно, слышишь, обязательно напиши стихи, а лучше сказку…
Обойдя усадьбы, мы вскоре очутились у знакомой калиточки, ведущей к Стешиной избе, над которой оловянно рдел петушок, резанный умелыми руками, чтобы время от времени напоминать об истоках сущего.
– Лешка приехал! – сообщил я, ища глазами над крышами других изб, уходящих в сумерки, петухов и радуясь им.
– Сукин сын! – сказал Кононов восхищенно, нащупывая взглядом оголенного по пояс Лешку, моющего в углу темного двора под рукомойником голову.
Дядя Ваня с гостем из Буя стояли вполоборота к Лешке и о чем-то тихо переговаривались, пока тот смачно чмокал губами, плеская в лицо водою из пригоршни.
– Стеша опять в ночной? – спросил Кононов, чтобы с чего-то начать вязать разговор и с гостем из Буя, и с Лешкой.
– К мужу на свидание поехала! – сообщил гость и тут же прибавил: – Пора бы и мне домой, да не повидамши…
– Еще бы! – подтвердил Кононов.
Пшеничные усы раздулись над красными губами буйца, словно желая подняться с насиженных мест и улететь, оставив на лице недоумение как знак беззащитности.
Остаток вечера мы с Кононовым коротали на завалинке, хрумкая пряники.
Одевшись, куда-то ушел Лешка. В избе остались лишь дядя Ваня и гость из Буя, и до нас сквозь раскрытое окно долетали отдельные слова их беседы.
Кононов, мечтавший про себя о таком повороте дела, сразу сел на своего конька. Предварительно обозвав всех женщин паскудами, пустился в забавные рассуждения, расставив соперничающие стороны по углам «ринга» за обладание единственным призом – Стешей!
Через час-другой, поднявшись в избу, мы с Кононовым скорее увидели, чем услышали продолжение душевного разговора между дядей Ваней, изрядно угостившимся водкой, и буйцем, уловившим в воздухе какую-то смутную тревогу.
Дядя Ваня, держа в левой руке ножку петуха, мусолил жилистое мясо, правой рукой прикрывал стакан, в котором на донышке светилась недопитая водка, и, прищурив один глаз, хмельно слушал бормотание сотрапезника.
Кононов решительно подошел к нему, вырвал из руки ножку, как матери вырывают лишние куски у детей, и швырнул ее за окно.
– Хватит обжираться!
Дядя Ваня недоуменно сощурил и второй глаз, нервно засучил головой, желая что-то сказать, но, так и не высказавшись, поднялся и неуверенными шагами пошел к себе.
– Последнего, что ли, петуха?.. – спросил Кононов, когда буханье дяди Ваниного протеза умерло в избе.
Буец кивнул головой, обнажая полную обойму целых зубов.
– Садись-ка снедать! – пригласил он сперва Кононова, а затем и меня.
Но тут бесшумно открылась дверь, в нее вошла разбитая тяжелыми сумками и дорогою Стеша и, равнодушно окинув взглядом стол, направилась в спальню. Побыв в ней пару-другую минут, вышла к нам и, обращаясь только к гостю из Буя, проговорила:
– Ужинаешь?
– Ужинаю, – отозвался гость и с веселым вожделением, пьяно окинул Стешу взглядом, пытаясь подняться.
– Сиди-сиди! – предупредила его попытку Стеша, прочитав в глазах хмельное томление.
В полночь, когда мы с Кононовым, устав ждать Лешку, улеглись по постелям и выключили свет, оставив вконец охмелевшего гостя на произвол его собственной совести и милосердия Стеши, воцарилась обманная тишина. И, зная об этом, мы, против воли, каждый в своей кровати, принялись ждать, когда эта зыбкая тишь наконец нарушится. И она не заставила себя ждать.
Пьяный гость, пользуясь огоньком сигареты, осторожно ступая по полу, двинулся к спальне, откуда на него предупредительно цыкали.
Промелькнувший у входа в спальню слабенький лучик быстро погас, и так же быстро вспыхнули два стесненных дыхания.
– Витя, зачем же ты приехал? – послышался сдавленный шепот. – Завтра же отправляйся домой!
– Зачем же мне отправляцца? – отвечал буец. – Ты же писала: приехай, приехай!
– Писала! А сейчас прошу, чтоб уехал…
– Чо ты гонишь меня-то? – обижался буец.
– Не гоню, Вить, так надо!
– Колька, что ль, приезжат? Как он там, не зачумел?
– Худущий… Кости да кожа… Все курит и курит…
Вскоре послышалось носовое свистение с завитушками, – это Стеша, только что перешептывавшаяся с гостем, как-то сразу умолкла и уснула.
– Сука! – недовольно пробормотал Кононов, будя меня толчками в спину.
За окном стоял дневной свет, затененный легкими тучками, перебегал солнечной позолотой через дорогу в открытое поле, как бы поделя деревню надвое – на пасмурную и солнечную.
Опасаясь помешать своим присутствием Стеше с буйцем, я выскользнул во двор и устроился на завалинке, с грустью думая о предстоящей поездке в Москву. Признаться, ехать в коммуналку, где, кроме постоянных квартирных баталий, ничего не светило, совсем не хотелось, как не хотелось и оставаться здесь, – донимало предощущение чего-то ненужного и неприятного. Из головы не выходил Лешка, его вчерашнее исчезновение… Но делать было нечего. В десятом часу отходил поезд, которым мы могли ехать в Москву, а там, расставшись, ждать дальнейших указаний.
Пока я раздумывал о вещах малоприятных, вышли Кононов и дядя Ваня, не сговариваясь, в один голос поинтересовались, куда исчез Лешка, и с этим вопросом обратились к Стеше, отозвав ее в сторону. Она удивилась даже больше нашего, воскликнув в свою очередь:
– А куда же он мог деваться?
Собрав свои вещи и простившись со Стешей и буйцем, мы направились было к полустанку, но у самой калитки нас окликнул человечишко в размахайке. Это был Тишка, или, как его еще звали за глаза, Мартышка, знакомец бугра.
– Возвертайтесь, – сказал он и, нащупав своим крюком рукав дяди Вани, отозвал его в сторону, протянул бумажку и зашептал на полужаргоне: – Сейчас надо получить семь комплектов белья и кровати… С утра приедут бить мелочевку…
– Кононов, – вдруг официальным тоном заговорил дядя Ваня, начиная потеть лицом. – Поезжайте с Гугой в правление… Вот бумага… Завхоз вам даст белье и кровати… Понял?
– Так точно, понял! – ответил Кононов, улавливая в словах дяди Вани подспудную тревогу.
Кононов, не любивший бить мелочевку, был рад, что не ему предстоит эта работа.
– Сколько же надо мелочевки? – спросил он, когда дядя Ваня изложил план действий.
– Сто пятьдесят тысяч! – ответил Тишка и, как бы не доверяя исполнения поручения нам, двинулся за всеми и сам. – На чем же поедем?
– На чем стоишь! – ответил Кононов, оглядев Тишку, как оглядывают родители своих чад, прикидывая в уме, насколько они могут вытянуться за лето, и улыбнулся своей догадке. – Ты чего это с другой стороны припер?
– С какой надо, с такой и припер! – огрызнулся Тишка и засеменил сбоку, недоверчиво оглядывая попутчиков снизу вверх. – Новенький не знает, что вы здесь? – спросил Тишка, когда понял, что его оставили в покое.
– Знает! – отозвался Кононов.
Это сообщение Тишке не понравилось.
– Плохо…
– Да-а… Хорошего мало, – согласился Кононов. Тишка при своем малом росте и неопределенном возрасте оказался довольно предприимчивым человеком.
Он быстро нашел завхоза, дремавшего в одном из амбаров, живо выволок его, оформил с ним все бумаги и даже подмахнул расписку в получении необходимого инвентаря. Сбегал к председателю и, не отходя, как говорится, от кассы, получил телегу, ту самую, на которой тащили пресс. Взгромоздив на нее все пожитки, примостился рядом с Митрием и не проронил ни слова, пока Митрий не хлестнул недовольно своих лошаденок и не погнал их в обратную дорогу, матерно понукая.
– Ненадежный, – сказал Тишка, глядя вслед Митрию. – Разболтает.
Прежде чем расставить и застелить кровати, Тишка сам, без посторонней помощи прибрался в избе, стоявшей чуть поодаль от цеха. Словом, мы с Кононовым оказались теми свидетелями Тишкиной деятельности, которым по прибытии бугра надлежало ее отметить, дабы сохранить за ним престиж верного и добросовестного исполнителя.
На обратном пути, едучи на своих двоих, Тишка изрядно размяк, порываясь в магазин за съестным, утолить жажду и алчбу, так трудно переносимую коротышками. Но магазина поблизости не было, а потому пришлось терпеть до самого дома, хотя и там в обстановке нервозности хозяйки и наскока буйца ничего хорошего не ожидалось.
Отворив дверь в избу, мы увидели мирно беседующих дядю Ваню и Стешу.
Стеша выглядела вялой, как растение в засуху. В основном поддакивала или улыбалась, блуждая мыслями далеко-далеко, о чем говорили отсутствующие глаза.
– Может, и не было? – предположила она.
– Как же, был! – сказал Кононов, поняв, что Стеша обращалась не к кому-нибудь, а лично к нему. – Был. Голову вымыл… И ушел…
Когда принялись за ужин с чаем, на котором главенствовало петушиное мясо, ворвался буец со свертками под мышками. Они были круглы, а потому не обманули ожидания дяди Вани, обиженного на то, что Гришка Распутин так и не оставил ему чекушку, хотя покупали на общие деньги.
– Отправляцца мне на рассвете, – сообщил буец, превращая свертки в бутылки. – Отметим, что ль?..
– А то как же, – сказал Кононов иронично. – Как же такое не отметить.
Стеша спрятала глаза. Безучастно сидела у краешка стола, словно с приходом буйца из нее выхлестали последнюю влагу. Опустились плечи, груди развалились в стороны под ситцевой кофтой.
– Да бут тебе, – сказал буец, успокаивая Стешу. – Амнистия, говорят, осенью бут…
– А на кой она мне, амнистия?! – отмахнулась Стеша и, сосредоточившись, к чему-то прислушалась. Вскоре послышались торопливые шаги и, как позже сказал Кононов, амнистия в образе Лешки замаячила в двери.
– Добрый вечер, – сказал Лешка и, обозрев всех до единого, остановил взгляд на пустом стуле, где обычно сиживал за столом Гришка Распутин.
Стеша невольно потеснилась, чтоб усадить Лешку рядом, но стула на ее стороне не оказалось, и потому он сел на место Гришки Распутина.
– Гришку не видал? – вдруг отрывисто спросил дядя Ваня, настораживаясь. – Закругляемся мы… Вот от бугра приехал, грит, чтоб мотали удочки.
Лешка не ответил, только длинно посмотрел на Кононова.
– «Индюшку» будем пить? – зачем-то неожиданно спросил Кононов и опустил глаза.
– Нет! – сказал Лешка. – Водку! – И приветливо улыбнулся буйцу. – Угостишь?
– Угощу! – так же приветливо ответил с улыбкой буец и сразу потянулся к бутылке.
Прищурив чуть припухшие веки, Стеша глядела то на буйца, то на Лешку, не разделяя их возникшей взаимной симпатии.
Дядя Ваня первый поднял стакан, выпил, не дожидаясь, пока скажут тост, и снова подставил его под горлышко бутылки, как бы возмещая убытки, нанесенные ему давеча Гришкой Распутиным.
– Ты что? – ругнулся Кононов. – В двойном размере… в атаку роту поднимаш, что ли?
Все выпили по второму разу, и дядя Ваня, выдыхая водочный дух, весело ответил Кононову:
– А что ж? – и потянулся к чудом сохранившемуся крылышку петуха, хищно вгрызся в него, шумно сопя ноздрями.
– Смотри зубы не обломай! – с упреком процедил Кононов, таращась на дядю Ваню.
– Нехай! Они у меня железные!
Пили молча, зло, словно мстя кому-то, и почти не закусывали. Лишь Тишка, воровато пристреливаясь глазами то к хлебу, то к колбасе, тянулся крюками, и сглатывал не жуя, и пил наравне с другими, чуть-чуть оставляя на донышке.
Быстро захмелевший буец рассказывал какие-то истории, перескакивая с одной на другую, и нежно, уже безо всякого стеснения поглядывал на Стешу, поминая некстати и Кольку, своего армейского дружка, с которым не то в Либаве, не то под Каунасом служили вместе в «десантке». Рассказывая, подхихикивал, чтоб разбудить в других чувство радости и застольного веселья, но никто так и не рассмеялся, не похлопал по плечу и не ободрил. Все постно молчали и стригли глазами. А когда опорожнили и вторую бутылку, Тишка встал и почти командным голосом потребовал ложиться, на что Кононов без лишних слов указал ему место на полатях, откуда, словно по заказу, дохнуло тулупом.
– Полезай! – сказал Кононов. – Только сандалики внизу оставь!
Тишка проворно вскарабкался на полати и, уже по-хозяйски возясь наверху, стал по-кошачьи часто-часто икать, не забывая в промежутках помянуть бога, сотворившего и его по своему образу и подобию…
– Шухарной! – отметил буец и хотел было потянуться рукою к Стеше, но, встретив ее холодный взгляд, укротил свое намерение, не теряя надежды получить за столь длительное воздержание вознаграждение чуть попозже.
– Завтра уходим, – сказал дядя Ваня, обращаясь к Стеше и, хмельно поерзав на стуле, тяжело поднялся, чтобы идти в «темницу», но не успел выйти за дверь, как оказался в объятиях Гришки Распутина, упавшего как снег на голову.
– Ваня, сукин ты сын, спать, что ль, собрался? Не пойдет такое дело! Возвертайся… Ты посмотри, что я принес!
– Ты давеча, Гришка, – сказал с обидой дядя Ваня, – убег с водкой…
– Потому убег, что запамятовал! – урезонивал его Гришка Распутин и, толкнув на прежнее место, подошел к Стеше, протянул обернутую в газету коробку конфет. Стеша развернула бумагу и, увидев на коробке красочный храм с колоколами, благодарно улыбнулась и привстала. Гришка Распутин подлетел и поцеловал ее левую руку, но не в тыльную сторону, а прямо в ладошку.
– Сегодня, ребята, пьем коньяк!
Дядя Ваня искренне поморщился и пробухтел:
– Ты бы лучше бормотухи принес! Не наше это питво!
– Теперь будет наше! – твердо сказал Гришка Распутин и, найдя удобную минуту для переговоров со Стешей, увел ее за печь. Стеша вышла из комнаты и вернулась с раскрашенной девушкой.
– Сродственница, – коротко сказал Гришка Распутин. – В Иванове живет… Случайно встренулись… – Стараясь говорить обыденным голосом, без волнения, Распутин съезжал на ненужное просторечие, которое, как и сама девушка, ярко напомаженная, не убеждало в искренности родственных чувств.
Дядя Ваня, усекший, чем жертвует нынешней ночью, чтобы не делать из всего невидаль, – Гришку Распутина, слава богу, знали все хорошо, – буднично и просто сказал:
– Сидай! – Опростав между собою и Гришкой Распутиным место, поманил девушку, но, тут же вспомнив про коньяк, досадливо поморщился на дружка. – Дак выкладай, коли что принес!
Пока Гришка Распутин извлекал из вещмешка «питво», противное рабочему классу, Кононов, оказавшись почти напротив ночной гостьи, названной «сродственницей», разглядывал ее по-молодому дерзко, высвечивая два золотых клыка.
– Хотьковская? – спросил Кононов после недолгого раздумья.
– А ты откуда знаешь? – ответила та вопросом на вопрос и пренебрежительно улыбнулась. – А что дальше?
– А рыжего сапожника-грузина знаешь? – еще настойчивее спросил Кононов и тоже ответил улыбкой.
– А дальше что?
– А дальше – Иван Митрофанович! У него я прописан…
– Дядя Сергей?
– Он самый…
– А сказали, что умер…
– Наврали! Мне пока умирать-то нельзя!
– Это почему? – поинтересовалась девушка, и лицо ее приняло детскую естественность.
– Еще не все дороги прошел.
– Знакомые, что ли? – поинтересовалась Стеша, невольно слушая разговор Кононова с распутинской «сродственницей».
Кононов поднял руку чуть повыше стола и мягко, как бы окунаясь в прошлое, сказал:
– Вот с такого возраста!
Гришка тем временем бухнул на стол три бутылки дагестанского коньяка и, потерев жарко ладони, извлек коробку конфет, такую же, как и давеча, яркую.
– Стеша, давай-ка рюмки!
Дядя Ваня снова выразил неудовольствие, сперва жестом, потом словом, сказав:
– Окурвился ты, Гришка!
Но «окурвившийся», не обижаясь на дядю Ваню, разлил по рюмкам коньяк и показал, как следует пить не по-рабочему – «культурно». То есть выцедил не спеша рюмку, а затем, взяв конфету, стал заедать. Школа явно была не распутинская, ибо такая «культурность» была ему навязана не далее как сегодня молодицей, потребовавшей от старого невежды утонченного обращения…
Дядя Ваня, путая очередность коньяка и шоколада, все больше и больше хмелея, начинал фыркать про себя на действия за столом, где за «культурным» питием шло довольно грубое повествование о разных человеческих слабостях, доходящее от смешного трагизма до пошловатого, большей частью по вине подвыпившего Гришки, потерявшего такт и чутье, а также ориентацию на точность…
Слушая его рассказы, буец взрывался неудержимым приступом смеха, отчего с полатей тут же свешивалась голова Тишки, чтобы уловить соль и самому наверху похихикать.
Лешка, после первой рюмки коньяка наотрез отказавшийся мешать напитки, в середине застолья незаметно ускользнул и куда-то запропастился.
Гришка Распутин со своей «сродственницей» пошли в «темницу».
– Гуга, – застонал в хмельной радости Кононов, стелясь на кушетке рядом со мной. – Какая она была девочка… вот только позабыл, как ее звать… ты понимаешь, Гуга, как это вчера все хорошо выглядело… – Кононов, напрягая память, все тщился вспомнить имя еще вчерашней девочки, но никак не мог, и вскоре уснул по-детски сиротским сном, и уже через полчаса снова проснулся, и, полнее ощутив свое детское одиночество, плаксиво заморгал ресницами на свет не погашенной лампы и огляделся по сторонам.
Дядя Ваня спал на раскладушке, на которую после смерти Синего никто не ложился, и временами стонал от тяжести сновидений, бормоча бессвязные слова.
– Какая, Гуга, была девочка… – снова заговорил Кононов. – А теперь вот с дедом спит… Как же ее звали?..
– Спи! – сказал я сердито.
– У Гришки завтра спрошу…
– Очень нужно Гришке знать имя шалавы! – зачем-то сказал я, больно раня память Кононова о той поре, когда он помнил детство девочки, имя которой напрочь забыл по прошествии десяти – двенадцати лет.
Кто-то незаметно чиркнул выключателем, и мы разом провалились в вязкую гущу ночи.
С грохотом пронесся ночной поезд, сотрясая от тяжелой раскачки избу, и где-то на окраине пронзительно гуднул раз-другой, чтоб призвать к осторожности запозднившихся ночных гуляк. А когда все стихло в просторах ночи, раздался сердитый и нарочито громкий голос Стеши.
– Не зверь-та, понимат… – ответил ему голос буйца.
– Уйди! – пуще прежнего дрогнул холодной решимостью голос Стеши.
Через несколько секунд из спальни выскользнуло к нам белое привидение и шумно наткнулось на стул.
– Нечто упал? – как можно насмешливее сказал Кононов, вымещая на буйце накипевшее зло. – Не ушибся?
К ушибленному поспешила Стеша в одной ночной рубашке. Включила свет, принесла матрац с постельным бельем, бросила между кушеткой и раскладушкой и, отойдя сердцем, почти ласково сказала:
– Ложись, Вить!
«Вить», стесняясь своего вида, зашлепал босыми ногами к постели, шлепнулся на нее задом и под щелчок выключателя тихо задал неуместный вопрос:
– Колька-то как?
Кононов выматерился как можно смачнее, чтобы и Стеше, и буйцу было понятно, и разразился не то смехом, не то нервическим плачем. А когда он наконец умолк, комнату вновь поглотила вязкая гуща ночи и изба от ближнего угла до дальнего, заканчивавшегося нужником и насестами, разом погрузилась в тишину, в которой и Кононов, сверкавший белками, и я полнее принадлежали самим себе. Но недолго. В комнате вскоре замелькало белое и направилось в спальню, откуда послышался раздумчивый голос Стеши:
– Ну что, Вить, опять пришел? Неужто непонятно, устала я, устала.
– Ты что меня так отправляш?
– Как, Вить?
– Сама видь знаш, как!..
– Ой, Вить, мне бы лучше повеситься! – обреченно сказала Стеша и разрыдалась. – Лучше б повеситься! – повторила она. И разговор тут же прервался. Послышался скрип отворяемой калитки, а с ним шлепанье босых ног, белое привидение, теснимое из спальни, возвращалось на унизительное место.
Отворилась дверь, кто-то впотьмах, переведя дыхание, встал, осваиваясь глазами, и прямиком последовал в спальню…
Кононов тут же отреагировал, толкнул меня ногой, как бы приглашая на представление, которое началось со Стешкиного вопроса:
– Где ж ты был?.. Разве так можно?
– В лагере был! – отвечал Лешка, должно быть, раздеваясь наспех, отчего слова булькали у него в гортани. – Сестренка у меня там…
Буец, потревоженный неизвестным гостем, присел на корточки и стал вслушиваться, мотая головой возле Кононова.
– Какой лагерь?
– Да не тот – пионерский!
Буец между тем, не зная, чем занять руки, терзал простыню на взъерошенном тюфяке, дергая ее из-под себя, полагая, что она должна привлечь внимание Стеши и усовестить ее напоминанием об обреченном лежать в унизительной близости от той, к кому приехал.
– Сбей, сбей! – сказал Кононов, склонившись над постелью буйца и испытывая упоительную усладу в злорадстве. – Поэнергичнее! Ты что, в армии, что ль, не служил?
– Служил, – нехотя отозвался буец и резко уронил голову, чтоб отвязаться от назойливости Кононова.
– Ты чего? – шепнул Кононов, угнетая буйца своей навязчивостью. – Выспишься еще…
– Мне отправляцца рано…
– Все одно, успеешь…
На полустанке фыркнул и, уходя дальше, гулко застучал колесами поезд.
– Ивановский! – тихо отметил Кононов.
Поезд уже где-то отстукивал свои километры, но я ощущал себя его пассажиром, проезжающим мимо полустанка, горсточки черных изб, одна из которой приютила здесь мою плоть, а душе дала простор, и становилось грустно от разрозненности прошлого и настоящего, от первого опавшего лепестка жизни до последнего, подспудно сознавалось, что время неделимо, как и цветок розы, украсивший себя единством соцветия… И, проезжая мимо своего и чужого прошлого ночным пассажиром, я как бы обозревал неделимость пространства и времени глазами отошедшего в нети… и горячие чувства захлестывали волной сочувствия к себе, к случайным и близким попутчикам жизни, потрясшим память живого, чтобы нести и их жизнь вместе со своею, ибо идущий впереди не свободен до тех пор, пока память его не погасла…
Охваченный безумием живого и животворного, я так далеко ушел в себя, что частые поколачивания по голени не сразу протрезвили меня.
– Гуга, – продолжал колотить меня ногой Кононов, сопровождая удары жарким придыхом. – Ты что скулишь, как цуця?
– С чего ты взял?! – обиделся я, не совсем понимая, что он имеет в виду.
– Бормочешь! – весело прошептал он чуть громче прежнего. – Колдуешь и подскуливаешь…
– Ладно, давай-ка спать! – сказал я миролюбиво, словно прося прощения за «колдовство и скулеж».
На полу время от времени, нарочито тяжко вздыхая, ворочался буец и пытался уснуть, но чувство ревности и обиды не давало ему покоя. А тут еще Кононов, развлекавшийся подвернувшимся случаем.
– Что, друг, – вопрошал он, когда буец, вздохнув, переворачивался. – Мягко стелют – жестко спать?
Буец терпеливо отмалчивался, мучимый Кононовым и похотью.
В спальне сшиблись колокольчики и разом затихли, окропив легким перезвоном ночной мрак.
– Гуга, сейчас он будет мстить! – быстро прокомментировал Кононов, когда во мраке ночи умерли ознобистые звуки колокольцев и проснулись углы, чтобы принять в лоно своего таинства радость двоих, будя и подгоняя кровь остальных к своей памяти. – Будет мстить! – повторил Кононов, обращая и гулкую ночь в сообщницу.
– Кто кому? – тревожно спросил буец, обращенный Кононовым в сообщники.
– ОН! ЕЙ!
В спальне вспыхнул жаркий шепот вперемешку с удушливым ознобом, и тихонечко проснулись колокольца и стали с нарастающей силой перепевать друг дружку, заглушая тоскующий голос Стеши, охваченный глухой мужской местью за прошлое, настоящее и будущее.
– Самец! – сказал Кононов, окрашивая это понятие и восхищением и упреком. – Слышишь, буй?
Тем временем в спальне грохнуло, загремело, поднимая на дыбы ночь, словно двух жестоко любящих коней, сцепившихся в смертельной схватке согласия.
– Во как! – подхихикнул Кононов и тут же угас.
А я, вытянув руку, стукнул его по плечу открытой ладонью, и, тоже шалея от запаха чужой страсти, сунул себе в рот кулак и больно стиснул его зубами, не переставая слушать, как сшибаются лбами колокольца, растекаясь в сладкой истоме… А на полу, извиваясь белым червячком, стонал и плакал буец, не решаясь пока встать и покинуть избу.
– Не в коня корм! – посыпал рану солью Кононов, обращаясь к буйцу, когда усталые колокольца задребезжали вразнобой и утихли. – Считай, всех петухов пережрал, а толку на грош! – Затем, чуточку раздумав, приправил покруче: – Если б Лешка этих бы петухов… а?
Буец скрипнул зубами, но остался стонать на полу сходящею с нереста рыбой.
– Вот как быват, – продолжал Кононов добивать того, кто еще давеча звался его другом. – Один все жрет да жрет… а другой, можно сказать, натощак… и во как! Ох и шельма же девка припаялась к парню! – Тут, рассчитав нужную паузу, он обратился ко мне: – Ей-богу, Гуга, не видал такого стручкового перца!
– Слышь, хватит, – взмолился буец, – не чурка же видь какая, а человек!
Буец разом вскочил на ноги и, хватая в охапку одежду, вылетел в дверь, на что-то по пути натыкаясь.
– Чао какао! – длинно прошептал Кононов ему вослед, упиваясь мщением за паскудство. – Дуй прямо в Буй!
Вскоре изба тяжело вздохнула натруженной грудью и отошла ко сну. Уснул и Кононов, усладившись чувством отмщения. Мне мерещились чьи-то тени, шаги, и я все вставал и высовывался в окно. Потом, чтобы дать себе успокоиться, захлопнул и до половины зашторил все окна. Шаги смолкли, притихло, только дядя Ваня изредка причмокивал губами и замирал, словно прислушиваясь к самому себе.
Под утро, поспав, должно быть, с полчаса, я проснулся в тревоге: во сне чья-то черная собака бросилась укусить меня за руку, но что-то помешало ей это сделать, и я проснулся, все еще продолжая испытывать страх. Сон во мне запечатлелся отчетливо, и я понял, что нас ожидает недоброе. Уснуть теперь значило пренебречь сновидением, к тому же, когда снилась собака, сомневаться не приходилось: во все время скитаний примета эта постоянно хранилась в моей памяти.
Я наскоро оделся и заправил постель. Тут же разбудил Кононова и дядю Ваню, таинственно шепнув им, чтоб были готовы к очередному подвоху.
– Разбудите Лешку!
– Чего там? – всполошился дядя Ваня, судорожно ощупывая карманы с деньгами.
– Зовите Лешку!
Пока мы, перешептываясь, убирали постели, сметая следы нашего здесь пребывания, с полатей сошел Тишка и, влезая ногами в сандалики, покосился на Лешку, долго возившегося в спальне, и приложил палец к губам. А когда наконец тот вышел, я измерил его долгим взглядом и сказал, чтоб он никуда не отлучался.
– Что произошло? – поинтересовался он, отвечая на долгий взгляд долгим же, чуть насмешливым взглядом.
– Скоро произойдет…
Кононов нервно ощерился, перехватывая наши взгляды, и показал два золотых зуба.
– Менты?
– Поглядим! – ответил я, еще раз переглянулся с Лешкой и, чтоб не задерживаться на нем, сказал Тишке: – Огородами ступайте… Мы с Сергеем нагоним…
Стараясь не стучать, дядя Ваня вышел из комнаты и по длинному, во всю избу коридору повел к заднему крыльцу остальных. Мы с Кононовым попеременно стучались в «темницу». И когда в ней завозились, толкнули дверь, за которой, прикрываясь ладонями, стоял голый Гришка Распутин, по-своему истолковавший наш визит и потому отпрянувший от топчана, на котором, на измятой и уже серой простыне, ничком лежало молодое существо…








