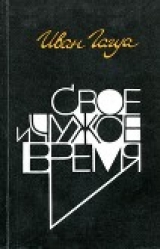
Текст книги "Свое и чужое время"
Автор книги: Иван Гагуа
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 24 страниц)
Возвратясь после очередных проводов домой замученный игрою Джулии, я замертво падал на постель, не в силах раздеться, и тут же засыпал, получая во сне разрешение плоти.
Ранним утром, жестоко обманутый и униженный сном, тайно от домашних я смывал последствия интимности и уходил в библиотеку, чтобы отравить молодую жизнь чтением любовных романов. А к концу дня, вновь получив неуемный заряд страстей в ребро, совал под мышку учебник по истории и спешил к особнячку с ярко-красными ступеньками, чтобы подготовить Джулию к заданному накануне уроку.
Слабость Джулии к истории была чрезвычайно велика, когда дело касалось каких-нибудь дворцовых интриг. В таких случаях она запоем читала весь раздел до тех пор, пока не доходила до сальных развязок. В остальных же случаях Джулию было не узнать. Она сонно листала страницу за страницей и ничего не могла запомнить. Но если кто-нибудь брался пересказать ей урок, она кое-как усваивала его.
Садясь на мягкий диван с овальным зеркалом на высокой спинке, я приступал к пересказу урока, вплетая в него тут же присочиненные интриги, что легко мне сходило, поскольку и сам историк слыл в этом плане большим сочинителем. И Джулия, как это ни странно, получала баллы выше, чем я, что она без ложной скромности приписывала своей незаурядной способности делать из чужого пересказа «пятерку». Такое положение конечно же ущемляло мое достоинство, но делать было нечего. История была тем единственным звеном в наших отношениях, которое скрепляло наш непрочный союз.
Сидя на диване как истый историк, я блуждал глазами по комнате, в которой, как правило, присутствовала бабушка Джулии, и был доволен, рассчитывая на расположение старушки в дальнейшем.
Бабушка и впрямь была ко мне тепла. Корила Джулию, если видела меня расстроенным. А когда мы с Джулией уходили в школу, неизменно напоминала:
– Надеюсь на тебя!.. После уроков не задерживайтесь!
Джулия, слыша эти слова бабушки, морщила нос, нисколько не признавая возложенную на меня старшими опеку, но не перечила ей.
А я, пользуясь официальным разрешением опекать Джулию, по пятам следовал за нею и не давал никакого послабления, за что она презрительно фыркала на меня на глазах у всей школы. Однако это нисколько не мешало ей поздними вечерами по пути к дому притискиваться знобящим телом к моему и с придыханием ухмыляться то ли игре, то ли моей слабости.
Нацеловавшись с ней до одури субботними вечерами, я плелся весь обратный путь за семь километров, чтобы как-нибудь дожить до понедельника, заранее зная, что в воскресенье дома не усидеть…
Звериная тоска по Джулии иногда воскресными вечерами водила меня в поселок, чтобы подглядеть из-за укрытия тень ее существа в свете керосиновой лампы. С клокочущим в горле сердцем я простаивал часами подле заветного особнячка и питал себя надеждой, что за все муки сердечные буду вознагражден ответной любовью Джулии.
Джулия с матерью работали в городе. И никто не мог похвастать знанием сферы их работы. Только можно было видеть, как изо дня в день ранними утрами уезжали они на кабриолете Союзтранса, а ко второй половине дня возвращались на «Победе» в сопровождении двух элегантных мужчин в галстуках.
Горбоносый водитель, высунувшись из кабины, въезжал в поселок, напоминая собой громадного попугая. Подкатив к особнячку, он первым вылетал из машины и настежь распахивал дверцы, сперва Джулии, кокетливо улыбавшейся на переднем сиденье, а затем и ее матери с противоположной стороны салона.
Вышедшие из машины женщины, отступив чуть в сторону, кивком прощались с двумя элегантными мужчинами, остававшимися в машине, и торопливо исчезали за воротами.
Порою в праздничные вечера, свободные от школьных занятий, мне удавалось подсмотреть, как в сопровождении знакомых мне мужчин вкатывалась в поселок Джулия вместе с матерью.
Несмотря на позднее время, я отчетливо узнавал каждого из них. Прощание в такие поздние часы длилось дольше обычного.
Не спеша выйти из машины, женщины о чем-то весело переговаривались с мужчинами, приглушенно похохатывая над чем-то.
Эти мучительные сценки, подсмотренные из-за укрытия, обрывали во мне всякую жизнь и заставляли бежать опрометью назад.
Под ногами через поле убегала узкая тропа, как затерявшаяся в мироздании надежда. Опоясав ночное небо, пылал Млечный Путь, как мое удаляющееся счастье. Тихий лунный свет серебрил купы далеких кипарисов над кладбищем и уходил за горизонт мерцающим маревом, усугубляя чувство одиночества и надломленной любви. Где-то спрятавшись в листве, надрывался соловей, изводя в плаче грудных младенцев.
Не в силах вынести пронзительного одиночества в ночи, я падал под деревом и беззвучно плакал, мечтая о смерти…
Ничто на свете не могло меня утешить! Никто не мог отвести от меня смерти! Но Джулии не нужна была ни моя жизнь, ни смерть моя!
Просыпаясь на заре от щекочущих лучей солнца с непросохшими ночными слезами на щеках, я вставал и нехотя шел на работу к своему единственному читателю, чтобы подобрать ему очередной роман, снабдив его изустной аннотацией.
Наши с председателем вкусы во многом сходились, поскольку мы оба страдали одной болезнью – безответной любовью.
Он, в отличие от меня будучи человеком, обремененным семьей – женой и тремя дочерьми, – так же как и я, был романтически влюблен.
Особа, которая так занимала его сердце, сидела через комнату в бухгалтерии и неистово щелкала костяшками счетов, костяшками легкими и пустыми изнутри, как и трудодни, которыми нас обкладывали в те послевоенные годы.
Страдая тайно и явно, – тайно потому, что об этом не догадывался муж этой особы, а явно потому, что об этом знали все конторские работники, – председатель прибегал, как и я, к одному средству – к чтению, понимая, что оно способно заглушить ту боль, которая в нас так свербела. Но боль, как и всякое другое явление, требующее выхода, находила такой путь и в нас посредством стихов, с помощью которых мы занимались самоврачеванием.
Выглядело это так.
Я брал очередной роман для председателя и, вложив в него лист бумаги с двумя начальными строками стихов, относил к нему и через два-три дня получал готовое четверостишие.
Ты говоришь: любовь – привычка!
Отвыкнуть можно, коль не раб…
Зачем советами нас пичкать,
Коль сам к такой привычке слаб?
Так однообразно и тягуче тянулись дни, недели, месяцы. И если председательскому увлечению не было видно конца, то моему уже тогда угрожала трагическая развязка: неуспехи – равно как и в школе, так и в делах сердечных – разрастались с такой быстротой, что очень скоро стало ясно, что мне не постичь сложных математических уравнений, не понять до конца, за каким чертом высчитывать углы всевозможных треугольников, определять их постылые периметры, а также – зачем двум рядом бегущим линиям так и бежать бесконечно рядом безо всякой перспективы когда-нибудь перехлестнуться…
Отчаявшись этими открытиями и не найдя никакого к ним противостояния, я изрек подсознательное слово, несшее в себе разрешение ото всего накопившегося в душе. Слово таило угрозу моей жизни через то действие, которое в нем было заложено изначально.
Владея этаким оружием и вынашивая его применение в сознании, я носил самого себя как человек, решившийся на безумный шаг, находя в нем спасение своему достоинству. Теперь с моего лица не сходила ироническая усмешка, рожденная обреченностью своего положения. Сгустившиеся зловещие тучи питали меня отравляющим ядом подозрения.
В особнячок Джулии я стал не вхож.
С некоторых пор диван с овальным зеркалом на высокой спинке был мне заказан, несмотря на то что Джулия, как никогда, нуждалась в моих пересказах. Она теперь все чаще и чаще получала неуды, но от моей помощи отказывалась наотрез. Запрещала и провожать себя после уроков. Да и сам я видел, что происходит что-то из ряда вон выходящее. Не видно было, как прежде, ее миловидной бабушки на ступеньке лестницы за чтением библии. Она хоронилась в комнатах, и лишь в свете керосиновой лампы угадывалась ее по-старчески костлявая фигура, мелькавшая за тоненькими занавесками. Старушка – в который уже раз – переживала трагедию своего клана. Сторонясь людей и их расспросов, она сиднем сидела в особнячке и во двор не показывала и носа. Глядя отчужденно и на меня, если я забегал к ней, чтобы разузнать об обидах Джулии, всячески избегавшей меня, она движением ладони требовала покинуть комнату.
– Что случилось? Где Джулия? – спрашивал я, норовя ослушаться старушку.
Но она тут же поднималась со стула и без слов, толчками в спину выталкивала меня во двор.
Только мать Джулии, как всегда, продолжала жить в обычном ритме: Союзтранс – «Победа», но уже без своей дочери рядом с попугаем-водителем. За внешним спокойствием женщины ощущалась напряженная работа рассудка. Хоть она по-прежнему и кивала головой двум элегантным мужчинам в знак прощания, показывая всем соседям, что ничего не изменилось в жизни обитателей особнячка, однако в этих торопливых ее движениях было что-то такое, что противоречило всему ее старанию. А тем временем, вопреки злорадствующим соседям, все чаще и чаще собиравшимся за сплетнями, из особнячка лились мингрельские лукавые песни с охрипшей иглы патефона. Теперь эти песни сжимали особнячок до мизерных размеров, чтобы оградить от сплетен соседей его обитателей.
Однажды, когда Джулия день за днем пропустила целую неделю, я после первых же уроков бросился к ней домой, несмотря на запрет бабушки.
Тихонько поднявшись по поблекшим ступенькам в особнячок, я постучался в дверь, не дожидаясь ответа, потянул к себе ручку и замер на пороге.
Перед зеркалом комода стояла обнаженная Джулия и тихо заливалась слезами, поглаживая в тусклом свете прикрученной лампы светящуюся белизной грудь с темно-оранжевыми сосками. Голова с распущенными волосами металась из стороны в сторону, рассыпая пряди по округлым плечам.
Умирая от красоты обнаженного тела, я тут же упал на колени, чувствуя в ознобе остановившееся сердце.
Ощутив присутствие волнующегося дыхания, Джулия в испуге повернула ко мне голову с расширенными зрачками и уставилась на меня с приподнятыми перед собой руками. Затем, после минутного оцепенения, бросилась ко мне, тоже упала на колени, тычась лицом в мои раскрытые для объятий ладони, и тихо заплакала:
– Погибла я, милый, погибла…
Я, уронив на обнаженное плечо разгоряченную голову, о чем-то заговорил. Но в это время скрипнула дверь и из соседней комнаты вышла растрепанная старуха в ночной рубашке. Подойдя к нам, она цепкими пальцами ухватилась за мой воротник, подняла на ноги и вытеснила за порог:
– Еще тебя здесь не хватало! Убирайся вон, чтобы ноги твоей не было…
Захлопнувшаяся перед носом входная дверь навсегда отстранила меня от того, что так жадно связывало с жизнью, отстранила и погнала по тропинке вниз, к заветному дереву.
А вослед по пятам бежали прилипчивые слова ночных сплетниц: «Это уже пятое поколение… И снова будет девочка, не владеющая своим телом…»
На пути к дереву я наткнулся на жалобно мычащую корову.
Она была привязана накоротке к ольховому кустику и, видимо, забыта нерадивыми хозяевами.
Поняв в один миг значение подвернувшейся веревки, я выпростал корову, а веревку, на ходу расправляя петлю, потянул за собой.
Внутренне я был готов отомстить судьбе и Джулии за всю их жестокость и, отныне вверившись тутовому дереву, жить его тихой жизнью.
Подойдя к дереву, вскарабкался наверх и подготовил все к тому, чтобы беспрепятственно осуществить замысел…
Спустившись на землю, я ждал зарю.
Ночное небо, низко склонившееся надо мной, глядело мерцающими глазами звезд и оберегало мое одиночество, готовясь принять меня в лоно своего бессмертного царства.
Час за часом растворяясь в тишине ночи, душа покинула плоть и встала в изголовье, охраняя бренное дыхание молодой жизни.
Грянувший на заре охотничий выстрел опалил молодую зарю запахом огня и сбросил с высоты дерева сраженную свинцом змею отчаяния…
Ужаленный стыдом за кощунственное малодушие, я покинул родные места и около шестнадцати лет блуждал по свету, волоча за собой постыдный хвост легкомыслия…
Возвратившись домой уже многоопытным человеком, познавшим и красоту и уродство, я был крепок душой и телом, чтобы впадать в уныние. Но то, что случилось по моем возвращении, смутило меня.
Печальное известие о гибели молодого парнишки, в отчаянии наложившего на себя руки, вновь заставило пережить давно миновавшие дни моей ранней юности.
Его имя упоминалось с именем девушки, по роковой случайности звавшейся Джулией.
Нелепая схожесть двух женских имен и судеб мужчин, во многом повторивших друг друга, поразила меня какой-то жуткой последовательностью. Безумный и дикий поступок представителя нынешнего молодого поколения, живущего больше рассудком, чем сердцем, никак не укладывался в голове.
Движимый смешанным чувством сострадания и любопытства, легко, как бывало в молодые годы, я отмахал семь километров, хотя теперь не прежние времена, чтобы убивать ноги, и вступил в поселок.
В самом начале поселка, уже сильно уплотнившегося из-за возросшего вдвое населения, на холме краснозема я нашел настежь распахнутые по случаю смерти ворота и вошел во двор.
В тихом молчании стариков, тронутых брезгливым сочувствием к умершему, читалось уважение к предку, строго запрещавшему предавать земле всевозможных самоубийц, надругавшихся над жизнью.
Усопший покоился на бархатной подстилке во весь свой могучий рост и был красив еще не совсем умершей жизнью…
Его спокойное лицо с чуть приоткрытыми ресницами, из-под которых угадывались голубые глаза, было беззащитно от врожденной нежности.
В день, когда в садах пестрели ранние розы, было чудовищно лежать бездыханным и омрачать земное счастье смертью.
Убитые горем родные скулили, как раненые звери, и не находили себе места.
Люди, пришедшие небольшими группами пособолезновать, тихо перешептывались между собой, двигались в сад к тому роковому дереву, где и разыгралась трагедия.
Высокая ольха с раскидистыми ветвями стояла в середине сада, возвышаясь над мандариновыми деревцами. Под прислоненной к ней лестницей были разбросаны окурки, туфли и сама веревка, спущенная с высоты на рассвете вместе с удавленным дыханием парня.
Люди, не решаясь прикоснуться руками к вещам, разбросанным под деревом, жадно впивались в них глазами и объясняли сами себе их расположение.
Некоторые из них, обладающие проницательным умом, вводили толпу в курс мельчайших подробностей, превращая психологический этюд в многоходовку детективного романа…
– Что же привело несчастного к такому шагу? – любопытствовали из толпы, желая немедленно получить однозначный ответ на вопрос.
И тут же выдавались ответы вроде этого:
– Сумма отрицательных эмоций, накопившихся к моменту…
– Может ли трус решиться на подобный шаг? – интересовался кто-то.
И в этом случае ответ оказывался лаконичным:
– Трус умирает еще задолго до смерти…
Покинув это скорбное место, я смешался с толпой во дворе и, побыв в ней несколько минут, вышел на улицу.
С отчаянием человека, решившегося на крайность когда не столь важна сама причина, побудившая его на этот шаг, в какой-то мере я был знаком.
Упиваясь жестокой мыслью как способом отмщения, он примеривается к своей участи и укрепляется в ней, чтобы сохранить в чистоте твердые убеждения… И нет, кроме трусости, силы, способной отказаться от принятого ранее решения. А идти на компромисс ради сохранения обездоленной плоти было бы выбором жалких…
Понимая это скорее сердцем, нежели рассудком, самоубийца заранее отрезает себе путь к отступлению, оставляя за собой время для того, чтобы сдержать свое слово перед самим собой.
Преодолев себя и оставшись в своей смерти чистым перед принципом, он как бы говорил: сомневались? А теперь вы верите?..
Выйдя со двора с тяжелым сердцем, против своей воли я потащился к особнячку с ярко-красными ступеньками, ощущая дыхание безвестного охотника-хранителя, опалившего зарю моей ранней юности спасительным стыдом раскаяния.
Особнячок оказался пустяковым.
Всего лишь небольшой домик на высоком цоколе из красного кирпича, с которого по-прежнему сбегали во двор мимо широко разросшихся кустов фейхоа и горели ярко-красным деревянные ступеньки. На одной из них, как в давние времена, сидела молодящаяся старушка в бежевом халате из вельвета и листала потрепанную библию, шепча лукаво улыбающимися губами какие-то откровения…
Я открыл калитку и прошел во двор.
Подойдя поближе к старушке, поздоровался кивком и спросил Джулию.
– Какую вы спрашиваете Джулию? Их две! – ответила старушка, внимательно уставясь мне в бороду. – Вы, наверное, давно не были в наших краях…
– Давно, – проговорил я, боясь выдать себя. – С детских лет…
Старушка захлопнула книгу и встала со ступеньки, предлагая пройти в дом.
– Я вас чуть было не приняла за приезжего, – вновь заговорила старушка, пропуская меня вперед. – Лицо ваше мне незнакомо…
Я промолчал.
Комната, куда меня ввела старушка, оказалась обставленной так же, как шестнадцать лет тому назад.
Диван, комод с зеркалом. На комоде вместо патефона – магнитофон, рядом кассеты той же фирмы.
Не дожидаясь приглашения, я опустился на диван с овальным зеркалом на высокой спинке, едва сдерживая улыбку, и стал шарить глазами по комнате. Но вместо бабушки Джулии, всегда присутствовавшей в комнате во время наших занятий, на ее стуле сидела мать Джулии.
– Вы мне не сказали ничего о Джулии, – заговорил я. – Дома ли она?
– А вы не ответили мне, какую вам Джулию, – игриво ответила старушка.
– Ваша правда, – улыбнулся я, принимая игру. И тут мой взгляд упал на фотографию бабушки Джулии, окантованную черным крепом. – Давно? – спросил я, не решаясь произнести слово «смерть».
– Вы знали ее? – оживленно спросила она.
– Да, я знал ее…
Старушка поднесла платок к глазам и тихо вздохнула:
– Третий месяц пошел… – И после минутного молчания пояснила: – Летом бы исполнилось восемьдесят шесть лет… Жизнь у нее была трудная. Она воспитывала меня, рано умерла ее мать, бабушка моя, я ее и не помню. Затем воспитывала Джулию – дочь мою, потом и дочь Джулии, Джулию-младшую – правнучку. – Она говорила тепло, с волнением в горле, как говорят дети о своих родителях, отошедших в мир иной, и была рада случаю поговорить о ней сейчас…
А у меня звучало в ушах святое благовествование: «Авраам родил Исаака; Исаак родил Иакова; Иаков родил Иуду и его братьев; Иуда родил…» – и так далее.
Было что-то утомительное и грустное в перечне имен.
Продолжая слушать старушку, я стал вспоминать имена этого женского клана по аналогии благовествования: Цицу родила Циалу; Циала родила Джулию; Джулия родила Джулию-младшую; Джулия-младшая родила?.
Старушка умолкла и, уставясь на меня блестящими стеклами очков, тихо улыбнулась.
– Вы меня совсем не слушали, – сказала она, но без всякой обиды в голосе. – Боже мой, как летит время! Теперь уже и я бабушка… Куда все уходит? Куда все девается? А ведь я вас узнала. Это же вы тогда…
– Да, я!
– Боже мой!..
Из боковой комнаты открылась дверь, и на пороге показалась девушка в джинсах и модной кофте.
Не решаясь войти к нам, она продолжала стоять на месте, повторяя в своем облике и прежний возраст, и внешность своей матери…
Разглядывая ее из далека своего опыта, я стал догадываться о смысле святого правила о параллелях…
Передо мной стояла чья-то роковая параллель…
Я поднялся со своего места, где когда-то мы с Джулией готовили уроки по истории, и стал двигаться к выходу, уверенный в том, что значение истории и самой жизни заключены в их повторении, в повторении предотвратимости…
– Вы уже уходите? – встревожилась старушка. – Посидите еще, скоро и Джулия подъедет… – И, поднимаясь со стула своей матери, потянулась за мной. – Как жаль…
– Загляну в другой раз, – заверил я, удивляясь легкости обещания.
Глядя из окна вослед нам, нас провожала глазами Джулия-младшая, зажав лицо ладонями.
Дойдя со мной до ворот, старушка простилась и горько выдохнула:
– Каждого в жизни водит своя кровь!.. У каждого – своя ноша!..
Обратный путь я шел тропою юности, неся за собой тяжесть своей нелегкой ноши…
Бабушара,
1984
notes
Примечания
1
Ахчиг – девушка (арм.).
2
Долма – еда вроде голубцов (арм.).
3
Оркур – тетя (арм.).
4
Калимера – приветствие (греч.).
5
Вай чкими цода – горе мне, бедному (мингр.).
6
Мурзук – лоботряс (мингр.).
7
Мартали – правда (мингр.).
8
Непе – грек (греч.).
9
Бейный бас – местное название духового инструмента, баса.
10
Квери – вареники с сыром или свежими фруктами (мингр.).








