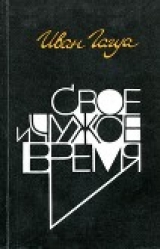
Текст книги "Свое и чужое время"
Автор книги: Иван Гагуа
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 24 страниц)
– Ох, опять хмурь нашла! – шептала Матро, глядя на разбушевавшегося гробовщика. Но утешать его в такие минуты боялась.
Пошумев час-другой, буря постепенно затихала. И обновленный в борьбе с самим собой Габриэль вновь возвращался в мастерскую и, удобно усевшись в свое деревянное кресло, принимался за инжировую водку, которую ценил за чистоту и особый аромат. Пил он не спеша, возвращая привычное душевное равновесие, пил с удовольствием. А Матро, смертельно боявшаяся не только гробов, но и материалов для них, заготовленных впрок, бывала вынуждена время от времени навещать мужа, чтобы умерить его страсть к инжировой.
Входя в мастерскую с обедом или по другой необходимости, она в страхе начинала коситься на короткий гроб и, запинаясь, бранить Габриэля:
– Габриа, почему бы тебе не убрать его подальше?
Габриэль, понимая причину тревоги Матро, криво ухмылялся:
– Что, он тебе не нравится? А ведь в аккурат по росту… Во-во, покрестись, покрестись! Не каждому дано такое еще при жизни да на собственный гроб… – Обычно на этом месте Габриэль прерывал разговор, боясь вконец запугать старуху, сжавшуюся от брезгливого чувства к смерти. Но через минуту какое-то дьявольское озорство вновь просыпалось в нем, и тогда он не ведал пощады…
– Господь с тобой! Что ты говоришь, Габриа?!
– А что? Лучшего для твоей худобы и не придумать! – продолжал Габриэль, как бы примеряя на Матро свое бракованное изделие. – Ты посмотри, какой лак! Столько лет простоял, и ничего: ни моль, ни червь и не тронули…
– Чем так о других, ты бы о себе подумал, Габриа! Годов-то тебе немало! – обижалась Матро и поспешно покидала мастерскую.
– И то правда! – кивал он вдогонку. – Скоро и для себя затею. – И тут же вставал с места и приступал к подбору материала. – Красное дерево отложим, пойдет на инкрустацию. А этот каштан мы пустим на основу, продержится лет двадцать, а то и больше. – Гробовщик выстукивал каждую дощечку костяшками пальцев и сладостно щурился, словно речь шла не о гробе, а о любимой. – Мы сотворим такую красоту, что нам живые позавидуют! Позавидуют! – Чистота инжировой водки и ее особый аромат исподволь делали свое дело.
Но с годами это твердое намерение собрать отличный гроб на удивление живым все больше вызывало сомнений у Габриэля: а вдруг не успею или недостанет сил?.. А как подловить в облике живого облик покойника, без чего Габриэль не приступал к выполнению заказа? Удастся ли подглядеть в себе признаки покойника?.. Все это мучило его не на шутку и рождало сомнение. Удрученный подобными мыслями, Габриэль не раз затевал себе гроб, но не та бодрость духа была теперь в нем, да и силы не те. Куда-то подевалась и прежняя смекалка.
Проснувшись однажды поутру, Габриэль с твердой решимостью собрался в мастерскую. Накинул на плечи ватник и спустился во двор. Справив за домом нужду, он почувствовал такую слабость, что едва удержался на ногах. Кое-как докричавшись Матро, с трудом поднялся в дом и слег без сил.
– Куда это понесло тебя, старый, в такую погоду! Неужели не прожить тебе и дня без гробов? – тщательно укутывая озябшее тело больного, ворчала Матро. – Весь дом и так прочадил думами о мертвецах…
Обессиленный Габриэль мутно поглядывал на Матро, слушал зимний рокот моря и шум холодного ветра, нагонявшего в комнаты сырость и уныние, и мечтал о весне. Весной наливалось старое тело Габриэля новой силой и жаждой к труду. Теперь, лежа в постели, он по-прежнему возлагал надежду на весну. Торопил ее.
– Не март ли сейчас, Матро?
– Нет, Габриа, – отвечала Матро, вдыхая дух фасоли со специями. – Всего лишь середина февраля.
– Большой ли нынешний февраль или короткий? – вновь интересовался Габриэль.
– Нынешний – большой, – отвечала Матро.
– Как только потеплеет, – мечтательно тянул Габриэль, – я сошью себе деревянную одежку…
– Что ж, Габриа, – спокойно отзывалась Матро, помешивая разваристый фасолевый суп, – приспело, значит, и себе…
Такое равнодушие Матро обижало Габриэля. Ему хотелось услышать от Матро что-нибудь жалобное. Но Матро то ли не хотела понять тревогу больного, то ли была увлечена приготовлением, так что всерьез, как того желал Габриэль, к его словам не отнеслась. И Габриэль, скрывая обиду, думал о том дне, когда вместо него придет другой, моложе его, и возьмется за любимое ремесло. Он смертельно завидовал тому неизвестному, который займется его столь любимым делом. И, уставясь иногда в какую-то мертвую точку, рассеянно задавал один и тот же вопрос:
– Матро, вот если бы я взял и умер… Ты бы смогла запомнить меня?
– Господь с тобой! Опять за старое! – отвечала она, подозрительно вглядываясь в больного.
– Ну, вдруг, Матро, – взял и умер!
– С чего бы тебе ни с того ни с сего?..
Габриэль недовольно морщил лоб и, набравшись терпения, настойчиво продолжал допытываться:
– Ты бы смогла рассказать людям, каким я был, если бы спросили?
Такие вопросы заводили старуху в тупик и, напрягая лицо недоумением, принуждали говорить междометиями, так как и в самом деле ей никак не приходило на ум, каков ее Габриэль.
– Ну, Матро, – не унимался Габриэль, призывая на помощь всю хитрость. – Какой же я все-таки человек?
– Мм-мм, – запиналась Матро в растерянности, бессмысленно разводя руками. – Ну, такой…
И более ясного определения своей личности Габриэль, как ни старался, добиться не мог. Да и Матро ничего другого за время их совместной жизни извлечь из себя не могла. Габриэль и впрямь со всем его ремеслом и атрибутами удобно умещался в этом слове – «такой».
– Да черт знает что! – в ярости клокотал Габриэль. – Дура ты каменная! Неужели сказать тебе больше нечего?..
– Да ну тебя, Габриа! Ты и сам не знаешь, какой ты есть! – отвечала Матро и, пристыженно опустив голову, выходила из комнаты.
А Габриэль и впрямь не знал, какой он есть.
Ему во что бы то ни было нужно было узнать от другого, какой он есть живой, чтобы представить себя усопшего. Без такой ясности он не мог бы приступить к изготовлению собственного гроба. Он, как художник, собравшийся писать автопортрет, должен был увидеть себя вчуже.
Дождавшись весны, Габриэль, как и ожидал, пошел на поправку. И вскоре в один из теплых дней вышел во двор. Надышавшись во дворе ароматом расцветающего сада, он направился в мастерскую. В руках уже не было прежней силы, но сердце по-прежнему тянуло к верстаку, к запахам древесины и красок.
Зная, что в мастерской ждет его самая трудная, но вместе с тем самая приятная работа, он нарочно не спешил, чтобы продлить это удовольствие, ибо чувствовал, что другой возможности получить радость от общения с ремеслом не будет.
Габриэль прошелся ладонью по верстаку, как прежде, ощутив волнение, приподнял обструганную дощечку, предназначенную для основания гроба, и пристрелялся прищуренными глазами. Затем, отложив ее в сторонку, опустился на скамью, бормоча всякий вздор.
– Ну что же, дружище, взгрустнулось тебе? – лукаво подмигивая короткому гробу, продолжал Габриэль. – Ничего, твой создатель еще не кончился. Он соберет себе домовину! Габриэль не из жиденькой закваски! Дудки! Он еще поспорит с судьбой! Да, поспорит! Не веришь?!. – И ему чудилось, что и гроб отвечает тем же вздором, подмигивая многочисленными шурупами:
– Мне-то что, я грустный предмет отжившего! Чему же ты так радуешься, создатель? Разве от того, что ты соберешь еще одну домовину, прибудет тебе счастья? Нет, не прибудет!..
– Как ты смеешь, мошенник, так разговаривать со своим создателем?!
– Кому же еще, как не мне?
Габриэль замахнулся на гроб поленом, но чья-то невидимая рука остановила его.
Через неделю Габриэль мало-помалу освоился в мастерской и теперь, стоя над верстаком, заправски орудовал инструментом. Весело раздувал щеки, кому-то показывал язык, шумно шмыгал мокрыми ноздрями, вздыхая и выдыхая запах теса, как бы способствуя всем этим правильному движению инструментов. Время от времени резко останавливался, отходил в сторону и, оценивая издалека проделанную работу, приговаривал:
– Дудки! Габриэль не сдается!
Но уже через минуту обижался на самого себя, сделавшего всю эту работу, и сметал ее на пол…
– Ты мастер, а не мошенник! Опочивальню надобно делать, приличествующую твоему званию! – говорил он вслух короткому гробу, словно обращаясь к своей совести.
Но когда и новая попытка не давала нужных результатов, взыскательный гробовщик возвращался к скамье и, сидя на ней, принимался нарезать шурупы из красного дерева, которыми обычно украшал гробы, ввинчивая их в места сращения досок. Однако это занятие не увлекало его, он снова подходил к верстаку и пытался приручить тесовые доски. Казалось, что теперь все должно сдвинуться с места, но неожиданно что-то снова отказывало, Габриэль в сердцах покидал верстак и выходил во двор. Побродив по двору и отогревшись на солнце, он обретал спокойствие, пытаясь вновь и вновь взять барьер. С этой надеждой ложился он и вставал. Пролетали дни, недели, но работа по-прежнему не шла и не радовала былой радостью.
– Кончился я, Матро! – как-то проронил Габриэль за ужином и встал из-за стола, опечаленный гнетущими мыслями.
– Что ж теперь, Габриа, – как можно спокойнее сказала Матро. – Какие наши годы! Нет ничего вечного в подлунном! Упадет звезда, народится другая!
Габриэль с затаенной обидой взглянул на Матро и, ничего не сказав, ушел в соседнюю комнату и прилег.
Матро, глядевшая вослед уходящему Габриэлю, покачала головой и, когда тот скрылся за дверью, выдохнула:
– Подточил червь душу…
Габриэль, прикрыв глаза, думал свои невеселые думы: «Что же это мы так раскисаем? В трудные минуты старикам поздно искать поддержки извне… – Свои неудачи он связывал с неумением вглядеться в себя… – О, если бы я только смог, сделал бы одну из лучших домовин! Но, наверное, это мне не удастся. Нет! – злился Габриэль на себя и еще больше на Матро. – Может, нет во мне ничего такого, что могло бы броситься в глаза? – тревожился он, но тут же отвечал на вопрос с облегчением: – Быть не может, чтобы того?.. И даже в этой неопределенности весь до кончиков ушей, заросших паутинками вьющихся волос, проглядывал Габриэль.
На следующее утро Габриэль встал засветло. Растворил ставни и принялся разглядывать себя в зеркале.
– Все одно уловлю тебя! – бормотал он, грозя самому себе. – Нет, я еще не потерял способность быть самим собой! Я еще поскандалю с тобой! Я покажу тебе, что такое мастер! – Габриэль совсем было разошелся перед зеркалом, но, к счастью, постучалась Матро и прервала поединок Габриэля с его отражением:
– Габриа, ты вышел бы в сад… собаки там очень уж разошлись… может, буйволы разнесли забор…
Габриэль, презрительно взглянув на Матро, сорвал большое зеркало со стены и свирепо прошипел:
– Уйди с дороги, змея ядовитая!
Через несколько минут Габриэль осторожно доставил зеркало в мастерскую и повесил на стене так, чтобы оно могло отразить верстак. Затем смахнул с верстака заготовки и сам растянулся на нем, принимая позу усопшего. Но чуть-чуть приспущенные ресницы да чувствительный нос гурмана выдавали живого… Лежа в таком положении, Габриэль старался перехитрить себя, чтобы подглядеть собственные черты. Но, как он ни хитрил, ничего путного из этого не получалось: живой не хотел носить на себе печать мертвого. Желая любой ценой добиться своего, Габриэль перетащил гроб с ящиком прямо на верстак и улегся в нем. Но так как он был короток, ему пришлось подогнуть ноги и, упираясь ступнями, лежать в несколько неестественной для усопшего позе. Но делать было нечего. Сложив крестом руки на груди, он слегка поворотил голову, чтобы увидеть себя «мертвым» в зеркале. Но вместо «мертвого» увидел в своей позе нечто кощунственное и болезненно улыбнулся. В самом деле, если бы Габриэля перенесли в этой позе из гроба на тахту или на ковер, то он лукавым своим видом походил бы на восточного хитреца, а может быть, на лису, притворившуюся мертвой… Раздосадованный Габриэль поднялся из гроба и запустил в зеркало ореховым бруском. Зеркало хрустнуло и раскололось на множество мелких частей, показав гробовщику едва уловимое отражение «мертвого». Но эта мгновенная вспышка, мелькнувшая в сознании, не запечатлелась настолько четко, чтобы удовлетворить требованию, и Габриэль повторил бросок. Расколотое зеркало, еще чудом державшееся на стене, рассыпалось и рухнуло, унося в неизвестность и отражение самого мастера.
– Все! – прошептал Габриэль дрогнувшим голосом, поспешно покинул мастерскую и направился в сад.
Бесцельно бродя по саду, он набрел на инжировое дерево, росшее у колодца, и остановился: корни могучего дерева, судорожно обнимая землю, выступали из-под нее замшелыми горбами, рассказывая о своем упорстве и борьбе.
Раннее солнце, поднявшись из-за заснеженных хребтов, роняло первые лучи на купы далеких тополей, оперившихся нежными языками листьев. И сразу по саду пробежал сладкий весенний ветерок.
Габриэль, глядя на калитку в сад и входившую в нее Матро с ведрами, неожиданно для себя увидел четыре персиковых деревца. Они шли от калитки в глубь сада. Ветерок шаловливо перебирал их розовые лепестки. Ими был припорошен зеленый покров двора. Уже трудились и ранние пчелы.
Габриэль с грустной усмешкой слушал нарастающее жужжание пчел, держа в поле зрения и столетний дуб, буйно разросшийся за оградой усадьбы.
«Какой могучий и гордый…» – подумал он, все больше и больше грустнея от мутного предчувствия.
Вскоре его размышления были прерваны скрипом журавля у колодца.
Габриэль раздраженно посмотрел на Матро, грохотавшую ведрами, и выругался: «Даже здесь нельзя посидеть спокойно…» – а когда та пошла, расплескивая воду, немного успокоился и огляделся… Увидев на журавле раскачивающуюся дубовую бадейку, ронявшую через равные промежутки капли прямо на потемневшую челку травы, каким-то чудом пробившуюся из-под уложенных кирпичей на свет, улыбнулся ее стойкости. Капля за каплей, серебрясь на раннем солнце, падали на гибкие стебли и стремительно скатывались вниз. Небольшой пук травы покачивался из стороны в сторону и влажно шуршал. Габриэль почувствовал, как внезапно ударило сверху густым и вязким теплом солнце, ошарашивая золотистым волнением растительность. И вскоре увидел, как медленно, в усталом томлении поплыли сизые пары к горизонту, превращаясь в мерцающее солнечное марево.
– Господи! – прошептал Габриэль, не находя иных слов усталому изумлению. – Прости, господи… – Полегчавшая душа вдруг наполнилась такой невыразимой нежностью, что увлажнились слезами умиления глаза. Теперь он жалел, что Матро ушла и не может причаститься его радости.
– Матро! Матро! – прокричал он, устало опускаясь на замшелые корни инжира.
С остановившейся бадьи все реже падали капли. Угасал и слабый ветерок, прячась в опали. А солнце, завладев пространством, разливалось щедро и весело. Заглядывая в каждый цветок, оно полно раскрывало венчик, давая доступ к дурманящему аромату пчелам.
Вжимаясь спиной в могучий ствол инжира, Габриэль жадно и больно озирался по сторонам, ощущая бесконечное дыхание множества жизней… И на ущербе своих последних минут ему вдруг открылась неповторимая простота бытия, растраченного впустую в фанатической гордыне вдали от людей. Теперь, живя скорее кожей, чем сердцем, он был не в состоянии восстать, возмутиться, а поэтому плакал, как плачут старики в слабости отходящей жизни. Сморщенное сухое лицо его беззвучно страдало от нахлынувшего горя. И он на мгновение ощутил себя молодым и крепким, по-прежнему влюбленным в светлый и радостный образ княжны Шервашидзе.
– Господи, зачем ты надсмеялся над моей любовью… – прохрипел он от подступившего кашля и удушья. Габриэль рванулся было изо всех сил, чтобы встать с места, но силы покинули его, и жизнь, теплившаяся в груди, резко застыла, играя на устах усопшего улыбкой счастливого освобождения…
На следующий день, как и полагалось по местному обычаю, разослали по деревням горевестников, чтобы оповестить близких и дальних о смерти гробовщика, предварительно снабдив их списками тех, кого следовало бы пригласить на похороны. Но то ли горевестники оказались недобросовестными, то ли не нашлось ни близких, ни дальних родственников, на похороны Габриэля пришел лишь колхозный оркестр, добровольно пожелавший играть, и еще несколько человек из тех, что вечно страхуются у бога, чтоб заручиться тепленьким местом на том свете за христианское сердоболие, да дети, получившие доступ во двор гробовщика.
Лежал Габриэль в коротком гробу, поскольку так и не удалось закончить работу над собственным, сдавленный размерами. Голова его была высоко приподнята, ноги согнуты в коленях, плечи выставлены наружу.
За гробом сидела Матро, окруженная с двух сторон снохами, пришедшими бог весть из каких соображений проводить старого гробовщика в последний путь, и бесстрастно, заученно причитала…
Но бездыханное тело Габриэля было бесчувственно к стараниям Матро. Он спал вечным сном, играя бессмертной улыбкой прозрения…
И те немногие, что заходили взглянуть на гробовщика и убедиться, нет ли в его смерти какого-нибудь подвоха, были удивлены выражением радости на лице Габриэля, приобретшего человеческий облик и вернувшегося – пусть мертвым – в мир человека.
– Ишь ты, как его! – удивлялись они и медленно, молча брели по тихим улицам деревни, расходясь по домам.
Смерть, чья бы она ни была, никогда еще не приносила людям радости…
А за дальними виноградниками бывшей усадьбы князя Шервашидзе долго тлел большой холодный закат. И деревня незаметно погружалась в щемящую грусть сумерек…
Москва,
1968
О ЛЮБВИ, О ДОБЛЕСТИ, О СЛАВЕ…

Мой старший брат имел шестнадцать лет и бейный бас[9].
Он вставал рано утром и драил свой медный духовой инструмент. Потом, повернув огромное ухо этого чудовища на восток, принимался из него выталкивать утробные звуки. И когда наконец из-за синих гор начинало проглядывать кровавое лицо солнца, брат обнимал свое охрипшее животное, как любимую, и укладывал на кровать. Затем, окатившись холодной водой у родника, садился за стол.
Завтракать он любил плотно – несколько штук горячих квери[10] с мацони, хороший кусок свинины и бутылка черного вина… Черное домашнее вино вошло у него в почет сразу после ухода отца на фронт. Теперь все бочки нашего подвала находились в прямом и безоговорочном подчинении старшего брата.
За столом, как всякий гурман, он не отвлекался на постороннее. Ел всегда молча, как бы боясь нарушить взаимосвязь жевательной системы с подачей пищи. Перемалывая утренний рацион молодыми жерновами, он сообщал вращательное движение беспокойным яблокам глаз, остановка которых означала: один этап закончен, перехожу к другому. Но если глаза прекращали круговое вращение и начинали светиться блаженным спокойствием серебра, значит, пища производила желаемое действие. В таких случаях его хорошее настроение вставало из-за стола и, отпечатывая шаги по комнатам, насвистывало военные марши. Потом, отдав мне по-армейски честь резким поворотом головы, все тем же твердым шагом выходило за ворота, чтобы еще раз попытать счастья у военкома.
Мой старший брат ходил к нему каждое утро за пять километров и каждый раз возвращался оттуда усталый и кислый, как будто военком выколачивал из него дух юношеского задора…
Две его сильные страсти – стать героем, а потом повстречать хорошенькую девушку, гасли в кабинете несговорчивого военкома и вспыхивали с новой силой в стенах родительского дома.
Возвращаясь вечером домой, брат нарочно задерживался в проеме двери, чтобы бросить уничтожающий взгляд на мать еще с порога.
Мать, как правило занятая домашними делами, встречала его полувзглядом бокового зрения, завязывая с неудачником диалог глазами…
М а т ь. Ну, вижу… проходи и выкинь из головы глупость…
Б р а т. Ну что ж, пройду… но последнее слово за мной… И тогда мы посмотрим, как ты будешь встречать пустой проем двери…
М а т ь. Так думал бы о школе… скоро откроют…
Б р а т. Школа… гори она…
Затем мать поворачивалась к двери и строгим взглядом запихивала брата в комнату:
– Переодевайся! И не смей больше трепать чужую одежду! Человеку с фронта не во что будет одеться…
Напоминание о фронте сладостно пьянило душу моего старшего брата. В такие минуты он моментально забывал о своих неудачах и начинал широко расхаживать по комнате. Затем, хватая графин за горлышко, водил им по столу, гремя, словно гусеницами танка, идущего на вражеские позиции. Но и здесь мать ни на минуту не давала ему оторваться от земли, искусно выводя из мечтательного оцепенения и возвращая в узкий домашний мир вещей.
– Не греми! Ты не один в доме… – И как ни в чем не бывало приступала к чтению отцовского письма, в котором сквозило неуемное желание скорей вернуться домой к своему винограднику.
– Пусть подвязывает виноград, чего там сидит! – победно бросал брат, словно уличив отца в трусости, и, всучив мне граненый графин, приказывал спуститься в подвал.
Позже, значительно повеселев за ужином, он уходил на кирпичный завод в надежде вкусить от греха радость…
На заводе тогда в основном работали эвакуированные женщины, тугие и крепкие, как грецкий орех.
Мой старший брат пропадал там все вечера, чтобы как-нибудь раскусить один из орехов… Но, так и не раскусив его, благополучно покинул кирпичный завод. Так завершилась эта короткая история и началась другая.
Ранним утром, надраив в последний раз свой бейный бас, он вышел с ним на улицу, чтобы навсегда вычеркнуть из списка нашей семьи этого симпатягу. Зато к вечеру вернулся с новой гитарой под мышкой и с золотым обручальным кольцом на мизинце, что придавало ему вид заядлого гитариста, безнадежно больного неразделенной любовью…
Теперь по утрам брат выходил на веранду и, закинув ногу на ногу, начинал пощипывать струны. Гитара, усаженная на колени, как любимая, жутко и однообразно взвизгивала, отнимая у меня сладкие минуты утреннего сна.
Зарывшись с головой под одеяло, я посылал этой невыносимой психопатке и ее обреченному на грусть партнеру самые отборные проклятия, на какие только был способен восьмилетний мальчик. Правда, они так и не доходили до адресатов, но все-таки несколько облегчали мою участь. Иногда на помощь мне приходил наш колхозный бригадир. Ему частенько удавалось расцепить влюбленных – брата с гитарой – и, вытащив на улицу, отчитать как следует за увиливание от помощи колхозу. Но чаще всего счастливые утра выпадали благодаря недавно расквартировавшейся у нас группе по задержанию и разоружению диверсантов, за что я был ей особенно признателен. Не скажу, как у нее обстояли дела насчет задержания и разоружения диверсантов, но что касается моего брата, то она моментально вышибла его со двора на улицу. Стоило только долететь до его слуха задорному цоканью копыт, – это значит; по улице мимо нашего двора проплывала, лихо пританцовывая на тонконогих иноходцах, группа молодых всадников в черных архалуках, – как брат тут же бросал гитару и бежал к калитке, чтобы поглядеть вослед этим черноусым ребятам. Так порою он мог простоять до их возвращения.
Однажды вечером, когда группа возвращалась по нашей улице со спецзадания, брат перехватил едущего в голове красавца с ослепительной улыбкой и что-то сказал ему.
Предводитель весело осадил коня и перегнулся в сторону брата. И сразу за ним остановилась вся группа.
– С каким-нибудь важным сообщением? – спросил предводитель, стараясь говорить официальным тоном, но продолжая улыбаться.
Лошади, раскачиваясь под своими седоками, хрумкали уздечками.
– Не-ет, но… – ответил брат, скрывая набежавшее волнение. – Я хочу…
– Это невозможно, – сказал предводитель, не давая брату договорить. – Группа прошла спецподготовку! – и тронул лошадь.
– Погоди, начальник! – Брат загородил дорогу лошади. – Тогда выручи…
– Ясно! – понимающе сказал предводитель. – Тебе револьвер нужен! – И, внимательно разглядывая брата, добавил: – Желаешь перейти на самостоятельную работу…
Вместо ответа брат стащил с мизинца обручальное кольцо, отчего сразу же сошел с него вид заядлого гитариста, безнадежно больного неразделенной любовью, и протянул всаднику.
Тот, недолго раздумывая, втиснул в него безымянный палец, который тотчас заиграл на свету закатного солнца, и, обернувшись на группу, полез в карман за револьвером.
Группа одобрительно заволновалась на седлах.
– Золото – дело чистое! – усмехнулся предводитель, любуясь пальцем и вручая брату сверкнувший холодным блеском металла револьвер. – Только служит оно сразу и богу, и дьяволу…
– Хорошее оружие может заменить хорошая девушка или доброе мингрельское вино! – поддержал его кто-то из группы сиплым голосом, нуждающимся в похмелье.
– Неужто, парень, не водится у вас в доме вино, достойное нашего начальника?! – выступил другой всадник, на чалом иноходце, и встал перед братом.
И брат, чтобы не ударить лицом в грязь, распахнул ворота.
Группа незамедлительно въехала во двор, оглашая окрестность веселой мелодичной песней древних предков:
Одоиа, одоиа, одоиа…
Через несколько минут в центре двора, словно крепко повздорившие женщины, стояли, подперев кулаками бока, два кувшина. За ними, образовав полукруг, пели черноусые всадники, принимая из рук брата полные кружки черного вина. Всадники пили, чуть привстав на стременах, и весело отдувались, расплескивая при этом вино на уши лошадей, отчего те недовольно фыркали и мотали головами. А брат, торопясь опорожнить кувшины еще до возвращения матери с ломки табака, вертелся между всадниками. К счастью брата и к несчастью нашего подвала, всадники из группы по задержанию и разоружению диверсантов, проделав оперативную работу по опорожнению кувшинов, благополучно выплыли со двора, гордо пританцовывая на чутких иноходцах.
Закрыв за ними ворота, мы с братом спустили кувшины в подвал и заняли обычное место на веранде.
– Когда придет мама, – сказал брат, прищуривая левый глаз и нацеливаясь револьвером на мнимого врага, – ты держи язык за зубами, если не хочешь… – Револьвер в вытянутой руке брата описал дугу и сухо щелкнул. – Ты меня понял?
Я кивнул головой и подсел к нему ближе.
С этого дня, проходя всевозможные тонкости военного дела, брат плохо спал ночами. Он вздыхал и ворочался в постели, тормоша в душе две сильные страсти – воинскую доблесть с крепким зудом любви, – и приправлял их горьким дымом бесконечных папирос. А на рассвете, одержимый военными занятиями, он снова приступал к отработке техники: ловил в эвкалиптовой роще подслеповатую лошадь и, вскочив ей на спину, пускал ее вскачь вдоль морского берега, соскакивая и садясь на бегу. Затем, оставив в покое лошадь, с оружием в руке принимался прочесывать кусты ольшаника. Иногда, увлекшись этим занятием, сам того не замечая, забредал в усадьбу знаменитого гробовщика Габриэля.
Жил этот суховатый и длинный старичина бобылем в большом деревянном доме почти напротив нашего. И то, что жил он в таком большом и почерневшем от времени доме один, и то, что был он гробовщиком, и то, что выражение брезгливости не сходило с его лица даже тогда, когда обычно радовались другие, не предвещало ничего хорошего человеку, отважившемуся войти к нему в усадьбу. Строгий взгляд, устремленный исподлобья на человека только лишь затем, чтобы точно определить, сколько понадобится теса на случай, если придется браться ему за свое ремесло, приводил в такое омерзительное состояние, что каждый спешил как можно скорее унести свою спину от измеряющего взгляда Габриэля. Хоть Габриэль слыл добросовестным гробовщиком, но любить его было не за что. И жил он один, угрюмый и тихий, в своей гордыне, уважая до нежной привязанности лишь покойников за их бессловесную кротость, и это уважение к ним выражалось в гробах, которые он мастерил с большим тщанием. По этой причине к нему заглядывали лишь в известных случаях… Даже мальчишки нашей деревни, слывшие грозой по всей округе, старались усадьбу Габриэля обходить стороной, хотя в ней было чем полакомиться. Усадьба Габриэля была большая, и росли в ней редкие фрукты, некогда завезенные его отцом, купчишкой третьей гильдии, из редких поездок в трабзунские земли. Перед самым домом стояло широколиственное авокадо с яйцеобразными зеленоватыми плодами. А вдоль всего забора тянулись инжировые деревья редких сортов и кусты фундука.
Но то, что встретил мой брат в этой усадьбе во время очередного прочесывания местности, никак не могло быть выращено трудом и усилиями старого Габриэля.
Это была девушка с голубыми глазами, с красотой которой не мог поспорить даже такой сад, каким был сад Габриэля.
В дом Габриэля она была поселена работниками роно в середине августа, чтобы первого сентября с первым звонком определить ее учительницей русского языка в открывающуюся у нас школу.
Подвез ее на колхозной подводе Арсен, молодой извозчик. Он весело осадил двух кляч у ворот Габриэля и трижды прокричал имя хозяина.
Девушка спрыгнула с подводы и, взяв небольшой чемодан в руку, с любопытством уставилась на двор гробовщика.
Вскоре показался и Габриэль. Он быстро подошел к воротам и, не проронив ни слова, взял у девушки чемодан. Потом, отстраняя взглядом Арсена, пытавшегося войти во двор, пропустил девушку и крепко захлопнул за собой калитку, тем самым красноречиво подчеркивая, что право открывать ее отныне будет принадлежать ему и этой девушке.
Высыпавшая на улицу деревня с замиранием сердца наблюдала картину заселения габриэлевского дома молодой особой и была удивлена таким неожиданным поворотом дела. Но, как бы там ни было, факт был налицо: Габриэль шел с чемоданом в руке, а следом – девушка.
Весть о случившемся облетела округу.
Народ зачастил к габриэлевскому дому, чтобы воочию узреть молодую учительницу. Но напрасно. И первым, кто отважился проникнуть в сад Габриэля, был мой старший брат. Этой храбростью он обязан был револьверу.
Повстречав ее в саду гробовщика, брат раз и навсегда понял, что само провидение послало ему подарок, о каком он давно мечтал бессонными ночами, тормоша беспокойные страсти молодого сердца.
Узнай тогда старый Габриэль, что его сад послужил местом встречи двух молодых людей, он никогда бы не простил этого человеческому роду…
В то счастливое утро мой старший брат забрел в сад Габриэля, держа в руке револьвер, хотя на этот случай можно было бы его убрать в карман. Но почему-то решил, что врываться в чужой сад, тем более в сад такого старого хрена, каким был Габриэль, так будет эффектнее.
И тут он увидел и окаменел. Потому что то, что он увидел, превзошло все его ожидания…
Откуда я об этом знаю?
Это очень просто! Такой мальчик, каким был я тогда, мог узнать не только об этом, но и о многом, о чем другие, хоть и считали себя совсем взрослыми, понятия не имели.








