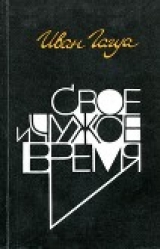
Текст книги "Свое и чужое время"
Автор книги: Иван Гагуа
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 24 страниц)
– Какой ноне спрос с курей, коли бабы мужние стыд потеряли! – цедила сквозь плотно сжатые губы Агафья Никаноровна и, ухватив ком земли, запустила им в курицу.
Стеша молчком спустилась с крыльца и, пропустив курицу во двор, заделала лаз кирпичом, присыпала его землей, повернулась к Агафье Никаноровне и, окатив ее презрительным взглядом, крикнула громко:
– Ты бы, бабка, лучше за своей Нюркой следила… тогда карабановским мужикам ее не таскать бы…
Агафья Никаноровна, не ждавшая этакого поворота, сначала схватилась за дых и истошно, по-бабьи заохала, часто-часто хватая открытым ртом воздух.
– Ты что?.. Та как?.. Я этого не оставлю! – грозился Карп Васильевич, задыхаясь от приступа. – В милицию сообчу!
– Сообчи! – поддержала его Агафья Никаноровна, оправляясь от первого удара. – А я ейной матери все напишу… Она там малютку нянькает, а ейная дочка новую тут нагуливает…
– Ну и сообчайте! – передразнив соседей, крикнула Стеша и скрылась в избе, в сердцах хлопнув дверью, за которой оставался Лешка.
Сведения, полученные из уст соседей, оказались для нас неожиданными, так как нам было неизвестно, что у Стешки есть «малютка», которую «нянькает ейная мать».
Вскоре во двор вошел в легком подпитии Гришка Распутин с Лизаветой Петровной и, о чем-то перешептавшись с дядей Ваней, исчез, так и не поднявшись в избу.
Весь вечер Стеша не выходила, и Лешка, насупившись, заходил к ней и выходил, избегая разговоров. Видно, переживал новость.
В открытые окна заползал сладковатый дух черемухи, неся чистоту и свежесть. И от этого внезапного запаха, от его свежести, от разлитой в теле тревоги хотелось всей задубевшей кожей приникнуть к чужому теплу и раствориться в нем, стать его частью.
Бессонная ночь, продираясь сквозь сухостой, катилась к чистому плесу, где безмолвные крики мучительного нереста сливались с черемуховым духом, чтобы живому внушить соседство живого.
На рассвете я пробудился от гула автомобиля, подкатившего к самому палисаднику. В нем рядом с незнакомым водителем я увидел бугра. Голова его утопала в черной шляпе, отчего укрытое ее полями ухо походило на сложный замок, ключом которому мог послужить указательный палец владельца.
Бугор, заметив меня, высунувшегося по пояс в окно, повернул шляпу, словно давая мне возможность разглядеть второй «замок».
– Где Ваня? – спросил бугор, чуть приоткрыв дверцу «Жигулей».
Я, чтобы не перебудить всех, показал жестом: спит.
– Разбуди! – сказал бугор невыразительно-серо. – Пусть-ка спустится!
Дядя Ваня спал крепким сном, но мгновенно очнулся, когда я дотронулся до него. Должно быть, все еще хранил фронтовую привычку.
– Что?!
– Енерал приехал! – шепнул я. – Спустись-ка к нему, на улице.
– Никифорыч? – удивился дядя Ваня, спустил живую ногу на пол, нашарил рукой протез у изголовья, поволок к себе. – Видать, зарплата.
– Поглядим еще, какая!
Дядя Ваня поморщился, отчего все его лицо сделалось беспомощным и жалким. Чувствовалось, что и он, как все мы, был на пределе, и, боясь ввиду этого проиграть бой, решительно заявил:
– Нечего и глядеть! Каждый свое получит!
– Если каждый в одиночку с ним шушукаться не начнет, – заметил я раздраженно, словно мстя за постоянную уступчивость бугру, уступчивость, которая неизменно вела к унижению. – Может, кое-кому лишняя пятерка и перепадет!
Дядя Ваня окинул меня презрительным взглядом, ничего не сказав, сунул культяшку в протез и оглянулся по сторонам, словно опасаясь, что могут подсмотреть, как он одевается, приспосабливая увечную ногу.
– Дядь Вань, не доверяй ему – обманет! – сказал я, желая загладить свою вину перед ним.
– А ты меня не учи – постарше тебя! – сердито отрезал он и, на ходу застегивая мотню, двинулся к выходу.
«А… будь что будет, – подумал я. – Все одно не все выдержат единоборство с бугром…» – и пошел будить Кононова.
Сгрудившись через несколько минут у окна, мы разглядывали машину, стараясь разгадать цель приезда бугра, пока тот о чем-то толкует с дядей Ваней.
Зарплата, помимо самих денег, означала еще конец, шабаш! Разбредемся мы и отдохнем друг от друга, от осточертевшей подозрительности, стычек и страха.
Ко всему прочему добавилась и еще одна закавыка – вышли продукты и даже деньги у нашего банкира Кононова. По его словам, денег у него с мышкин хвост – рублишко. Последние дни жили, поедая скудные Стешины запасы.
– Зарплата, – сказал дядя Ваня и сел за стол, суча головой и моргая белыми ресницами. – После обеда в контору иттить.
– Пожрать охота? – спросил Кононов, пряча за вопросом упрек. – Или и подождать можно?
– Охота, – признался дядя Ваня. – Нутро прогорает… Может, в последний раз в магазин сгоняю? – предложил он, смущенно поглядывая на Кононова.
– Ты, дядя Ваня, много продуктов натаскал? – Кононов с усмешкой восточного мудреца, высмеивающего безрассудство, придвинулся к нему лицом. – Нацепишь тоненький мешочек – и айда на блины к тете!.. А в карманах ветер гуляет, что степной сквозняк… И ишо все в сторону магазина глазеешь… Шел бы ты к своему дружку! Вот как устроился: и первое тебе, и второе, и третье конечно же, и четвертое… – Кононов сам первый расхохотался своей шутке относительно Гришки Распутина и его пассии в три обхвата – Лизаветы Петровны. – Баба справная, даже слишком. У ней и огурчики соленые найдутся, и грибочки, а водочки – пропасть…
Покамест Кононов развлекал себя, а заодно и других, Стеша выгребла из подклети несколько последних картофелин и, не желая обособляться, поставила варить на портативную газовую плиту.
После горячей картошки с килькой в томатном соусе мы разбрелись по усадьбе в ожидании команды. А когда наступил долгожданный час, перехватив на ходу по холодной картофелине, гуртом, прямо в рабочей одежде, в строгом соответствии с инструкцией потянулись за дядей Ваней к полустанку и, перейдя железнодорожную линию, взяли курс на деревню Чусово. Идти до конторы предстояло около пяти километров. Сперва вдоль полотна на Иваново, затем, взяв резко влево, к мелколесью, сквозь которое чернели редкие избы отдельными хуторами.
Приноравливаясь к ходу дяди Вани, через час вышли к пруду, за которым, заглядевшись в зеркальную гладь воды, стоял дом на кирпичном цоколе под железной крышей и красным флагом над ней. Обшитый тесом, крашенный в желтый цвет, он оказался и сельским Советом, и колхозной конторой разом.
– Привал! – сказал дядя Ваня, топнув тяжелым протезом по пыльной тропе, как-то жалко улыбаясь и смахивая с лица набежавшие капельки пота. – Все тута…
В воздухе роилась горячая масса расщепленного солнца, она нещадно прижаривали площадку перед домом и улочку, тянувшуюся от него к югу.
За прудом, на самом солнцепеке стояли легковые машины, и среди них та, на которой приехал бугор.
Дядя Ваня украдкой глядел на рубиновые «Жигули» и мучился колебаниями. Видно, еще с утра круто была присыпана его рана бугровской солью.
– Нехай! – сказал дядя Ваня, продолжая спор с самим собой, и, крепко саданув вбок протезом, словно штыком, неистово рванулся вперед.
– Нехай! – повторил Кононов и присовокупил любимое изречение Синего: – Екаламэнэ…
Пока мы огибали пруд, перед конторой столпились колхозники, с веселым недоверием поглядывая на дом, где на крыльце покуривали мужчины городского покроя.
– «Воздушники!» – сказал дядя Ваня, узнавая курильщиков в лицо. – Уже тута…
Площадь нас встретила любопытством.
– Доброго здоровьица!
Обросшие мужики, кто в чем, хотя и были среднего возраста, но держались старичками, уже пожившими, и потому глядели на нас, что на легкомысленных юнцов, которым предстоит еще узнать, почем тут фунт лиха.
– Что, мужики, – оскалился Кононов, вступая с ними в контакт. – Копейку дают?
– Грош, – откликнулся один из мужичков, пронзая собеседника круглыми, как картечь, глазами, то и дело закрываемыми плотным прищуром.
– А какая разница? – поинтересовался Кононов, тоже изучая дерзкого мужичка.
– Копейка – деньга! – сказал тот. – Грош – чумная дрожь!
Разбредаясь по площади, каждый из нас держал в поле зрения рубиновые «Жигули», но делал вид, что не видит их, чтоб не унизиться узнаванием.
Мне хорошо была видна шляпа бугра. Она была повернута загнутым полем к пруду, хотя машина стояла к нему правым боком.
Бугор, видно, взглядывал на нас в зеркало, оперативно оценивая обстановку, и держался в состоянии боеготовности.
Однако и наш подставной бугор, то и дело застревая в толпе колхозников, вел наблюдение со своей стороны, не желая идти на поклон…
Пока что такая тактика не давала сторонам преимущества, и, понимая это затылком, бугор решил применить более гибкую. Он повелел водителю подкатить машину к площадке, чтоб шествие издалека не выглядело уступкой.
Машина подъехала задом и остановилась неподалеку от меня. Бугор, делая вид, будто оказался в такой близости случайно, равнодушно огляделся.
– Пришли? – сказал он и приоткрыл дверцу, ожидая, что я подойду. Но я, подняв в знак приветствия руку, с места ответил, что пришли давно.
Видя, что делать нечего, он вылез из машины и, подтягивая на ходу примятый сзади пиджак, пошел в толпу, под пристрастные взгляды колхозников, не преминувших наградить и его «добрым здоровьицем».
Колхозники были возбуждены тем, что благодаря небольшой кучке горожан, то есть нам, наладившим не бог весть какую работу, наконец-то после долгого ожидания они могут почувствовать себя людьми, чей труд нужен колхозу и подлежит оплате.
– Небось набрехали! – перешептываясь друг с другом, сомневались женщины.
– Бухгалтер сказывал: приходьте заутрия…
Сбившись группами, мужики и бабы в застиранных до бесцветности одеждах, протяжно и певуче окали, сдабривая медлительную речь прилипчивым матом, без которого ни один картофельный клубень не попадает в лунку на бескрайних просторах земли.
Бабы, в отличие от своих «мужиков» экономя рассыпчатый лексикон, лукаво поглядывали на «городских, умевших зашибать деньгу», и мерекали между собой ухватисто, как выпивохи о той самой желанной, что еще с петровских времен согревала сиротливые души… То и дело показывали глазами на нас, принесших к ним в глухомань долгожданную зарплату.
– Екаламэнэ, – ухмыльнулся Кононов на ярмарку ожидания и терпения. – Вот гляди, на столбике колокольчик висит!
Эта невидаль, притороченная к столбику и успевшая с первых лет коллективизации изрядно покрыться куржачиной, продолговатым, но охваченным немотой языком олицетворяла сиротство и ненадобность в чуждое время.
Между тем на площадку, пылавшую нестерпимым жаром, все прибывали и прибывали колхозники и, перемешиваясь с теми, кто уже здесь стоял до них, неуверенным тоном интересовались насчет зарплаты, степенно раскланиваясь со словами: «Дай бог, дай бог!»
Но колхозный бог медлил, прогуливаясь из комнаты в комнату и окидывая подопечных долгим и грустным взглядом. А когда хождение приобрело оттенок назойливости, вышел последний раз на крыльцо и громким голосом возвестил, чтобы, кроме двух бригад, из Федюнина да из Илькина, денег не ждали.
– Остальным в другой раз! – И, чтоб успокоить загалдевший народ, стал выкладывать скороговоркою перспективный план, обещавший всем жителям и новую ферму, и новую асфальтированную дорогу в рай, два новых комбайна, другие орудия труда, чтоб душа колхозника возрадовалась от перемен. – Погодьте маленько, – говорил он и широко улыбался тому, что нынче не война и можно погодить. – Мы с вами похуже времена пережили! Так че теперь маленько не погодить?!
Толпа, смиренно внимавшая председателю, разом поделилась на части: первая ринулась поближе к крыльцу, вторая, не сдвинувшись с места, оглушительно загалдела.
– Председатель! – выкрикнул седой небритый старик с прокисшими красными глазками и отделился от толпы. – Ты говоришь: «погодить». А куда же мне годить, когда пять ранений и лет уже с гаком семь десятков? Меня нонче на Ильинском погосте мои друзья ждут-дожи даются! На кой мне твой комбайн и дорога зеркальная в рай? Ты, Еремеевич, мне для души теперь что-нибудь сделай!
Еремеевич, провидевший свой колхоз на много лет вперед счастливым и благополучным, с каменным клубом, конечно же с хором, главное – с животноводческим комплексом, обиделся на речь старика и, с досадой махнув рукой, что намекало па слепоту недальновидного оратора, исчез в утробе конторы, где все было готово для выдачи денег.
Когда же наконец первым, согласно ведомости, вызвали дядю Ваню, на дальнем берегу пруда показался Гришка Распутин. Он трусил изо всех сил, неся могучую плоть на кривоватых ногах, и за спиной у него болтался вещмешок.
Обогнув пруд, Гришка Распутин вступил на площадку, выражая кровную обиду «хромому черту» за то, что тот вовремя не известил его о зарплате.
– Григорий Парамонович! – воскликнул Кононов и сделал шаг ему навстречу. – Много ли откушали гостинцев в гостях?..
Бабы, понимая, что Кононов подсмеивается над пришельцем, не скрывая своего восхищения, разглядывали Гришку из-под надвинутых на глаза платков.
– Полный расчет… – пояснил Гришка Распутин: подавая руку только Кононову и только к нему и обращаясь. – Вы, говорит, Григорий Парамонович, паразитическое насекомое особо крупного размера… и хоть кусаетесь сладко, но для бюджета семьи слишком накладно…
Веселье, с которого началась встреча Кононова и Гришки Распутина, вскоре прервалось охватившим вдруг всех волнением. Собираясь с мыслями, думали о том, как выстоять в борьбе за свое достоинство.
Шли друг за дружкой «воздушники», чтоб, расписавшись в ведомости, получить свою «пенсию» в размере пятидесяти – шестидесяти «рублев», возвратив остальную часть до копейки бугру.
Общая сумма на человека за три месяца составила тысячу триста пятьдесят шесть рублей с копейками. Копейки шли, как правило, девице-кассиру.
Расписавшись в получении, я вышел на крыльцо, где стоял у перил бугор, и принялся дожидаться Лешки, шедшего в ведомости последним, чтоб вместе разузнать, как же будет с зарплатой Синего. Но меня упредила женщина в траурном черном платке.
– С трудом нашла, – сказала она бугру и протянула ему руку. – Не опоздала?
Бугор, нахмурив брови, провел ее в бухгалтерию и пропустил вперед.
Как вскоре выяснилось, это была Дуся – жена бедняги Миколы, не пожелавшая приехать проститься с мужем. Украсив смазливое лицо горестным платком, она стремительно шла впереди бугра к кассе.
Бугор, более всего опасавшийся, что эта женщина прихватит и его долю, не отставал от нее ни на шаг, И когда ридикюль с треском закрылся, почтительно спустил ее с крыльца и усадил в машину, давая жестом команду следовать всем за ним.
Втиснувшись в четыре легковые машины «воздушников», мы через двадцать минут подкатили к Стешиной избе и высыпали во двор, чтоб подальше от посторонних глаз совершить самый значительный акт дележа, справедливость которого во многом зависела от первого смельчака, задававшего тон всему.
Если первому удавалось отстоять договорные условия, то остальные автоматически следовали его принципу. Но уступи он бугру, как часто происходило из-за малодушия Кононова, уступали и все – аргументом служила снисходительность первого.
Сейчас выбрать кандидата в единоборстве с бугром предстояло оперативно, чтобы не дать застигнуть себя врасплох.
– Гуга! – сказал Кононов и показал два золотых зуба.
Я нехотя отлепился от группы и направился в «темницу», где меркла электролампа.
Бугор сидел на топчане в предвкушении сладостного укуса, не сводя пристального взгляда с двери.
– Ну, какие у нас дела?! – сказал я, словно доктор на утреннем обходе, чувствуя, как у самого из-под ног уплывает позиция.
Бугор, не вставая с топчана, поднял крепко сжатый кулак и решительно проговорил:
– Но пасаран! – И, выбросив из крепко сжатого кулака три пальца, шумно и радостно засопел: – Спасибо! Я снова знаком с любовным потом…
Бугор, выражая в этих словах свою твердую волю, как бы исподволь выходил к торной тропе победы. Но тут меня неожиданно озарило:
– Патриа о муэрте! – воскликнул я с непоколебимой решимостью.
Бугор внимательно взглянул из далека своей бесстрастности и равнодушия мне в лицо и, видимо, прочитав в нем упрямство, стал обходить с другого боку, переходя на доверительный шепот.
– Ты сам знаешь, как я дорожу твоим мнением. В данном случае я говорю о новичке… Как он себя вел?
Я помедлил с ответом и, тоже переходя на дальний обход, вгляделся в соперника, позволяя своему лицу изобразить неопределенную улыбку, могущую означать и насмешку, и недоверие. Но, вскоре стерев с него все оттенки, чтоб дать место равно и свету и тени, сказал:
– С ним надо считаться! Это – личность! – И на всякий случай нащупал в кармане деньги, половина из коих предназначалась к отдаче, словно намекая на то, что подготовленная беседа слишком уж затянулась.
Уловив мое движение, бугор, поскольку позиция в ходе разговора не определилась, стал заметно нервничать, а потому оттягивать время.
– Завтра поедешь в Москву сдавать продукцию! – сказал он и, видя, что к приемлемому для него дележу я не подготовлен, добавил: – Там сообщишь ему, что мы закрываемся… А сам возвратишься! Демонтируем пресс, перенесем его в хутор… Есть там свободное помещение и под жилье, и под цех.
Такое теплое расположение бугра к моей особе конечно же должно было отозваться уступкой с моей стороны, но я не клюнул на эту удочку.
– Прекрасно! – отозвался я, удваивая ложь во спасение, но, чтобы не дать сопернику отклоняться и дальше, перешел к главному – дележу. Отсчитав со сноровкой карточного игрока половину всей суммы, вручил ее бугру, напоминая и о невозвращенном долге, исчислявшемся пятью лишь рублями, словно они и были причиной нашего разногласия, и подкрепляя напоминание случаем в городе Ярцеве, в хозяйственном магазине.
Быстро пересчитав полученное и не найдя ожидаемого порядка, бугор вопросительно замер.
– Ошибочка вышла, – сказал он, смягчая назревающее разногласие. – Сто семьдесят пять, помноженные на три… – продолжал он.
– Стоп! – не дав довершить умножения, пробормотал я скороговоркой: – Одна тысяча триста пятьдесят шесть рублей, поделенные на два, равняются… пятидесяти процентам, что суммарно будет выражаться в шестистах семидесяти восьми рублях… за минусом пятерки…
Определив четкую позицию, стало быть, целую пропасть, разделявшую нас, мы перешли в «штыковую» атаку, но, когда и она не дала ни одному из нас перевеса, вернулись за круглый стол переговоров и путем дипломатических ухищрений повели аргументированную беседу.
– Давай рассуждать так, – предложил я. – Ты платил нам пятьдесят процентов из трехсот пятидесяти, что и составляло в рублях сто семьдесят пять… Так, что ли?
– Совершенно точно! – согласился бугор, улавливая в моих аргументах изъян, но приберегая контрудар на потом.
– Таким образом, – продолжал я, – делаем акцент на пятидесяти процентах… Получается… – Я упрямо глядел прямо в глаза хозяину, давая ему призрачный шанс, за которым скрывалась хорошо продуманная уловка. – Что если раньше мы получали сто семьдесят пять за ездку…
– Совершенно точно, – дружелюбно перебил меня бугор, легко переступая порог моих логических выкладок. – То почему вы нынче решили увеличить эту сумму до двухсот двадцати шести рублей? На чем основывается такое требование?..
– На том, Никифорыч, – сказал я, окрыленный своим аргументом, – что раньше зарплата равнялась тремстам пятидесяти, а теперь, как сам видишь, четыремстам пятидесяти двум…
– Но… – возразил бугор. – Ведь никогда вы такой суммы не получали…
– Совершенно точно, – сказал я, меняясь с ним ролью. – Но, скажем, если бы ты выписал нам по сто пятьдесят, смог бы выплатить прежнюю сумму?
Бугор встал. Я, переминаясь с ноги на ногу, продолжал стоять, а когда бугор загнал свою жадность вовнутрь до другого раза, вздохнул:
– Давай и впредь не тратить нервов на пустяки! Тебе хорошо известно, что помимо этих невзгод нам с лихвой хватает других!
Бугор сдался, но, сдаваясь, поставил условие:
– Пусть Серега рассчитается с Дусей и сам мне передаст…
Я, выскочив из «темницы», громко провозгласил:
– Ребята, баш – на баш!
Дальше механизм пошел раскручиваться быстрее. Сперва, чтоб не пропить больше, чем полагалось по уговору, потянулись «потрошиться» «воздушники», за ними двинулись остальные. Дошел черед и до дяди Вани – рискового человека, и началась закавыка.
Бугор требовал у подставного бугра воротить сполна всю сумму от тысячи, то есть триста пятьдесят шесть. Подставной не отдавал, требуя все сто процентов по положенному уговору.
Обижался на бугра и Гришка Распутин.
Дядя Ваня выскочил из «темницы», бросил всю сумму бугру под ноги и, хлопнув за собой дверью, пригрозил:
– Уйду к Равилю! Он цельный год меня уговаривает!
За ним, урезонивая, шел бугор со свертком в руках:
– Вань, я ж на этот раз выписал больше… Это же сверх того уговора…
– Все сто процентов! – бубнил дядя Ваня, обильно потея лицом. – Хватит, дыхнуть нам не даешь…
– Вань, возьми! – бугор всучил-таки сверток разобиженному дяде Ване. – Не кричи на всю округу! Люди кругом!
– Все одно уйду от тебя! – отвечал дядя Ваня, ощупывая взглядом сверток с деньгами. – Хватит с меня Сталинградской битвы…
Вскоре буря стихла, а воевавшие друг с другом пили прямо во дворе, закусывая пряниками.
А Кононов, презрительно расталкивая их, обходил нас, требуя за постой.
– Обожрали девку! – говорил он, выставляя два золотых клыка и выжимая еще и приплату за харч, набавляя Лешке вдвойне сервис особый. – Эй ты, голубоглазый, гони все пятьдесят!
– Серега, – напомнил я условие бугра относительно Дуси. – Получи с нее.
– Пусть сам с нее получает! – отрезал он, брезгливо поеживаясь от моего напоминания. – Нашел казначея!
Когда наконец загудели моторы и «воздушники», приехавшие на них, покинули двор, оставив бугра с владельцем рубиновых «Жигулей», и растворились за полосою окраины, бугор, не дождавшись выполнения поставленного условия, сам нежно взял под руку Дусю и увел ее в избу посвятить в механику наших расчетов.
– Клеится… – сказал Кононов, провожая их глазами. – Гляди как!.. – шептал он, придыхая со злобой. – Уволокет ее сейчас на моторе.
Но бугор, опасавшийся впасть в малодушие из милосердия к усопшему, и не думал клеиться с Дусей. Получив то, что боялся упустить, он вылетел из избы и спешно покинул двор.
Проводив его тоскливым, завистливым взглядом, Кононов поднялся в избу и ни с того ни с сего завел с Дусей разговор о Миколе, показывая на раскладушку, сложенную и прислоненную к стенке.
– Вот на ней и умер! – Кононов говорил отрывисто, резко, словно сам был Миколою, упрекавшим жену за то, что не пожелала проститься с ним. – Просил тебе сообщить…
Дуся уронила голову и тоненько заскулила, сотрясаясь всем телом. Отплакавшись, полезла копаться в ридикюле, раздражая Кононова еще пуще прежнего.
– Нам твоих денег не нужно! – сказал он презрительно. – Мы сами друг друга хороним!
Дуся уронила голову и забилась в рыданиях, бормоча что-то трогательное и больное.
– Бабьи слезы – роса! – бросил Кононов, не щадя новоявленную вдову. – Чего кислятину разводишь?!
Растворилась дверь, и вошла Стеша, держа под мышкой что-то плоское, обернутое в бумагу. Пройдя, тихо спросила:
– Дуся? – и, не дожидаясь ответа, принялась ее утешать. Успокоив, положила сверток на стол и выдохнула с удовлетворением: – Кусок медного листа… Принесла…
Гришка Распутин, занятый пересчетом получки, виновато прихурнул горлом в знак своей вины перед хозяйкой и коротко взглянул ей в глаза, чтоб прочесть, прощен или нет за прошлое, и, не обнаружив и тени упрека, бодро крякнул, предвкушая застолье:
– Вань, дуй-ка в магазин! Коли все уже дома, дак давай отметим нашу победу!
Дядя Ваня, шуршавший купюрами, спеша завершить до возвращения домой хитроумнейшую раскладку, чтоб и овцы были целы, и волки сыты, слабо улыбнулся одними губами, плохо соображая относительно того самого магазина, где и его душа была запечатана в бутылке со слезливой жидкостью. Однако, чтобы ответить хоть как-то, откликнулся сотоварищу неуместным «чего», на что Гришка Распутин, рассовывая деньги по разным карманам, ответил сперва смутной улыбкой, а затем и упреком полувопроса.
Однако, как бы ни было, в час, когда деревня почти слилась с небесным простором, теряя свои очертания, дядя Ваня, важный, как персидский султан, суча лысой башкой, возглавлял пир в честь победы над лютым врагом, каким считался бугор.
Пили все без исключения, даже «непьющие», стремясь поскорее снять напряжение долгих недель. Пили не спеша, с толком, как знающие цену настоящему роздыху. От мужиков не отставала и Дуся, уже успевшая раскраснеться.
Закусывая после очередной порции килькой в томатном соусе, она заглядывалась на шумного Гришку Распутина, раз за разом все ниже и ниже оттягивая траурный черный платок, высовываясь из-под него смазливым лицом, дразня ошалевшие зрачки того, кто за шумливостью своего поведения укрывал наметанным взглядом дошлого бабника. Так, склоняясь друг к дружке и ведя разговор на откровенном языке взглядов, они в беспокойном волнении едва усидели, пытаясь обмануть чужое пристрастие к тайне, которая в конце концов стала явной, когда первой вышла из избы Дуся, а за ней и Гришка Распутин.
Вскоре пронзительно скрипнула калитка и, уступая женщине и мужчине дорогу в ночь, застыла, поглядывая им вослед.
– Вот, Гуга, какая подлянка! – почти торжественно кричал Кононов, словно весь век ждал повода для того, чтобы высказаться так смачно и точно. – Видишь-то как, дядя Ваня!..
– Нехай! – вяло сказал дядя Ваня, собираясь в «темницу». – Не Гришка, так все одно кто-нибудь другой…
– Кто-нибудь другой не жрал из одного котла с Миколой! А он жрал… А теперь бабу его повел подминать под себя! Не паскудство, а, не паскудство?!
– Нехай, – повторил дядя Ваня, не поднимая головы, и пошел к себе, отбрыкиваясь деревяшкой.
Утром, когда мы, ведомые настойчивостью Кононова, приблизились к мастерской, то увидели, как на картонной подстилке, где более суток покоился Микола, обмирали две плоти, сплетенные одной неурочной страстью.
Не желая видеть дальше того, что пристало глазам, я повернул обратно и пошел в избу. Там, заливаясь краской смущения за Дусю, позировала Лешке Стеша, вслушиваясь в шуршание бумаги, с которой предстояло потом выбить долгожданный портрет в чеканке.
Лешка отрывисто взглядывал на Стешу и, поймав характерное, лихорадочно набросился на бумагу. Обводил линии до нужной четкости и, если контуры оказывались недостаточно точными, стирал и принимался делать все сызнова.
Стеша, в новой блузке, с распущенными волосами, сидела вполоборота и оплывала нежностью к Лешке, занятому не столько лицезрением сегодняшней Стеши, сколько предугадыванием ее будущего.
Чтоб не мешать Лешкиному занятию, я вышел на заднее крылечко и сел на ступеньку.
За оградой, у самого забора, сгорая от старческого любопытства, сидели соседи и, чуть слышно перешептываясь, поглядывали на меня, время от времени сотрясаясь в тяжелом кашле.
Легкий теплый ветерок, веющий с открытого поля, забирался в листву и ознобисто трепал ее, создавая впечатление крапушного дождичка, бог весть как народившегося на залитом солнцем небе.
Пока я сидел на ступеньке, украдкой поглядывая на Стешиных соседей, в избе затукал молоточек, должно быть, по меди, под стать комариному звону. Вскоре все, однако, заглохло и из наступившей вдруг тишины родился голос Кононова.
– Короеды! – сочился он желчью, подразумевая Гришку Распутина и Дусю. – Ты что это в кусты подался? – бросил он мне запальчиво. – Не желаешь мараться? Значит, мне одному все это нужно, да?
– Выходит, что так! – сказал я, не отрывая взгляда от проселочной дороги, по которой увозили Миколу. По ней сейчас шли двое, Гришка Распутин и Дуся, покрытая траурным черным платком. – Выходит, Серега, что паскудства в нас более, чем чести?! И один человек бессилен остановить его…
– А откуда оно берется? – проговорил Кононов, обмякая от моих слов.
– Это – продукт нашей жизни! И если дальше ничего не изменится, продукта этого будет больше!
– Послушай, Гуга, что ж с нами будет, ежели ничего не изменится?
– Помрем, как Микола, на каком-нибудь километре, и похоронят нас новые Кононовы на заросшем лопухами погосте, а там выпьют с нашими женами на помин души, и пойдет жизнь крутить свое колесо…
Нарисовав эту мрачную перспективу, я взглянул на Кононова, зло сверкнувшего глазами, подернутыми желтизной, и встал, направляясь со двора.
Тем временем из-за мелколесья в последний раз мелькнули Гришка Распутин и Дуся, растворились на пути к погосту.
Вырвавшись вперед, Кононов размашисто уходил вдаль со всею своей нутряной тоской, не умещающейся в пространстве, ограниченном горизонтами. Его тянуло за черту, к тому, что он, не признаваясь никому, надеялся разглядеть.
Переходя с открытого поля в мелколесье, с мелколесья в густой прохладный лес, местами тронутый распадками пней, Кононов без умолку рассказывал давно знакомую мне историю, сохраняя удивительную точность в пересказе.
Слушая его, я жил своими заботами, ловя себя на грустном бормотании:
За рекой – деревня.
Над рекою – мост.
И ведут деревья
Прямо на погост.
А оркестра медный
И утробный звук
Подтвердил намедни,
Что скончался друг.
На холме – церквушка,
А под ней – погост.
Не кричи, кукушка,
Каждый в мире гость…
Чуть слышно бормоча и пугаясь собственного глуховатого голоса, потерявшего внятность на ознобистом чужом и в то же время своем языке, я подбирал слова для выражения смутной тревоги, терзавшей меня и во сне.
А в лесу оглушительно пели птицы, остановив время, чтобы дать каждому дыханию ощутить себя бессмертной частицей мирозданья.
Чуть поодаль от лесной тропы, затерявшись между кустами жимолости и боярышника, стояла, усыпанная кипенно-белыми цветами, и дышала нежным девичьим обмороком черемуха, волнуя глаза чистотою и свежестью, напоминая иные места в пору майского буйного блаженства, когда раскидистые мандариновые ветки, выбросив продолговатые перламутровые соцветия, лезут в душу одурью, рождая улыбку детского счастья.
Откуда-то из глубины чащи донесся трубный призыв лося и тут же погас, утонув в частых перестуках колес поезда, бегущего вдалеке по солнечному просвету под тревожные отсчеты кукушки с ближнего дерева.
Кононов зябко поежился, отошел от черемухи и, пятясь к опушке леса, под тень двух осин, смущенно сказал:
– Когда помру, конечно, сожгут… А хорошо бы лежать на опушке. – И, как бы стесняясь своего желания перед «чужаком», добавил: – Опушка ведь – око леса! Глядит на поля и деревни и беседует…
Шагая дальше, вперед, мечтал о том, чтоб и после смерти быть причастным и памятью и плотью своей к бесконечным российским просторам, и оглядывался по сторонам с щемящей тоской оттого, что не выразить все это никакими словами.








