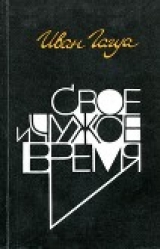
Текст книги "Свое и чужое время"
Автор книги: Иван Гагуа
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 24 страниц)
Девушка, переглянувшись со мной, слегка покраснела, но тут же нашлась что сказать:
– Вы не умеете главного – владеть собственным языком!
О бедная тетя Марта! Какая из этих ям будет вечным домом твоим?
В наших краях могильщиками становятся самые близкие соседи покойника…
Не подарив вечный дом другому – не заслужишь его сам! Так гласит мингрельская мудрость…
Если бы я знал, что своей скаредностью смогу избежать этой участи, никогда никому не делал бы подобного подарка в виде этого неуютного вечного жилища.
– Что все молчком да молчком! – проговорила спутница, заглядывая мне в лицо. – Как тебя зовут? Меня – Талико!
– Гоча! – выдавил я, глядя на деревянный дом, громоздившийся в конце длинного двора на кирпичном цоколе.
Поднявшись на веранду, Талико усадила меня на кушетку, выставленную сюда и покрытую желтой циновкой, а сама, достав из-под порога ключ, исчезла за дверью комнаты. Но через минуту вышла обратно, неся утюг и щетку.
В утюг она насыпала древесные угли, принесенные ею из кухни, и, облив их керосином, подожгла. А когда из приоткрытой крышки утюга вспыхнуло пламя, то сделало его похожим на маленький кораблик с алыми парусами, переставила его на цементную ступеньку, подсела ко мне и, вдевая в иглу нитку, голосом сварливой хозяйки сказала:
– Сними пиджак! И шапку не забудь!..
Я молча повиновался и, украдкой поглядывая на руки Талико, проворно зашивавшие разорванный рукав чужого пиджака незаметным швом, понял, что именно эта девушка должна занять самое большое место в моем сердце, несмотря на то что она облила меня… Было совершенно ясно, что перед ее стремительным лукавым взглядом и притаившейся в уголках губ улыбкой, готовностью в любую минуту осветиться радостью по самому незначительному поводу, не могли устоять медлительные и тяжелые движения Нуну, хотя обе они были одного возраста.
Нет, это не девушка, а огонь!
Или, как говорят в Мингрелии, одна из тех, кому удалось обуздать одновременно черта и дьявола: чертовски дерзкая и лукавая и дьявольски настойчивая и упрямая, а между тем самый нежный и теплый комочек самого таинственного в мире существа…
Зашив рукав действительно незаметным швом, таким, что вряд ли его теперь мог заметить Габриэль, Талико смочила щетку водой и принялась чистить пиджак, а закончив, повесила на столбик веранды и снова подсела ко мне, дерзя и подшучивая надо мной.
– Чего ты такой квелый, может, хочешь познакомиться с нашим садом?..
Я покраснел. И желание знакомиться с чужим садом тут же исчезло.
– Вот когда утюг перестанет дымить, я проглажу… – сказала она, продевая одну ногу в стремя черта, а другую – дьявола, забывая о том, что является нежным и теплым комочком самого таинственного существа…
Пожар возник внезапно, как, должно быть, возникают все пожары. А когда он погас, утолив свою жажду, в утюге тлели угли, покрытые серым прахом пепла; сквозь раскрытую крышку ветерок выдувал этот прах догоревшего жара и рассеивал в воздухе.
Накинув на себя непроглаженный пиджак, я вышел во двор и встал под инжиром. Сердце подступало к горлу и стыло при виде Талико…
Талико вышла не скоро и уже в другом платье.
И мы медленно и молча пошли, сперва мимо кладбища, потом садом. Она то всхлипывала, то беззвучно смеялась искривленными губами.
Войдя во двор, где по-прежнему кричали женщины (каждая из них, выплакав чужое горе, теперь оплакивала собственное) и вздыхали два совершенно охрипших оркестра, Талико прошла под навес и, встав среди плачущих у изголовья покойницы, сокрушенно заревела, время от времени поглядывая на меня, застывшего у входа…
Плакал и я.
Только плакал я потому, что плакала Талико. У меня на сердце не было и тени горя. Выражением радости и смутной тревоги были мои слезы, сладостно разрешавшие в молодом, еще до конца не проснувшемся теле заложенные самой природой муки…
Вскоре Талико растворилась в толпе плачущих женщин. Ее лица уже нельзя было разглядеть в траурной черной толпе.
Лишь поздним вечером я вернулся домой.
В доме горела керосиновая лампа.
Отец сидел на постели, облокотившись на подушки, и запивал легкий послевоенный ужин черным, как траур, чаем.
– О бедная Марта… – заплакала мать, рассматривая пришитую к пиджаку фотокарточку. – Несчастной судьбы сестра… – Затем, все еще продолжая причитать, она осторожно выпростала фотокарточку и спрятала ее среди других таких же снимков умерших в разное время родственников.
Я прошел в свою комнату и упал на кровать.
Я лежал, оплакивал рано наступившую юность и всем своим разгоряченным сознанием понимал, что не жить мне теперь без Талико…
Москва,
1968
СВЕТ И ТЕНЬ

В семи верстах от города, над шоссейной дорогой, за крутым поворотом в подъем, виднеется одухотворенное светом и солнцем деревенское кладбище, приткнувшееся железным боком ограды к мандариновым плантациям совхоза.
В глубине мимозовой рощи кладбища, на небольшом, густо обсаженном какими-то кустарниками зеленом дворике красуется беленький дом в два окна.
Говорят, что этот домик несколько лет назад построил один очень известный в нашем приморском городе человек для своей юной любовницы.
Но вы этому не верьте!
А повыше кладбища, там, где кончаются мандариновые плантации, на самом гребне холма, дико зеленеющего гигантскими эвкалиптами, пальмовыми аллеями и дымчато-голубоватыми кипарисами, образовавшими причудливую корону, выступают два великолепных корпуса с башенками, окрашенными в небесный цвет.
Эти четырехэтажные творения из белого камня и красного кирпича построил в давние времена заезжий богатый немец для больной чахоткой дочки.
И это правда!
Заботливый отец ничего не пожалел ради выздоровления любимой дочери.
Все комнаты были украшены самыми веселыми росписями.
Больная, сидя в одной из трехсот шестидесяти шести комнат, предоставленных ей по числу дней года, могла наблюдать за кропотливой жизнью близлежащих деревень и любоваться морем в солнечную погоду. Но все заботы отца оказались бессильными перед болезнью. Девушка вскоре умерла, так и не налюбовавшись всеми видами, открывавшимися из многочисленных комнат.
Теперь в этих зданиях располагается какая-то лечебница. Какая именно, затрудняюсь сказать. Но, судя по тому, с каким нескрываемым состраданием глядят вослед идущим по направлению к лечебнице мои добрые односельчане, там нет ничего такого, что могло бы пригодиться здоровому человеку.
Во всяком случае, даже старый кладбищенский сторож, седоусый Иорика, живущий непосредственно на кладбище, деля в домике по окну с беленькой женщиной Клавой, непревзойденной искусницей по венкам и первой обольстительницей мужчин нашей деревни, считает, что кладбище куда более предпочтительное место для службы, чем вышеупомянутая лечебница…
Мне, конечно, трудно судить, прав Иорика или нет, поскольку я, по известной причине, не имею чести служить ни в лечебнице, ни на кладбище, а от избытка времени занимаюсь сплетнями, что в некоторых серьезных кругах именуется еще писательством. Правда, как сами вы можете убедиться, я и здесь не преуспел, однако не теряю надежды понравиться какой-нибудь дородной женщине и вкусить наконец радость настоящего признания, хотя очень уж это дело обманчиво.
Иорика, наверное, прав.
Где еще в наше время можно найти более спокойное и надежное от всевозможных житейских бурь место службы, как не на кладбище?
Ценя свое место кладбищенского сторожа, Иорика не без гордости напоминает об этом время от времени Давиду, торгующему разбавленным керосином в лавке напротив кладбищенских ворот, через дорогу, на спуске.
Давид, как всякий человек, занятый созиданием «материальных ценностей», плохо понимает Иорику, хвастающего своим положением кладбищенского сторожа.
– Тебя послушать, – замечает Давид, брезгливо сплевывая себе под ноги, – ты создал самое справедливое общество: каждому по три аршина земли… Не пойму, чем тут гордиться – живешь среди могил…
– Уж ты того, Давид, – возражает Иорика, сильно кося глазами и не умея найти правильного ответа. – Ты уж чересчур того…
– Глупость говоришь, старик! Что значит – того? – Давид эти слова произносит в самом обидном тоне, сопровождая уничтожающей усмешкой, отчего сердце Иорики готово тут же выскочить из груди и отхлестать обидчика по щекам, но, не в силах этого сделать, так часто и сильно колотится в груди старика, что тот едва переводит дыхание.
А Давид, не желая на этом остановиться, продолжает потчевать своего приятеля в том же тоне и еще более обидными словами:
– Ох, дорогой мой Иорика, с каждым днем все больше и больше глупеешь, хотя сказать, что в молодости ты отличался умом, будет грешно…
После таких обидных слов, почувствовав себя в лавке лишним, Иорика машинально слюнявит кончики пальцев, чтобы потуже закрутить концы белых усов, и выходит, поклявшись в душе никогда сюда больше не заглядывать, если даже на всем белом свете переведется керосин. Но, дав такую поспешную клятву себе. Иорика вспоминает, что самое позднее через неделю нарушит ее, и от сознания собственной слабости сильно страдает его самолюбие.
– Ну, погоди, Давид! Будет еще весна! – бубнит обычно Иорика, покидая лавку. – Мы еще посмотрим, как ты проведешь меня на сей раз… Как-нибудь доживу до весны…
Это намек Давиду, что ему теперь по весне не наломать в отсутствие Иорики мимозовые деревца на могилах, не продать весенние цветы, пользующиеся в северных городах спросом, оптовым скупщикам.
Но Давид, хоть и торгует воспламеняющимся веществом, не вспыхивает, а, напротив, как и подобает продавцу разбавленного керосина, шипит, и сквозь его шипение пробивается слабый отзвук смеха. Затем, бросив беглый взгляд вослед удаляющемуся Иорике, торжественно кричит отсыревшим голосом потянувшимся мимо кладбища в лавку покупателям:
– Эй вы, ходячие трупы, пользуйтесь всеми благами жизни, пока смерть не отметила вам командировку в эту чудесную страну… – И, ударив молотком по пустой бочке, выставленной за порог, весело улыбается: – Жгите, сукины сыны, керосин и дуйте черное вино! А самое главное, не забудьте держать руки на бедрах красивых женщин! Поверьте мне, не найдете вы на том – будь он проклят! – свете ничего подобного…
Несмотря на то что покупатели бывают разного нрава, почти никто из них не смеет упрекнуть Давида в том, что тот разбавляет керосин или кладет наценку, если только не прибегает к тому и другому разом.
Происходит это, наверное, потому, что Давид слывет человеком веселым и к тому ж невезучим в карточной игре. И еще потому, что нет попросту другой керосиновой лавки ближе, чем в городе.
К нему, чтобы посидеть в лавке, приходят молодые ребята, прихватив с собой бутылку вина. Приходят школьники, чтобы спрятаться от докучливых школьных занятий, приходят покупатели керосина и даже те, кто за всю жизнь ничего не купили. Одним словом, в лавку приходят все те, кому негде убить тоску. И, как правило, сбор в лавке завершается страстной карточной игрой, в которой Давид проигрывает деньги так же легко, как и приобретает их. Зато на следующий день цена на керосин возрастает и не снижается до тех пор, пока проигранная сумма не возвратится к Давиду.
В такие дни окрестные жители стараются воздержаться от покупок, но поскольку воздерживаться иногда приходится долго (это зависит от проигранной суммы), то они бывают вынуждены пойти на уступки и тем самым положить конец керосинному голоду, хотя теперь не прежние времена и керосин в хозяйстве играет лишь вспомогательную роль. И тем не менее в некоторых местах, несмотря на газ, постепенно вытесняющий из быта керосин, именно ему, этому допотопному товару, вверено еще быть самым верным и надежным средством в поддержании семейного благополучия…
Помимо излюбленной привычки подзаводить ни в чем не повинного Иорику, что Давид делает больше от скуки, чем от злого умысла расстроить приятеля, непреходящими страстями его по-прежнему остаются карты и женщины, хотя последние с возрастом все чаще оказываются ему не по зубам… И вместо обычного ухаживания приходится ограничиваться шуткой или глубокими вздохами, брошенными вослед… А вот карты, пусть они отнимают немалые деньги, другое дело. Эта страстная игра доставляет Давиду много приятных минут, совершенно непонятных человеку, никогда не игравшему…
Как мне теперь кажется, азартные игры и любовь к женщине одинаково способны поднять человека со дна или бросить его туда безвозвратно, что – и то и другое – в общем-то, дело случая.
– В карты, – с сознанием своей слабости и своего превосходства подчеркивает Давид, сидя в тени эвкалиптового дерева перед лавкой за пустой бочкой, служащей столом во время игры, и бросая победный взгляд на Иорику, если тот уже успел простить недавнюю обиду и заглянул к нему под тень, ставя себя невольным свидетелем его страсти. – В карты, – говорит он, – я могу проиграть собственную могилу, ежели Иорика не осерчает на меня за это. – И снова, отодвигая Иорику на грань неминуемой развязки, о чем по своей доверчивости тот не может догадаться, Давид с головой уходит в игру, кутаясь в сизый, застывший в воздухе папиросный горьковатый дым, чтобы потом окончательно определить место Иорике…
Иногда по воскресеньям случается бывать в лавке и мне, чтобы после трудной и продолжительной недели, пропахшей чернилами и бумажной канителью, вдохнуть естественный запах мира и послушать новости, преломленные в умах моих односельчан, или попросту, сидя в тени между ними, помечтать о будущем. И пока я предаюсь столь заманчивому занятию и вдыхаю запах керосина, собравшиеся за карточной игрой режутся во весь дух, а на кладбище в центре двора над чем-то хлопочет Клава, должно быть, готовясь к встрече с Николаем Николаевичем, пасечником, человеком серьезным, медлительным и округлым добродушной округлостью, как, наверное, все пасечники. Скажу вам по секрету: Николай Николаевич после одного известного здесь случая, о чем я, может быть, расскажу, очень занимает меня. В его медвежьей неуклюжести есть что-то твердое и непоколебимое, смешное, но нужное для горного жителя и пасечника. Очень уж интересен этот Николай Николаевич.
Говорят, что Николай Николаевич ходил к Клаве с серьезными намерениями, желая навсегда вытащить ее из кладбищенских невзгод и поселиться с ней в Верхних Латах, что вряд ли произойдет теперь, после одного случая, обратившего жизнь Иорики и Клавы с Николаем Николаевичем в предмет насмешек со стороны безжалостного Давида, получившего для этого повод.
Насколько известно мне, Николай Николаевич перестал думать о женитьбе, хотя все еще продолжает носить, как прежде, в своем рюкзаке всякие склянки, должно быть, с медом или еще с чем-то очень вкусным.
Подойдя к кладбищенским воротам, он снимает неизменную соломенную шляпу и, обнажив облысевшую круглую голову с остатками шелковистых волос, неуклюже тычется в калитку и не может ее открыть, хотя сделать это не представляет особого труда. Досадуя то ли на калитку, не поддающуюся его рукам, то ли на свою неуклюжесть, Николай Николаевич долго топчется на месте, бормочет что-то такое, отчего прохожие не могут пройти мимо него без лукавой улыбки. Наконец, кое-как протиснувшись в калитку, медленно теряется среди могильных крестов и плит и возникает уже перед домиком, при этом непременно кашлянув, чтобы заблаговременно возвестить о своем благополучном прибытии… И действительно, окно, принадлежащее Клаве, моментально растворяется настежь, затем распахивается дверь и, показавшись из нее, взволнованная хозяйка летит по ступенькам вниз, готовая заключить своего пасечника в объятия, но, подойдя к нему, умеряет пыл, боясь такой горячностью обидеть Николая Николаевича. А там, если она заговорит, что долго тянулась неделя, Николай Николаевич потупится от стыда за Клаву и, комкая шляпу, и так достаточно искомканную, коротко произнесет:
– Такое дело вышло…
Потом Клава бережно возьмет у него шляпу, обернется на керосиновую лавку, нет ли среди посетителей Иорики, и, найдя его глазами, позовет его в дом, на что счастливый Иорика, руководимый чувством добрососедства, встанет и, сделав серьезную мину, пойдет…
А что уж происходит затем в домике, догадаться совсем не трудно. Пьют крепкий напиток в честь прихода Николая Николаевича.
Если верить Давиду, не раз бывавшему приглашенным Клавой к такому застолью, разговор там должен происходить примерно такой:
– Мне, Николай Николаевич, жизнь дала все, – начинает Иорика и, убежденный в своем благополучии и счастье, добавляет: – Только не судила, знать, семью…
Николай Николаевич, посчитав это за намек по его адресу, спешит перевести разговор в другое русло:
– Давеча в лесу много грибов пошло… Если еще даст теплого крапушного дождя, то грибов не пройти. – Застряв на этом и не зная, как выбраться из положения, Николай Николаевич густо краснеет.
Но тут Клава, желая вывести Николая Николаевича из затруднительного положения, возвращает его в прерванный круг разговора:
– Дорогой мой Коля! – Глаза Клавы от избытка чувств к Николаю Николаевичу наполняются слезами. – Не держи так близко к сердцу обиду… Я баба глупая, меня в крепких руках держать надо… Ей-богу, правда! Глупая я баба, но добрая…
Клава действительно женщина добрая, и если что в ней глупого, так это от мужчин, которых она знала.
Иорика, поворачиваясь к Николаю Николаевичу боком по причине все того же сильного косоглазия, за что и был прозван Давидом, понятиями диаметрально противоположными: Европа – Азия, смотрит одним глазом на пасечника, другим – на Клаву и хочет сказать им что-то такое, что могло бы внести в отношения между ними мир и любовь, но, не найдя таких слов, продолжает молчать…
А Николай Николаевич, как бы отвечая и Клаве, и Иорике, говорит медленно густым медовым басом:
– Такое, значит, дело вышло, вот. – И, сопровождая слова движениями рук, словно осторожно вынимая из улья соты и взвешивая на руках, добавляет: – Человеку голова потому и дадена, чтобы сердечные прихоти вовремя отсекать!.. – Решив, что сказал лишнее, Николай Николаевич умолкает, стараясь молчанием загладить вину.
Я не знаю, так ли это или нет, но ничего другого предложить не могу, а подслушивать чужой разговор, хоть в нем и заключается основная работа всякого пишущего человека, дело постыдное…
Иорика, как уже известно из первых страниц, живет на кладбище с самого возникновения на нем вакансии сторожа. Жил он сперва в ветхом домике, потом ветхий домик сменился хорошим кирпичным домиком, а вместе с Иорикой в него вошла молоденькая девушка Клава. Поэтому сказать, кому этот домик обязан своим возникновением – Клаве или Иорике, – теперь трудно, об этом никто толком не знает. Одно лишь совершенно ясно: что Иорика не мог родиться вне кладбища, чтобы потом стать его законным сторожем.
Давид тоже, как утверждают окрестные жители, явился на свет вместе с керосиновой лавкой и торгует в ней больше водой из речки, огибающей эту лавку и сильно пообмелевшей от чрезмерного усердия лавочника, чем керосином. Тем не менее в лавке, возникшей бог весть когда на спуске дороги напротив кладбищенских ворот, они не знают никого другого, кто мог бы так потчевать своего покупателя веселыми рассказами и всевозможными новостями, как это делает изо дня в день Давид.
С тех самых пор как Иорика и Давид заняли свои вакансии, люди поняли, что в их лице кладбищенского сторожа и керосинщика послал им сам бог, возложив на них земные обязанности – Иорике давать вечное успокоение от сует и трудов усопшим, а Давиду – тепло и свет живым. Но беда в том, что, возложив на них эти обязанности, жизнь породила между ними соперничество: чья работа более почетна и необходима? Этот невыясненный спор сформировал два противоположных характера…
Вот, судите сами.
Иорика, как того требует положение кладбищенского сторожа, человек серьезный, тихий, совестливый. А потому о людях говорит всегда уважительно и вообще не утруждает слух собеседника многословием. Любит животных. Ест больше вегетарианскую пищу. И, как вам уже известно, не умеет долго сердиться – отходчивый. Ходит он медленно, но легко, кося пятками вовнутрь…
Давид, напротив, косит пятками наружу. И подчас так сильно, что стачивает каблуки до задников. И характером он не похож на Иорику – очень уж шумный, смотрит на вещи весело, но трезво. Иногда заглянет вперед так далеко, что многих оторопь берет. Сердится Давид чрезвычайно редко, но зато на всю жизнь. В отличие от Иорики он не заботится о слухе собеседника. Говорит о людях снисходительно, смеется над ними в часы откровения, но не упустит возможности посмеяться и над собой, за что в его шутках не видят злого умысла. Рассуждает Давид много и всегда вслух.
– Кто мы такие будем? – говорит он и тут же отвечает: – Извольте: мы – большие муравьи! Бегаем взад-вперед, и каждый со своей ношей… Куда так торопимся? Чего хотим? Где конечная цель? – И Давид снисходительно улыбается. – Хотим весь земной шар, а причаливаем сюда, чтобы превратить там, у Иорики, ровное место в жалкий холмик… Так что пойдите полюбуйтесь на себя в будущем еще при жизни… Чего улыбаетесь, не так говорю? А ну попробуйте сделать это через сто лет… – И, повернув свои пророчества другим боком, протяжно хохочет: – Что же касается меня, я и там займусь своим делом – в аду керосин, наверное, тоже пользуется спросом… Только какую же должность получит Иорика в раю? Он-то наверняка попадет в рай… Всем безгрешникам постное место – рай!
Иорика, к своему несчастью, – я уверен, что у него выросли бы хорошие дети, – не создал семьи. По словам Давида, он даже не удостоился женской ласки. Но зато преданно и ревностно любит его ишиас. О чем мечтает Иорика? Больше о замужестве Клавы, чем об избавлении от недуга.
Давид, будучи человеком трезвого ума и расчета, выдавший трех дочерей замуж, мечту Иорики считает глупой и всячески препятствует браку Николая Николаевича с Клавой, хотя и без его вмешательства здорово порасстроилось это дело. И соответственно, мечта Давида более весома и материальна в отличие от мечты добрейшего Иорики. Давид мечтает как можно скорее увидеть свою керосиновую лавку выросшей до грандиозных размеров современных бензоколонок.
Вот, как вы можете убедиться сами, ничего общего нет между этими стариками, если, конечно, не считать, что оба они владеют паспортами, выданными одним столом и даже одним столоначальником. Нет ничего общего между ними, как нет ничего общего между кладбищем и керосиновой лавкой, если не считать, что оба эти старика одного возраста и любят один и тот же праздник – Новый год – за обилие яств. Новый год, однако, так редок, что можно было его не упоминать, если бы этот праздник как-то не связывал их трогательной детской привязанностью друг к другу…
Давид каждый такой праздник встречает особенно.
Подойдя к кладбищенским воротам в полночь, он протяжно и радостно прокричит:
– Эге-ге-гей! Еще одно чудо моей жизни!
Иорика, ждущий этого мгновения, быстро просеменит к Давиду и, встретив его за оградой, расцелуется с ним.
Но Давид даже в такой день остается самим собой.
– Что видишь, друг, в Европе, а что в Азии? – спросит он, тиская в объятиях своего приятеля.
Потом старики три дня гуляют за праздничным столом.
Хоть Давидова жена уже хворая старуха, она умеет вкусно приготовить. Да настолько вкусно, что Иорика шумно сопит, всецело отдаваясь праздничным разносолам… И вдруг с удовольствием вспомнит свой незабвенный ишиас и схватится за поясницу, на что Давид состроит серьезную мину и участливо спросит:
– Что с тобой, дорогой Иорика?
– Это старая болезнь – ишиас! – незамедлительно ответит счастливый Иорика, заранее зная, что за этим последует. Но ему все равно приятно ответить на вопрос именно так, как это хочет Давид: – Ишиас, ишиас, проклятый!
– Ишиас вылечивает ишиа-ак! – расплывается в улыбке Давид. – Поезжай-ка в Верхние Латы! Там, дорогой Иорика… только там можно найти ишиа-ак…
Но поскольку Новый год вечно продолжаться не может, то и разговор тоже меняется. О чем же они говорят все остальное время?
– Ну и расхвастался! – донимает Давид. – Мертвецами уже пропах, а все еще хвастает…
– Ты сам… того, керосином… – перебивает его Иорика, доведенный до отчаяния. – Ты мертвецов не трогай! Хоть они полвека тому померли, однако ж они и мертвецами получше тебя будут… Если не так, судите сами: у меня два генерала здесь имеются? Имеются! Один министр похоронен? Похоронен! А сколько другого почетного люда… Считай, что ты, когда того, помрешь, самый неприметный среди них и окажешься! Ты спасибо скажи, если еще на человеческое кладбище примут…
Давид, как читателю уже известно, чрезвычайно редко обижается. А на сей раз его такой разговор, можно сказать, даже развлекает:
– Ох, Иорика! От твоего кладбища уже мертвецы бегут… только ты засиделся…
Иорика редко, но умеет, когда к нему приходит озарение, в два счета посадить Давида в галошу:
– Попридержи, Давид, язык, а то Баху может услышать… Тогда несдобровать тебе!
Пока у них идет перепалка, я должен немножко вернуться назад и объяснить, о чем идет речь.
Около сорока дней тому назад в нашей деревне случились две смерти, послужившие причиной отчуждения Николая Николаевича.
Скажем прямо, что после этого случая, происшедшего на кладбище по вине Клавы и Баху, Николай Николаевич не появлялся в наших краях до прошлого воскресенья. И поговаривали, что уже больше ни Иорике, ни Клаве тем более не видать Николая Николаевича как собственных ушей, не говоря уж о нас, простых жителях деревни. Но дело приняло вдруг другой оборот. Пришел Николай Николаевич, как всегда, со склянками в рюкзаке, но уже не в качестве жениха, – нет, извините! – а просто любовника, наказав таким образом Клаву за измену и нас, посчитавших, что Николай Николаевич пришел восстановить прежние отношения жениха… Как бы не так!
– Так вот, умерли, значит, в один день два человека мужского рода: один – старик, давно переставший быть мужчиной, но все еще носивший брюки, другой – младенец, еще не истрепавший и пары брюк, но обещавший стать мужчиной. И оба были приравнены друг к другу – смерть неразборчива в делах своих – и оплакивались в один день, хоть и жили в одной деревне.
Похороны, как нарочно, совпали с днем свидания Николая Николаевича с Клавой.
Николай Николаевич обычно не пропускал ни одного воскресенья, чтобы не повидаться с Клавой, лишь за редким исключением, когда нужно было выкурить мед или проделать какую-нибудь срочную работу. Но и тогда Николай Николаевич находил способ сообщить об этом Клаве. Делалось это либо в виде открытки, либо через знакомых, часто бывавших в городе. И если уж случалось ему пропустить свое законное воскресенье, то в следующий раз он становился веселым и сентиментальным, что в другие дни счел бы за слюнтяйство.
После такой длительной разлуки Николай Николаевич позволял Клаве громко вскрикнуть от радости, обнять себя и даже поцеловать в маковку, что всегда с большой охотой делала счастливая Клава, наверное, считая, что голова пасечника начинена сладким медом, как и соты, которые он приносил.
Ничего этого могло не случиться, если бы не хоронили в то памятное воскресенье двух умерших из нашей деревни.
Николай Николаевич пришел почему-то с большим опозданием.
Солнце уже садилось, и Клава в такое позднее время его не ждала.
Ворота оказались распахнутыми (к счастью ли Николая Николаевича?!), так что не составило никакого труда беспрепятственно пройти к домику.
Подойдя поближе, он кашлянул. И тут… увидел сперва Баху в форме местной футбольной команды – в голубых трусах и в белой майке с черной, как траур, каймой, затем углядел Клаву…
Не имей Николай Николаевич обыкновения кашлем предупреждать о своем прибытии, трудно сказать, чем бы все это кончилось, хотя никто из нас не сомневается в благоразумии Николая Николаевича.
Случилось это вот как…
Могильщиками старика назвались два человека: Баху, красивый и молодой мужчина, но лентяй из лентяев, и угрюмый Григо, физически одаренный, но слабоватый умом человек.
Придя на кладбище с провиантом (могильщикам, по местному обычаю, дают с собой фасоль с соленьями, вино и хлеб), они начали копать могилу. Но, углубившись всего на один штык лопаты, они решили переждать солнце, когда оно перевалит на другую половину неба, чтобы не очень припекало, а там быстро вырыть могилу. И оба напарника отправились в дальний угол кладбища и легли в тени кипариса. И только Григо захрапел, как Баху не замедлил сбежать к Клаве, прихватив с собой провиант… И вот незаметно угас день, а Баху не возвращался. Проснувшийся от голода Григо подналег один, чтобы не осрамиться перед соседями. Но, как он ни старался, времени оставалось мало: процессия уже двигалась где-то совсем рядом, а могила была не готова. И тут пришел Николай Николаевич, и вскоре со стороны домика послышался молящий голос Баху… Но Григо не повел и ухом.
Баху, услышав кашель Николая Николаевича, подошедшего вплотную к домику, выскочил в чем был и бросился вон. Вслед за ним с ружьем метнулась Клава:
– Стой!!!
Летевший стрелой Баху был остановлен посреди двора страшным окриком Клавы.
Держа на изготовку ружье, Клава всем своим видом показывала Николаю Николаевичу, что час страшной расплаты Баху наступил и помешать этому ничего не может – оскорбленная женская честь требует возмездия…
Но Николай Николаевич, обиженный в лучших чувствах жениха, повернул обратно к распахнутым воротам, унося прокисший мед запоздалой любви и раскаяния…
А Баху, заслонив лицо руками, замер на чьей-то могильной плите, голыми ступнями ощущая смертельный холод…
Клава тем временем спустилась с лестницы, подошла поближе к Баху, держа перед собой ружье, отчего тот пришел в отчаянный трепет и взвыл о помощи, не понимая, почему вдруг к нему так сурово обернулось любовное свидание…
В это время процессия, сопровождаемая воплями духового оркестра, вступила на территорию кладбища и потянулась к могиле.
Воспользовавшись заминкой Клавы, Баху бросился со всех ног в сторону и, чтобы избежать пули, прыгнул в яму и угодил на спину замученного рытьем могилы Григо, за что тот избил его, предварительно оборвав на нем остатки одежды, и выбросил вон из ямы.
Подходившая к могиле процессия была вынуждена приостановиться, заметив столь необычное зрелище. Искалеченный Баху в чем мать родила, как заяц, скачками припадая на правую ногу, несся в сторону лавки, прикрывая на бегу ладонями стыд…
А теперь, когда вы узнали все, давайте вернемся в Давидову лавку.
Как хорошо отдыхать под сенью гигантских эвкалиптов, вдыхать любимый запах керосина и наблюдать за хлопочущей во дворе Клавой, должно быть готовящейся к встрече с Николаем Николаевичем, и невольно думать о разных разностях, о чем никогда бы не подумал, если бы с жизнью не соседствовало кладбище…








