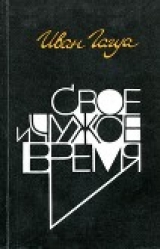
Текст книги "Свое и чужое время"
Автор книги: Иван Гагуа
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 24 страниц)
Мы в привычном порядке заняли места и выложили свои руки на стол в ожидании лакомства. На этот праздничный стол каким-то чудом попало полкирпича ржаного черного хлеба. Ноздреватый срез этого чуда дразнил воображение. Пахло овощами и бессмертием.
Вдруг отец, кривясь от резкой боли, счастливо улыбнулся:
– Будет дождь!
Круглые глаза, ошарашенные таким сообщением, сперва уставились на отца, а потом устремились в небо.
Отец тем временем растирал культю больно и счастливо:
– Обязательно будет!
И мы все разом увидели черные тучи над горами. Они стремительно приближались к нам. По мере того как они приближались, нарастал характерный шум. И вот пахнуло в лицо счастливой свежестью, и тут же шумно посыпались первые крупные капли серого дождя. Затем капли участились и перешли в сплошной проливной дождь.
Мы с братом тут же сорвались с мест и бросились во двор под шумящий ливень.
Вскидывая руки и кружась в танце, мы что-то громко выкрикивали, шалея от неожиданной радости, посетившей нас. Блаженствуя под освежающими струями долгожданной воды, мы видели счастливые лица взрослых. Мать, скрестив на груди руки, тихо плакала, забывая утереть слезы. Отец, важный и гордый, как бог, сидел прямо и смотрел куда-то мимо всех отрешенным взглядом. «Модистка», торопливо доставая из черного футляра скрипку, задумчиво шевелил губами. Затем, вскинув инструмент на плечо и касаясь его подбородком, ударил смычком. А когда полилась серебряная мелодия, как вешняя песня дождя, «модистка» запел со сдержанным лукавством, возвышаясь своим могучим ростом над обеденным столом. Пел он, как нам казалось, хвалу дождю. Хотя слова этой песни были непонятны, но их добрый смысл был в самой песне, и он не обманывал нас.
Такая песня могла зародиться у народа, долго путешествовавшего по выжженной пустыне:
Китэлее цвалталей,
Хобис мами, цувис китэлей…
Что это была за песня? Откуда она явилась в наши края? Так и подмывает подпеть ей:
Лейся, лейся, лейся,
Лейся веселей…
За долгие годы своего бродяжничества я повидал немало засух, людей; пел и слушал чужие песни, но нигде потом я не слышал эту! Может быть, мое произношение далеко от совершенства, но так эта песня врезалась мне в память:
Китэлее цвалталей,
Хобис мами, цувис китэлей…
И сейчас, спустя уже более тридцати лет с того дня, я часто вспоминаю наше далекое с братом детство. А полюбившиеся чужеземные слова щекочут мне губы, трогая их доброй улыбкой. И я, смущаясь своего голоса, начинаю тихо напевать про себя…
Кто он был, этот человек? Откуда и куда он шел? Какая боль шла по пятам за ним?
Я и по сей день не знаю его настоящего имени. Как смешно, наверно, звучит сегодня когда-то нас волновавшее слово «модистка»! Но память хранит его как нечто очень трогательное и близкое! Как свет в глаза!
В конце осени того же года он переехал в город и затерялся в городской сутолоке.
Встречал я его несколько раз: он был подтянут, строен и нес в себе тайну величия и доброты… Я не подошел к нему. Жили мы тогда с братом как-то странно, жили памятью плоти и ее жизнью, она требовала от нас борьбы в жестоком единоборстве со временем… Увлекаясь этой борьбой, мы подчинялись ее законам и делали то, что не отвечало нашему внутреннему содержанию. А душа, набираясь сил, пока дремала, чтобы потом своим окрепшим духом сломить неуемное упорство плоти и подчинить себе, взыскав с нас стыдом раскаяния…
Много я прошел по вязким дорогам жизни, много повидал жестокого и скорбел… Но сотворил ли я добро людям на горестных этих дорогах?.. Слишком долго уж зрела душа, чтобы рассказать об этом, объединив Память и Бессмертие в поздней любви к ближнему…
Бабушара,
1984
ТЕТЯ МАРТА

Во вторник вечером перед воротами предстал горевестник на черном иноходце и сказал…
И началась эта история.
Как потом выяснилось, довольно грустная и глупая, как многие другие истории в моей жизни.
Горевестник сказал:
– Безутешная родня извещает вас о смерти Басариа Марты и просит разделить скорбь по случаю безвременной кончины. Похороны назначены на воскресенье Несчастная Марта… – прошептал он в заключение голосом, давно проверенным в этих делах, и, держась скорбно, скорее из приличия, чем из жалости к умершей, с достоинством развернул своего черного иноходца и лихо заплясал по проселочной дороге.
Мать, растроганная сообщением о смерти тети Марты, медленно отошла от ворот и, скрестив на груди руки в знак печали, как и полагалось близкой родственнице, горько запричитала.
Неожиданное напоминание о быстротечности человеческого века исторгло слезы.
А в четверг, когда она собралась почтить покойницу, внезапно заболел отец. Открывшиеся фронтовые раны захлестывали его кровью, причиняя невыносимые муки.
Поэтому мать, как всякая христианка, воспитанная на почитании давно сложившихся обычаев, один из которых требует теплого и сочувственного отношения к умершему, поскольку далеко не каждый может рассчитывать на это при жизни, решила отправить меня на похороны, чтобы засвидетельствовать почтение нашей семьи многочисленной родне тети Марты.
Я пребывал тогда в том прекрасном возрасте, когда еще нельзя было назвать меня отроком, но и юношей пока.
Между прочим, самый опасный возраст для ребят, так как именно в этом промежуточном периоде начинают присматриваться к девочкам, находя каждую заманчиво красивой… Но вдвойне опасен такой период для девочек, поскольку они еще не подозревают о том, что, заигрывая с ребятами в этом возрасте, ведут постоянную игру с огнем…
Достойно прошедшие этот период девочки благополучно для себя и своих женихов приходят на брачное ложе.
Одним словом, я пребывал в том прекрасном возрасте, когда игра девочек со мной была опасна для них, как игра с огнем, так как мог всегда возникнуть тот самый пожар, которого так боятся взрослые…
В воскресенье утром, как и полагалось человеку, собравшемуся в дальнюю дорогу, я встал рано. Тщательно вымывшись под умывальником, не спеша прошел в сад. Там, напугав расчирикавшихся воробьев, стал насвистывать какую-то мелодию, но, вспомнив, что умерла тетя Марта, тут же перестал.
Теперь, когда я пишу эти грустные строки, чтобы принести свои извинения безутешной армянской семье за ошибку, вышедшую тогда по моей неопытности, ловлю себя на мысли: а как же тетя Марта? И как мне получить ее прощение, если ее давно уж нет среди живых? И, признаться, такая охватывает досада на себя за то, что я так и не смог увидеть ее даже на смертном одре и поплакать о ней. Но утешаю себя тем, что рано или поздно и сам прибуду туда и смогу получить ее отпущение, – это будет моей первой задачей на том свете. Ну а пока, поскольку я еще, слава богу, здесь, мне надлежит думать о здешних делах, хотя, честно говоря, ничего в них толком не смыслю.
Войдя в комнату, в которой стонал от боли отец, я на цыпочках двинулся к шкафу, чтобы одеться в дорогу.
Когда я уже был готов и пошел мимо старого запыленного зеркала к выходу, из него вдруг глянуло неуклюжее существо в засаленном галстуке. Оно напоминало молодого Габриэля из фотографии, когда, должно быть, он еще не был гробовщиком, но уже носил на челе налет предстоящей скорби.
Большой черный костюм и широкий галстук, похожий своим узлом на грязный кулак, поднесенный к кадыку, как-то неприятно сковывали мои движения, обязывая держаться по-взрослому глупо. Но делать было нечего. В то время даже такой костюм был редкостью и, если его еще одалживали, что тоже было невероятно, конечно же нужно было этому радоваться. И я, вполне сознавая великодушие такого человека, как гробовщик, принимал его жертвенность, но радости, как таковой, не испытывал, хотя костюм своим цветом и скорбным видом как нельзя лучше соответствовал моему положению родственника на похоронах, что в этих случаях предпочтительно выделяет из праздной толпы, пришедшей пропустить несколько стаканов сухого вина, чтобы затем под видом близкого родства нацеловаться с хорошенькими девушками.
Говорят, иногда на некоторых похоронах ребята так зацеловывают своих «родственниц», что те ходят пьяными до следующих похорон…
Выслушав последние указания матери относительно выполнения похоронного обряда, я с радостью выскользнул, на улицу, чтобы сейчас же прошагать мимо калитки Нуну.
Нуну была отличная девочка, но я никогда не говорил ей об этом.
Вообще делать такое признание вредно и опасно. Девушка после этого может не в меру возгордиться и, чего доброго, сочтет тебя рабом своей красоты. Лучше всего иметь это в виду и держать язык за зубами. Потому что все равно, если она и станет вам когда-нибудь женой, вы поймете, что совершили непоправимую ошибку, назвав ее хорошей. Ибо любая девушка, какой бы она расхорошей ни была, после того как она станет вашей женой, теряет все эти качества.
Правда, тогда об этом я еще не знал, но меня удерживала интуиция. Ну а теперь, если вы хотите знать все начистоту, скажу вам, что я ни одну женщину не удостаивал этого признания в здравом уме и трезвом состоянии. И знаете почему? А потому, что бродит в моих жилах кровь мингрельца! И это кое-что значит, если вы когда-нибудь имели честь жить в Мингрелии.
Поравнявшись с калиткой Нуну с той грустной печатью на лице, что облагораживает человека, у которого умерла тетя, я еще больше углубился в свое горе. И как раз в это самое время я заметил Нуну. Она стояла на улице перед калиткой и кормила поросят яблоками-падалицами.
Заметив меня, идущего степенной походкой в скорбном костюме, она шумно фыркнула, забрасывая челку на лоб:
– Здравствуй, Гоча!
Вместо приветствия я кивнул ей головой.
Мне, по обычаю, в день похорон моей тети не полагалось произносить приветствие вслух, поскольку приветствие на нашем языке означает победу – радость! Ни победы, ни радости в этот день быть не могло. И я, чтобы осадить легкомысленное поведение Нуну, сказал ей твердо, понизив голос до таинственного шепота:
– …умерла тетя! Еду на похороны…
Но Нуну, вместо того чтобы посочувствовать моему горю, непростительно расхохоталась.
О бедная тетя Марта!
Жила она где-то на отшибе наших родственных отношений… Потому что даже мать не знала точно, где пересекаются ветви, роднящие нас с тетей Мартой. О бедная тетя Марта, какое кощунство смеяться в день твоих похорон…
С этой грустной мыслью я перешел взлетное поле аэродрома и сел в автобус.
На нем я доехал до центра города и вышел. Пересаживаться тут же на городской автобус и ехать на окраину, где предстояло проститься с тетей Мартой, подарив ей на прощание слезы, было еще рановато. К тому же, располагая временем, я решил немного успокоиться перед тем, как приступить к выполнению обряда.
Мое положение родственника обязывало меня с честью провести все основные пункты нигде не записанных правил, что не так легко проделать человеку, не искушенному в этих делах, каким был я тогда. Прежде всего, войдя во двор, я должен был сорвать с головы шапку и в сопровождении двух почетных граждан следовать под навес, убранный ветками магнолии и сосны. Затем, подойдя поближе к покойнице, заплакать в голос над ней, извлекая из частых шлепков по лбу смачные звуки великой досады и скорби, потом легонько скользнуть мимо гроба от изголовья к ногам и, резко повернув налево, где стоят обычно члены семьи из мужчин, пожать каждому руку, шепча слова утешения. Таков погребальный обряд древней Мингрелии.
Городские часы показывали двенадцать.
Солнце уже припекало так сильно, что невозможно было ходить по улице без опасения получить солнечный удар.
Сомлевшие от жары горожане толпились у киосков с газированной водой, выстроившись в длинную очередь, и жадно пили стакан за стаканом. Всю эту вялую публику города оживляли молоденькие девушки, царственно проплывавшие мимо пальмовых рядов набережной с шоколадным загаром тугого и горячего тела.
Подойдя к киоску и опрокинув два стакана холодной воды с сиропом, я поплелся к тени дома и сел на свободный стул чистильщика. Правда, туфли не требовали вмешательства этого округлого и сонного человека, но, чтобы отдохнуть в тени, я решил дать ему на легкий хлеб.
Чистильщик пренебрежительно глянул на мою обувь, стукнул щетками по площадке своего сооружения и принялся чистить.
Сидя лицом к гостинице, я с удовольствием разглядывал спортсменку, стоявшую на балконе. Вскоре и она стала смотреть в мою сторону и мило улыбаться. А когда я переставил ногу по требованию довольно нудного чистильщика, понял, как она хороша в голубых брюках, хотя предпочитал девушек в платьях. И все же я так засмотрелся, что это не прошло не замеченным чистильщиком, на что он отреагировал глупой усмешкой. Усмешка кольнула меня тем, что напомнила Нуну. И тут-то я понял, что теперь одинаково люблю и Нуну, и эту девушку в голубых брюках. И еще я подумал, что глупо ограничиваться одной любимой, если ты в состоянии полюбить сразу двух или нескольких девушек.
Не знаю, что вы скажете на этот счет, но если хотите знать мое мнение, я и сегодня готов подтвердить свою прежнюю мысль.
Это неожиданное открытие, сделанное тогда, меня успокоило. И усмешка чистильщика теперь не казалась, как прежде, злой и темной, как он сам, и я простил его.
Но вдруг в милой улыбке девушки-спортсменки, свесившейся с балкона третьего этажа, я заметил еще и нахальную насмешку над дореволюционным покроем красовавшегося на мне костюма, линялый цвет которого прямо указывал на близкое родство с облезлой животиной. Заживо замурованный в костюм гробовщика Габриэля, я все же заслуживал скорее сочувствия, чем издевки.
И скромная спортсменка не должна была позволять себе насмешки над человеком, которому сегодня и так предстояло многое пережить.
Такт – это вторая скромность, когда недостает первой…
Чтобы поднять в глазах дерзкой свое крестьянское начало до уровня разбитного парня-горожанина, я подал ей знак спуститься вниз, чем рассмешил еще больше. Тогда, доведенный ее вызывающим хохотом до отчаяния, я послал ей один довольно популярный жест, совершенно запрещенный за свою откровенность в интеллигентных кругах, с приложением к нему воздушного поцелуя, на что девушка ответила кислой миной.
Она явно не ждала от человека, завернутого в облезлый костюм, такой осведомленности в столь щепетильном вопросе… А поэтому, несколько растерявшись, приложила указательный палец к виску и яростно покрутила им, что доставило немалое удовольствие чистильщику.
Я бы не обиделся, если бы это произошло не сегодня.
Но здесь я встал! Звякнул монетами в жестяную банку чистильщика, давая ему понять, что он полностью зависим от моей благосклонности, и с достоинством зашагал к автобусной остановке.
Вскоре я мчался в новом автобусе, окрашенном в голубой веселый цвет.
Миновав городскую пекарню, а затем и Беслетский мост, автобус повернул направо и выехал на окраину, где вдоль улицы большими группами шли мужчины и женщины. Во главе групп дети несли цветочные корзины и венки. Следом за венками шли женщины с распущенными под крепдешиновыми платками волосами, в траурных платьях. Автобус, убавляя скорость, обходил эти группы и наконец, проехав еще несколько метров, остановился у обочины.
Я сразу же выскочил из автобуса и, потянувшись за одной из групп, вошел во двор покойницы, откуда доносились плач женщин и дребезжащее подвывание духового оркестра.
Посреди большого зеленого двора, в тени грушевого дерева, стоял стол, заваленный шапками.
Я приблизился к нему и, сорвав с головы шапку, стал ждать своей очереди к покойнице.
Но брезентовый шатер был забит до отказа черными платьями…
Женщины толпились у гроба и кричали вразнобой. И весь этот нестройный хор голосов покрывал густой вздох духового оркестра, доносившийся справа, из сада.
Я был уже готов подарить тете Марте молодые слезы и проститься с ней… Я смотрел на большой портрет покойницы, висевший над входом, и на мужчину, старательно развешивавшего венки на красиво убранных свежими ветками магнолии и сосны столбиках.
– Что они там возятся… – услышал я шепот утомившегося ожиданием человека.
Я перевел взгляд с портрета на траурную ленту, натянутую под портретом, чтобы прочитать дату и имя покойницы, но не мог – надпись расплывалась перед глазами… А стоявшие вокруг волновались задержкой. И кто-то, пользуясь этой заминкой, бубнил своему дружку бесстыдные слова, показывая ему девушку:
– Вот ее…
– Хороша! – восхищенно тянул другой голос.
Но вот часть женщин вышла из-под навеса во двор и растеклась в толпе. Часть забилась в углы, а те, которые состояли в близком родстве с умершей, разместились за гробом, причитая то низкими, то высокими голосами.
И тут же к нам подошли два почетных гражданина и попросили выстроиться по четыре перед навесом.
Становясь, на правах родственника, в первой четверке, я разобрал расплывчатые буквы на траурной ленте, отчего меня бросило в жар…
На ней золотыми буквами была выведена армянская фамилия, сообщая всем жителям мингрельской деревни об утрате омингрелившегося члена армянской семьи, что редко, но случается в наших краях. Большие золотые буквы гласили: ХОДЖИКЯН АНУШ ГАИКОВНА, 1898—1949.
Так что я не встретил здесь фамилии тети Марты. Но отступать было поздно. Четверка, во главе которой я стоял, тронулась с места.
О бедная тетя Марта!
Какое кощунство оплакивать незнакомую женщину…
Подойдя к покойнице, я с размаху шлепнул себя ладонями по лбу. Затем повторил шлепок, но уже больнее. Я оплакивал покойницу по всем правилам нашего обряда и в то же время наказывал себя таким способом за оплошность. В такт моим всхлипываниям и частым смачным шлепкам отвечали пронзительные вскрики женских голосов и ленивое утробное урчание духового оркестра.
Не могу сказать, как долго длился обрядовый плач, но, кажется, я сорвал всякий регламент, как это делают некоторые профсоюзные работники на собраниях.
Стоя во главе четверки, я мешал ее продвижению к выходу, а также подходу новой четверки. Она туркалась сзади, не зная, каким образом протиснуться к покойнице. Но я, упиваясь своим и чужим горем, был далек от возникшей сумятицы. Мне нужно было выплакаться так, чтобы хватило сразу на двух умерших, и я требовал того же от остальных. Но двумя почетными гражданами, оценившими мое усердие, я был выведен из-под навеса и передан для утешения претолстой женщине в траурном платье.
И чем больше утешала меня эта женщина, тем больше я плакал. Не было никаких сил сладить с собой. На сердце лежала тяжесть сознания невыполненного долга перед тетей Мартой. Наконец, когда я все же приутих, как-то сладостно икая, женщина нежно погладила меня по голове и пришила к моему пиджаку маленькую фотокарточку с изображением Ануш.
Эта фотокарточка, насколько я понимаю, была мне выдана в награду за мои особые заслуги перед умершей… Теперь она привлекала внимание людей и вызывала у них ко мне сострадание…
Я до сих пор не могу забыть этого щемящего чувства сострадания к моему горю, на что, к сожалению, не могу теперь рассчитывать в трудные минуты жизни.
Я подошел к столу с шапками и, отыскав среди множества других свою, напялил ее на голову, хотя было жарко, и потащился к выходу. Мало-помалу я начинал приходить в себя, сливаться с толпой и глазеть на машины, стоявшие на обочинах и перед чьими-то двора ми. А люди все шли и шли живым потоком проститься с Ануш. Несли по-прежнему венки, портреты ранее умерших родственников. Кто-то из близких родственников вел духовой оркестр, который, подойдя к воротам, заревел, сообщая о своей солидарности другому оркестру, расположившемуся в тени сада. Недалеко через дорогу, где простирался колхозный сад, под брезентовыми навесами стояли столы в два длинных ряда. За навесами резали хлеб, разливали вино, варили макароны и фасоль в больших котлах. Проворные девчонки с подносами хлопотали под навесом, раскладывая соленья и хлеб.
Устраивать пышные похороны в обычае наших деревень.
Мингрелец и сейчас ничего не пожалеет для похорон, поскольку именно в них проявляется его широкая натура. Не найдете вы ни одной деревни, где бы в мингрельских семьях не делались традиционные приготовления к столу в день похорон. Славить последний день усопшего пышностью стола, в чем жестоко соревнуются семьи покойных, есть своего рода мера их любви и привязанности к нему… Иногда некоторые состоятельные семьи эти траурные столы дополняют еще и осетриной в ореховом соусе, что еще дольше продлевает память об умершем.
Я думаю, что если бы ввели обычай в день похорон не есть мясного, то, возможно, не стали бы столь редкими рябчики и фазаны.
Ревностно оберегают мингрельцы похоронные обряды, привнося в них с каждым разом все новое и новое, ошеломляющее человека формой увековечения памяти…
На столах в такие дни у самого бедняка подается хорошо разваренная фасоль, заправленная специями. Соленья и свежие овощи украшаются маслинами в оливковом масле. К концу траурной трапезы подается теперь плов с изюмом. Вино преимущественно белое, более крепкое. Белый пушистый хлеб выпекают пекарни по заказу за несколько часов до начала трапезы. Одним словом, здорово поставлены дела похоронные в Мингрелии. Специально для этих нужд выделен староста, который хранит необходимую утварь. По уже решенной сумме собираются денежные вспоможения семьям, которых постигло несчастье. Сумма вроде безвыигрышного займа, погашение которого может последовать за смертью…
Мне кажется, неплохо было бы избрать еще одного старосту – оказывать помощь живым, поскольку таковые нуждаются в ней больше.
Народ, постепенно вытесненный со двора вновь пришедшими, уже стоял у колхозного сада, под кипарисовыми деревьями, украшавшими ворота в сад, и вел разговор на самые разные темы. Здесь уже мало что напоминало о похоронах. Люди, давно не видевшиеся между собой, целовались, сообщая второпях семейные новости. Но если нет-нет да и долетали сюда женские причитания и вскрики, сливающиеся с мужским воем, то стоявшие в тени деревьев начинали расспрашивать об умершей, глубоко и горько вздыхать, говорить обычное в таких случаях – что-то о бессмысленности жизни – и тут же о сказанном забывать.
Я стоял совершенно один, прислонившись плечом к тутовому дереву, затесавшемуся между кипарисами, и тоже напряженно ждал вместе с другими.
В воздухе плыл приятный запах чуть-чуть подгоревшей фасоли, и от этого запаха кружилась голова, все настойчивее напоминая о мягком хлебе и холодном лимонаде… Мучила жажда.
Так уж устроена наша жизнь с чувством вечной жажды.
Но вот под кипарисами появился седоусый старик в хорошо начищенных высоких сапогах и мягким голосом, приличествующим приглашающему, попросил пройти к столам и почтить память…
Толпа, изрядно изнуренная жарой и ожиданием этой минуты, несколько смущенно потянулась в сад с затаенной полуулыбкой.
И вскоре весело зазвякали рукомойники. Затемнели намокшие полотенца, забегали девушки с ведрами желтоватой воды. Под навесами засуетились подавальщицы, раскладывая бумажные салфетки и другие предметы к столу. У входа под навес вырос мужчина в белом халате и принялся отсортировывать мужчин от женщин, рассаживая их за разными столами.
Не думаю, чтобы такой порядок был предусмотрен в целях отлучения их друг от друга. Скорее всего, это делалось затем, чтоб спокойнее отдать дань памяти в кругу сугубо женской или мужской компании.
Итак, мужчины проходили направо, женщины – налево, отделенные большим проходом в виде коридора, и, прежде чем разместиться за своими столами, они непростительно долго суетились, наполняя навес протяжным гулом.
Вообще женщины в Мингрелии склонны придерживаться левой стороны, в отличие от своих мужей, но это нисколько не мешает сохранению семейных уз…
Я вошел последним, и меня усадили за самый край стола лицом к лицу с высоким мужчиной с нарочито выпяченными в снисходительную улыбку губами и с орлиным носом над черными с проседью усами. Рядом с ним оказался мой знакомый Мустафа. Я чуть не подпрыгнул от радости, но, вспомнив, что он собачник и на его совести жизнь моего Шарика, погасил эту радость. Этот маленький человечек с чисто выбритыми тяжелыми щеками сидел в метре от меня и стрелял по сторонам хитроватыми глазами зверька, чтобы вовремя пресечь всякого, кто посмеет посягнуть на честь…
Мустафу в те послевоенные годы знали во всех деревнях. Он ездил на подводе, специально приспособленной для перевозки собак, которых ловил он искусно. Несмотря на то что вместо правой ноги у него висела деревяшка, подбитая грубой резиной, он ходил так быстро, что редко когда удавалось улизнуть от него очередной жертве. Одним ловким движением руки Мустафа набрасывал сеть на собаку, и в минуту она оказывалась в ящике.
Таков был этот маленький человечек, неизвестно откуда взявшийся в наших краях.
Его самым любимым занятием было ходить на похороны. За день он успевал побывать на двух, а то и на трех выносах, если деревни находились в непосредственной близости друг от дружки.
Позже я много раз сталкивался с Мустафой на похоронах и был свидетелем его трогательных прощаний с покойниками.
Не соблюдая никакой очередности, один, подходил он к гробу и резко падал перед ним на колени. Три раза поклонившись земле, целовал покойника в лоб, словно даря ему часть своего тепла, и выходил со слезами на глазах. Такую дань отдавал Мустафа каждому умершему, не выделяя никого, что, несомненно, делало ему честь. И все же Мустафу не терпели в деревнях, где он появлялся, за его ремесло собачника.
– Мустафа, – обратился к нему высокий мужчина, еще больше выпячивая губы в снисходительную улыбку и скрывая за нею неприязнь к собачнику. – Ты случаем не был там? – Он показывал в сторону своего плеча фалангой большого пальца. – У Марты…
Мустафа, привыкший за свою нелегкую жизнь к издевкам, не возмутился, но на всякий случай ощерился, оскаливая желтые зубы хищника.
– Был, – сказал он как можно спокойнее, – царствие ей небесное! – И обмакнув хлеб в вино, что означало поминание души усопшей, положил на край своей тарелки и принялся за еду.
Сосед, сверкнув на Мустафу холодными белками глаз, приосанился, как орел, чтобы клюнуть его в уязвимое место. Но Мустафа не показывал неприятелю своих уязвимых мест. Напротив, сам искал их в своем неприятеле, не выпуская его из поля зрения.
– А как с планом у тебя, Мустафа? – усыпляя его внимание спокойствием голоса, вновь поинтересовался человек с выпяченными губами. – Делаешь, или как?..
– Когда как, – солидно ответил Мустафа, поднимая на соседа зоркие глаза снайпера. – Спасибо, а как у тебя табак, не горит?..
– Пусть его горит! – весело ответил тот. – Я не курю!
– Пусть, – согласился Мустафа с удовольствием, наблюдая за девушкой, разливавшей возле меня горячую фасоль из эмалированного ведра в алюминиевые миски.
Мустафа, как, впрочем, все за столом, с аппетитом принялся за горячую фасоль, заедая ее соленьями и запивая вином. Потом он подналег на маслины, помня о своем неприятеле за столом, чтобы сразить его в нужный момент.
Тамада тем временем покрывал сиплым басом рев двух оркестров, доходивший сюда. Он говорил очередной тост витиевато и длинно в честь строителей вечного жилья – могильщиков:
– Те, которые добровольно возложили на себя это грустное дело и строят нашей Ануш вечное жилье, чтобы отныне никогда никому не строили его преждевременно. Пусть их рукам в будущем будут подвластны дворцы и иные добрые сооружения на радость людям…
За столом голос тамады слышали плохо, но согласно кивали, зная как заученный смысл всех подобных тостов. Некоторые уже покидали свои места, считая, что тамада увлекся славословием, и выбирались на выход. Другие же вообще никого не слушали, образовав свою обособленную компанию, вовсе не собирались прерывать застолье так скоро. Такие высиживают до захода все новых и новых групп, чтобы разделить поминальный обряд и с ними. И ничего тут не сделаешь. Такт на похоронах – превыше всего.
Мне тогда так и не удалось досидеть до того, чтоб отведать горячей фасоли, маслин и других поминальных яств.
Девушка, разливавшая за моей спиной фасоль, нечаянно обронила полную миску горячей гущи мне на плечо и смазала картину моей благопристойности.
Горячее варево так стремительно потекло вниз, к брюкам, что обожгло даже ногу. А когда я подпрыгнул от неожиданного ожога, то зацепил рукав за острие гвоздя, спрятавшегося на мою беду у самого края стола, и разорвал его повыше локтя буквою «Г».
Сидевшие рядом и напротив меня, вместо того чтобы как-то помочь мне выйти из дурацкого положения, весело заерзали, одаривая комплиментами виновницу моего несчастья.
Девушка же, поддерживаемая ими, прыснула в кулачок, стараясь спрятать смешок. Но это плохо ей удавалось. Однако, вскоре справившись с собой, она принесла мокрое полотенце и принялась размазывать фасолевую гущу по всему пиджаку.
– Пометила, значит, – хохотал высокий мужчина, уставясь на меня выпяченными вперед губами. – Теперь хорошо бы остудить его соленьями, а потом…
Но Мустафа, долго ждавший удобного случая для уязвления своего неприятеля, поймав его снайперским оком на мушку, выстрелил:
– Уважаемый Чичико, вытрите усы, а не то… – И, проворно потянувшись рукой за салфеткой, подмигнул мне.
Видя, что назревает скандал, я встал и вышел в сопровождении девушки, осрамившей меня. Уходил в то самое время, когда подавали горячие макароны в сахаре.
Пройдя садом, мы завернули в переулок и стали подниматься по крутому склону на дорогу, где вдоль окрашенного в синий цвет кладбищенского забора тянулись ряды кипарисов.
– Теперь уже скоро, – сказала моя спутница, показывая рукою на дом, в котором обещала зашить и вычистить мой костюм.
Мы преодолели довольно крутой подъем, и дорога вдруг выровнялась, подставляя то тут, то там темноватые бока уродливых каменных глыб. Слева, на кладбище, в двух разных местах стояли оголенные по пояс ребята и утоляли жажду красным вином, передавая друг другу полные стаканы. Вдоль уже выкопанных ям подсыхали горки из красной глины. На них лежали заступы, сделавшие свое нехитрое дело.
Когда мы поравнялись с железными воротами кладбища, один из могильщиков звонко прищелкнул языком. Потом он что-то сказал стоявшим рядом напарникам, отчего те, взглянув в нашу сторону, сразу же сверкнули зубами.
– Эй, красавица, заходи к нам! – сказал один из них, подняв заступ и опершись на него.
Могильщики, стоявшие у другой ямы, с интересом ждали, что скажет моя спутница, сохраняя при этом вид, вполне приличествующий такому месту, как кладбище.
А девушка приостановилась и, отвечая на улыбку улыбкой, крикнула:
– Ждите! Через сто обязательно!..
Один из могильщиков, должно быть самый искушенный в дерзости, почесал затылок и, не переставая улыбаться, сказал:
– Мы кое-что и другое умеем…








